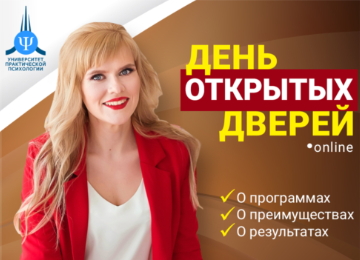- Книги
- Гиппенрейтер Юлия Борисовна. «Введение в общую психологию»
Гиппенрейтер Юлия Борисовна. «Введение в общую психологию»
Купить и скачать книгу можно на ЛитРес

Учебное пособие
Моему мужу и другу
Алексею Николаевичу Рудакову
посвящаю
ПРЕДИСЛОВИЕ
ко второму изданию
Настоящее издание «Введения в общую психологию» полностью повторяет первое 1988 г.
Предложение переиздать книгу в ее первоначальном виде оказалось для меня неожиданным и вызвало некоторые сомнения: возникла мысль, что, если уж переиздавать, то в измененном, а главное — дополненном виде. Было очевидно, что такая доработка потребует немало сил и времени. Вместе с тем высказывались соображения в пользу ее быстрого переиздания: книга пользуется большим спросом и давно стала остродефицитной.
Хочу очень поблагодарить многих читателей за положительные отзывы о содержании и стиле «Введения». Эти отзывы, спрос и ожидания читателей определили мое решение согласиться на переиздание «Введения» в его настоящем виде и одновременно взяться за подготовку нового, более полного его варианта. Надеюсь, силы и условия позволят осуществить этот замысел в не очень отдаленном будущем.
Проф. Ю. Б. Гиппенрейтер
Март, 1996 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие подготовлено на основе курса лекций «Введение в общую психологию», который я читала для студентов I курса факультета психологии Московского университета на протяжении ряда последних лет. Первый цикл этих лекций был прочитан в 1976 г. и отвечал новой программе (ранее первокурсники изучали «Эволюционное введение в психологию»).
Замысел новой программы принадлежал А. Н. Леонтьеву. Согласно его пожеланию, в вводном курсе следовало раскрыть фундаментальные понятия, такие как «психика», «сознание», «поведение», «деятельность», «бессознательное», «личность»; рассмотреть основные проблемы и подходы психологической науки. Это, по его словам, следовало делать так, чтобы посвятить студентов в «загадки» психологии, пробудить к ним интерес, «завести мотор».
В последующие годы программа «Введения» неоднократно обсуждалась и дорабатывалась широким составом профессоров и преподавателей кафедры общей психологии. В настоящее время вводный курс охватывает уже все разделы общей психологии и читается в течение первых двух семестров. По общему замыслу он в сжатой и популярной форме отражает то, что студенты затем подробно и углубленно проходят в отдельных разделах основного курса «Общая психология».
Главная методическая проблема «Введения», на наш взгляд, состоит в необходимости сочетать широту охватываемого материала, его фундаментальность (ведь речь идет о базовой подготовке профессиональных психологов) с его относительной простотой, доходчивостью и внимательностью изложения. Как ни заманчиво звучит известный афоризм, что психология делится на научную и интересную, в преподавании он не может служить ориентиром: неинтересно поданная на первых шагах изучения научная психология не только не «заведет» никакою «мотора», но, как показывает педагогическая практика, будет просто плохо понята.
Сказанное делает очевидным, что к идеальному решению всех задач «Введения» можно прийти только методом последовательного приближения, только в результате продолжающихся педагогических поисков. Настоящее пособие следует рассматривать как начало подобных поисков.
Моя постоянная забота состояла в том, чтобы делать изложение трудных, а иногда и весьма запутанных вопросов психологии доступным и по возможности живым. Для этого приходилось идти на неизбежные упрощения, максимально сокращать изложение теорий и, наоборот, широко привлекать фактический материал — примеры из психологических исследований, художественной литературы и просто «из жизни». Они должны были не только иллюстрировать, но также раскрывать, уточнять, наполнять смыслом научные понятия и формулировки.
Практика преподавания показывает, что начинающим психологам, особенно молодым людям, пришедшим со школьной скамьи, очень не хватает жизненного опыта и знания психологических фактов. Без этой эмпирической основы их знания, приобретаемые в учебном процессе, оказываются весьма формальными и потому неполноценными. Усвоив научные формулы и понятия, студенты слишком часто затрудняются в их применении.
Вот почему обеспечение лекций возможно более солидным эмпирическим фундаментом мне представлялось совершенно необходимой методической стратегией данного курса.
Жанр лекций допускает в рамках программы некоторую свободу в выборе тем и определении объема, отводимого на каждую из них.
Выбор тем лекций данного курса определился рядом соображений — их теоретической значимостью, особенной разработанностью их в рамках советской психологии, традициями преподавания на факультете психологии МГУ, наконец, личными предпочтениями автора.
Некоторые темы, особенно те из них, которые до сих пор недостаточно освещены в учебной литературе, нашли в лекциях более обстоятельную проработку (например, «Проблема самонаблюдения», «Неосознаваемые процессы», «Психофизическая проблема и др.). Конечно, неизбежным следствием явилось ограничение круга рассматриваемых тем. Кроме того, в пособие включены лекции, читаемые лишь в первом семестре 1 курса (т. е. не вошли лекции по отдельным процессам: «Ощущение», «Восприятие», «Внимание», «Память» и др.). Таким образом, настоящие лекции следует рассматривать как избранные лекции «Введения».
Несколько слов о структуре и композиции пособия. Основной материал распределен по трем разделам, причем они выделены не по какому-либо одному, «линейному» принципу, а по достаточно разным основаниям.
Первый раздел представляет собой попытку подвести к некоторым основным проблемам психологии через историю развития взглядов на предмет психологии. Такой исторический подход представляется полезным в нескольких отношениях. Во-первых, он вовлекает в главную «загадку» научной психологии — в вопрос о том, что и как она должна изучать. Во-вторых, помогает глубже понять смысл и даже пафос современных ответов. В-третьих, приучает корректно относиться к существующим конкретно-научным теориям и взглядам, понимая их относительную истинность, необходимость дальнейшего развития и неизбежность смены.
Во втором разделе рассматривается ряд фундаментальных проблем психологической науки с позиций диалектико-материалистического представления о психике. Он начинается со знакомства с психологической теорией деятельности А. Н. Леонтьева, которая служит затем теоретической базой для раскрытия остальных тем раздела. Обращение к этим темам осуществляется уже по «радиальному» принципу, т. е. от обшей теоретической основы — к разным, не обязательно непосредственно связанным между собой проблемам. Тем не менее они объединяются в три крупных направления: это рассмотрение биологических аспектов психики, ее физиологических основ (на примере физиологии движений), наконец, социальных аспектов психики человека.
Третий раздел служит непосредственным продолжением и развитием третьего направления. Он посвящен проблемам человеческой индивидуальности и личности. Основные понятия «индивид» и «личность» здесь также раскрываются с позиций психологической теории деятельности. Темам «Характер» и «Личность» уделено в лекциях относительно большое внимание потому, что они не только интенсивно разрабатываются в современной психологии и имеют важные практические выходы, но и наиболее соответствуют личным познавательным потребностям студентов: многие из них пришли в психологию, чтобы научиться понимать себя и других. Эти их стремления, конечно, должны найти поддержку в учебном процессе, и чем раньше, тем лучше.
Мне казалось также очень важным знакомить студентов с именами наиболее крупных психологов прошлого и настоящего, с отдельными моментами их личной и научной биографии. Такое приближение к «личностным» аспектам творчества ученых очень способствует собственному включению учащихся в науку, пробуждению эмоционального отношения к ней. В лекциях содержится большое количество обращений к оригинальным текстам, знакомство с которыми облегчено выходом в издательстве МГУ серий хрестоматий по психологии. Несколько тем курса раскрываются путем прямого анализа научного наследия того или иного ученого. Среди них — концепция развития высших психических функций Л. С. Выготского, теория деятельности А. Н. Леонтьева, физиология движений и физиология активности Н. А. Бернштейна, психофизиология индивидуальных различий Б. М. Теплова и др.
Как уже отмечалось, главной теоретической канвой настоящих лекций явилась психологическая теория деятельности А. Н. Леонтьева. Эта теория органически вошла в мировоззрение автора — со студенческих лет мне посчастливилось учиться у этого выдающегося психолога и затем многие годы работать под его руководством.
А Н Леонтьев успел просмотреть первый вариант этой рукописи. Его замечания и рекомендации я постаралась реализовать с максимальной ответственностью и чувством глубокой благодарности.
Профессор Ю. Б. Гиппенрейтер
Раздел I
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИИ.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРЕДМЕТЕ ПСИХОЛОГИИ
Лекция 1
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКЕ
ЗАДАЧА КУРСА. ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИИ КАК НАУКИ. НАУЧНАЯ И ЖИТЕЙСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ. ПРОБЛЕМА ПРЕДМЕТА ПСИХОЛОГИИ. ПСИХИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Эта лекция открывает курс «Введение в общую психологию». Задача курса — познакомить вас с основными понятиями и проблемами общей психологии. Мы коснемся также немного ее истории, в той мере, в какой это будет необходимо для раскрытия некоторых фундаментальных проблем, например проблемы предмета и метода. Мы познакомимся также с именами некоторых выдающихся ученых далекого прошлого и настоящего, их вкладами в развитие психологии.
Многие темы вы будете изучать затем более подробно и на более сложном уровне — в общих и специальных курсах. Некоторые же из них будут обсуждены только в этом курсе, и их освоение совершенно необходимо для вашего дальнейшего психологического образования.
Итак, самая общая задача «Введения» — заложить фундамент ваших психологических знаний.
Скажу несколько слов об особенностях психологии как науки.
В системе наук психологии должно быть отведено совершенно особое место, и вот по каким причинам.
Во-первых, это наука о самом сложном, что пока известно человечеству. Ведь психика — это «свойство высокоорганизованной материи». Если же иметь в виду психику человека, то к словам «высокоорганизованная материя» нужно прибавить слово «самая»: ведь мозг человека — это самая высокоорганизованная материя, известная нам.
Знаменательно, что с той же мысли начинает свой трактат «О душе» выдающийся древнегреческий философ Аристотель. Он считает, что среди прочих знаний исследованию о душе следует отвести одно из первых мест, так как «оно — знание о наиболее возвышенном и удивительном» [8, с. 371].
Во-вторых, психология находится в особом положении потому, что в ней как бы сливаются объект и субъект познания.
Чтобы пояснить это, воспользуюсь одним сравнением. Вот рождается на свет человек. Сначала, пребывая в младенческом возрасте, он не осознает и не помнит себя. Однако развитие его идет быстрыми темпами. Формируются его физические и психические способности; он учится ходить, видеть, понимать, говорить. С помощью этих способностей он познает мир; начинает действовать в нем; расширяется круг его общения. И вот постепенно из глубины детства приходит к нему и постепенно нарастает совершенно особое ощущение — ощущение собственного «Я». Где-то в подростковом возрасте оно начинает приобретать осознанные формы. Появляются вопросы: «Кто я? Какой я?», а позже и «Зачем я?». Те психические способности и функции, которые до сих пор служили ребенку средством для освоения внешнего мира — физического и социального, обращаются на познание самого себя; они сами становятся предметом осмысления и осознания.
Точно такой же процесс можно проследить в масштабе всего человечества. В первобытном обществе основные силы людей уходили на борьбу за существование, на освоение внешнего мира. Люди добывали огонь, охотились на диких животных, воевали с соседними племенами, получали первые знания о природе.
Человечество того периода, подобно младенцу, не помнит себя. Постепенно росли силы и возможности человечества. Благодаря своим психическим способностям люди создали материальную и духовную культуру; появились письменность, искусства, науки. И вот наступил момент, когда человек задал себе вопросы: что это за силы, которые дают ему возможность творить, исследовать и подчинять себе мир, какова природа его разума, каким законам подчиняется его внутренняя, душевная, жизнь?
Этот момент и был рождением самосознания человечества, т. с. рождением психологического знания.
Событие, которое когда-то произошло, можно коротко выразить так: если раньше мысль человека направлялась на внешний мир, то теперь она обратилась на саму себя. Человек отважился на то, чтобы с помощью мышления начать исследовать само мышление.
Итак, задачи психологии несоизмеримо сложнее задач любой другой науки, ибо только в ней мысль совершает поворот на себя. Только в ней научное сознание человека становится его научным самосознанием.
Наконец, в-третьих, особенность психологии заключается в ее уникальных практических следствиях.
Практические результаты от развития психологии должны стать не только несоизмеримо значительнее результатов любой другой науки, но и качественно другими. Ведь познать нечто — значит овладеть этим «нечто», научиться им управлять.
Научиться управлять своими психическими процессами, функциями, способностями — задача, конечно, более грандиозная, чем, например, освоение космоса. При этом надо особенно подчеркнуть, что, познавая себя, человек будет себя изменять.
Психология уже сейчас накопила много фактов, показывающих, как новое знание человека о себе делает его другим: меняет его отношения, цели, его состояния и переживания. Если же снова перейти к масштабу всего человечества, то можно сказать, что психология — это наука, не только познающая, но и конструирующая, созидающая человека.
И хотя это мнение не является сейчас общепринятым, в последнее время все громче звучат голоса, призывающие осмыслить эту особенность психологии, которая делает ее наукой особого типа.
В заключение надо сказать, что психология — очень молодая наука. Это более или менее понятно: можно сказать, что, как и у вышеупомянутого подростка, должен был пройти период становления духовных сил человечества, чтобы они стали предметом научной рефлексии.
Официальное оформление научная психология получила немногим более 100 лет назад, а именно в 1879 г.: в этом году немецкий психолог В. Вундт открыл в г. Лейпциге первую лабораторию экспериментальной психологии.
Появлению психологии предшествовало развитие двух больших областей знания: естественных наук и философий; психология возникла на пересечении этих областей, поэтому до сих пор не определено, считать психологию естественной наукой или гуманитарной. Из вышесказанного следует, что ни один из этих ответов, по-видимому, не является правильным. Еще раз подчеркну: это — наука особого типа.
Перейдем к следующему пункту нашей лекции — вопросу о соотношении научной и житейской психологии.
Любая наука имеет в качестве своей основы некоторый житейский, эмпирический опыт людей. Например, физика опирается на приобретаемые нами в повседневной жизни знания о движении и падении тел, о трении и инерции, о свете, звуке, теплоте и многом другом.
Математика тоже исходит из представлений о числах, формах, количественных соотношениях, которые начинают формироваться уже в дошкольном возрасте.
Но иначе обстоит дело с психологией. У каждого из нас есть запас житейских психологических знаний. Есть даже выдающиеся житейские психологи. Это, конечно, великие писатели, а также некоторые (хотя и не все) представители профессий, предполагающих постоянное общение с людьми: педагоги, врачи, священнослужители и др. Но, повторяю, и обычный человек располагает определенными психологическими знаниями. Об этом можно судить по тому, что каждый человек в какой-то мере может понять другого, повлиять на его поведение, предсказать его поступки, учесть его индивидуальные особенности, помочь ему и т. п.
Давайте задумаемся над вопросом: чем же отличаются житейские психологические знания от научных? Я назову вам пять таких отличий.
Первое: житейские психологические знания конкретны; они приурочены к конкретным ситуациям, конкретным людям, конкретным задачам. Говорят, официанты и водители такси — тоже хорошие психологи. Но в каком смысле, для решения каких задач? Как мы знаем, часто — довольно прагматических. Также конкретные прагматические задачи решает ребенок, ведя себя одним образом с матерью, другим — с отцом, и снова совсем иначе — с бабушкой. В каждом конкретном случае он точно знает, как надо себя вести, чтобы добиться желаемой цели. Но вряд ли мы можем ожидать от него такой же проницательности в отношении чужих бабушки или мамы. Итак, житейские психологические знания характеризуются конкретностью, ограниченностью задач, ситуаций и лиц, на которые они распространяются.
Научная же психология, как и всякая наука, стремится к обобщениям. Для этого она использует научные понятия. Отработка понятий — одна из важнейших функций науки. В научных понятиях отражаются наиболее существенные свойства предметов и явлений, общие связи и соотношения. Научные понятия четко определяются, соотносятся друг с другом, связываются в законы.
Например, в физике благодаря введению понятия силы И. Ньютону удалось описать с помощью трех законов механики тысячи различных конкретных случаев движения и механического взаимодействия тел.
То же происходит и в психологии. Можно очень долго описывать человека, перечисляя в житейских терминах его качества, черты характера, поступки, отношения с другими людьми. Научная же психология ищет и находит такие обобщающие понятия, которые не только экономизируют описания, но и за конгломератом частностей позволяют увидеть общие тенденции и закономерности развития личности и ее индивидуальные особенности. Нужно отметить одну особенность научных психологических понятий: они часто совпадают с житейскими по своей внешней форме, т. е. попросту говоря, выражаются теми же словами. Однако внутреннее содержание, значения этих слов, как правило, различны. Житейские термины обычно более расплывчаты и многозначны.
Однажды старшеклассников попросили письменно ответить на вопрос: что такое личность? Ответы оказались очень разными, а один учащийся ответил так: «Это то, что следует проверить по документам». Я не буду сейчас говорить о том, как понятие «личность» определяется в научной психологии, — это сложный вопрос, и мы им специально займемся позже, на одной из последних лекций. Скажу только, что определение это сильно расходится с тем, которое было предложено упомянутым школьником.
Второе отличие житейских психологических знаний состоит в том, что они носят интуитивный характер. Это связано с особым способом их получения: они приобретаются путем практических проб и прилаживаний.
Подобный способ особенно отчетливо виден у детей. Я уже упоминала об их хорошей психологической интуиции. А как она достигается? Путем ежедневных и даже ежечасных испытаний, которым они подвергают взрослых и о которых последние не всегда догадываются. И вот в ходе этих испытаний дети обнаруживают, из кого можно «вить веревки», а из кого нельзя.
Часто педагоги и тренеры находят эффективные способы воспитания, обучения, тренировки, идя тем же путем: экспериментируя и зорко подмечая малейшие положительные результаты, т. е. в определенном смысле «идя на ощупь». Нередко они обращаются к психологам с просьбой объяснить психологический смысл найденных ими приемов.
В отличие от этого научные психологические знания рациональны и вполне осознанны. Обычный путь состоит в выдвижении словесно формулируемых гипотез и проверке логически вытекающих из них следствий.
Третье отличие состоит в способах передачи знаний и даже в самой возможности их передачи. В сфере практической психологии такая возможность весьма ограничена. Это непосредственно вытекает из двух предыдущих особенностей житейского психологического опыта — его конкретного и интуитивного характера. Глубокий психолог Ф. М. Достоевский выразил свою интуицию в написанных им произведениях, мы их все прочли — стали мы после этого столь же проницательными психологами? Передается ли житейский опыт от старшего поколения к младшему? Как правило, с большим трудом и в очень незначительной степени. Вечная проблема «отцов и детей» состоит как раз в том, что дети не могут и даже не хотят перенимать опыт отцов. Каждому новому поколению, каждому молодому человеку приходится самому «набивать шишки» для приобретения этого опыта.
В то же время в науке знания аккумулируются и передаются с большим, если можно так выразиться, КПД. Кто-то давно сравнил представителей науки с пигмеями, которые стоят на плечах у великанов — выдающихся ученых прошлого. Они, может быть, гораздо меньше ростом, но видят дальше, чем великаны, потому что стоят на их плечах. Накопление и передача научных знаний возможна благодаря тому, что эти знания кристаллизуются в понятиях и законах. Они фиксируются в научной литературе и передаются с помощью вербальных средств, т. е. речи и языка, чем мы, собственно говоря, и начали сегодня заниматься.
Четвертое различие состоит в методах получения знаний в сферах житейской и научной психологии. В житейской психологии мы вынуждены ограничиваться наблюдениями и размышлениями. В научной психологии к этим методам добавляется эксперимент.
Суть экспериментального метода состоит в том, что исследователь не ждет стечения обстоятельств, в результате которого возникает интересующее его явление, а вызывает это явление сам, создавая соответствующие условия. Затем он целенаправленно варьирует эти условия, чтобы выявить закономерности, которым данное явление подчиняется. С введением в психологию экспериментального метода (открытия в конце прошлого века первой экспериментальной лаборатории) психология, как я уже говорила, оформилась в самостоятельную науку.
Наконец, пятое отличие, и вместе с тем преимущество, научной психологии состоит в том, что она располагает обширным, разнообразным и подчас уникальным фактическим материалом, недоступным во всем своем объеме ни одному носителю житейской психологии. Материал этот накапливается и осмысливается, в том числе в специальных отраслях психологической науки, таких, как возрастная психология, педагогическая психология, пато- и нейропсихология, психология труда и инженерная психология, социальная психология, зоопсихология и др. В этих областях, имея дело с различными стадиями и уровнями психического развития животных и человека, с дефектами и болезнями психики, с необычными условиями труда — условиями стресса, информационных перегрузок или, наоборот, монотонии и информационного голода, — психолог не только расширяет круг своих исследовательских задач, но и сталкивается с новыми неожиданными явлениями. Ведь рассмотрение работы какого-либо механизма в условиях развития, поломки или функциональной перегрузки с разных сторон высвечивает его структуру и организацию.
Приведу короткий пример. Вы, конечно, знаете, что у нас в г. Загорске существует специальный интернат для слепоглухонемых детей. Это дети, у которых нет слуха, нет зрения и, конечно, первоначально нет речи. Главный «канал», через который они могут вступать в контакт с внешним миром, — это осязание.
И вот через этот чрезвычайно узкий канал в условиях специального обучения они начинают познавать мир, людей и себя! Процесс этот, особенно вначале, идет очень медленно, он развернут во времени и во многих деталях может быть увиден как бы через «временную лупу» (термин, который использовали для описания этого феномена известные советские ученые А. И. Мещеряков и Э. В. Ильенков). Очевидно, что в случае развития нормального здорового ребенка многое проходит слишком быстро, стихийно и незамечено. Таким образом, помощь детям в условиях жестокого эксперимента, который поставила над ними природа, помощь, организуемая психологами совместно с педагогами-дефектологами, превращается одновременно в важнейшее средство познания общих психологических закономерностей — развития восприятия, мышления, личности.
Итак, обобщая, можно сказать, что разработка специальных отраслей психологии является Методом (методом с большой буквы) общей психологии. Такого метода лишена, конечно, житейская психология.
Теперь, когда мы убедились в целом ряде преимуществ научной психологии перед житейской, уместно поставить вопрос: а какую позицию научные психологи должны занять по отношению к носителям житейской психологии?
Предположим, вы окончили университет, стали образованными специалистами-психологами. Вообразите себя в этом состоянии. А теперь вообразите рядом с собой какого-нибудь мудреца, необязательно живущего сегодня, какого-нибудь древнегреческого философа, например. Этот мудрец — носитель многовековых размышлений людей о судьбах человечества, о природе человека, его проблемах, его счастье. Вы — носитель научного опыта, качественно другого, как мы только что видели. Так какую же позицию вы должны занять по отношению к знаниям и опыту мудреца? Вопрос этот не праздный, он неизбежно рано или поздно встанет перед каждым из вас: как должны соотноситься в вашей голове, в вашей душе, в вашей деятельности эти два рода опыта?
Я хотела бы предупредить вас об одной ошибочной позиции, которую, впрочем, нередко занимают психологи с большим научным стажем. «Проблемы человеческой жизни. — говорят они, — нет, я ими не занимаюсь. Я занимаюсь научной психологией. Я разбираюсь в нейронах, рефлексах, психических процессах, а не в «муках творчества».
Имеет ли эта позиция некоторые основания? Сейчас мы уже можем ответить на этот вопрос: да, имеет. Эти некоторые основания состоят в том, что упомянутый научный психолог вынужден был в процессе своего образования сделать шаг в мир отвлеченных общих понятий, он вынужден был вместе с научной психологией, образно говоря, загнать жизнь in vitro (в пробирку (лат.)), «разъять» душевную жизнь «на части». Но эти необходимые действия произвели над нею слишком большое впечатление. Он забыл, с какой целью делались эти необходимые шаги, какой путь предполагался дальше. Он забыл или не дал себе труда осознать, что великие ученые — его предшественники вводили новые понятия и теории, выделяя существенные стороны реальной жизни, предполагая затем вернуться к ее анализу с новыми средствами.
История науки, в том числе психологии, знает немало примеров того, как ученый в малом и абстрактном усматривал большое и жизненное. Когда И. В. Павлов впервые зарегистрировал условнорефлекторное отделение слюны у собаки, он заявил, что через эти капли мы в конце концов проникнем в муки сознания человека. Выдающийся советский психолог Л. С. Выготский увидел в «курьезных» действиях типа завязывания узелка на память способы овладения человеком своим поведением.
О том, как видеть в малых фактах отражение общих принципов и как переходить от общих принципов к реальным жизненным проблемам, вы нигде не прочтете. Вы можете развить в себе эти способности, впитывая лучшие образцы, заключенные в научной литературе. Только постоянное внимание к таким переходам, постоянное упражнение в них может сформировать у вас чувство «биения жизни» в научных занятиях. Ну а для этого, конечно, совершенно необходимо обладать житейскими психологическими знаниями, возможно более обширными и глубокими.
Уважение и внимание к житейскому опыту, его знание предостерегут вас еще от одной опасности. Дело в том, что, как известно, в науке нельзя ответить на один вопрос без того, чтобы не возникло десять новых. Но новые вопросы бывают разные: «дурные» и правильные. И это не просто слова. В науке существовали и существуют, конечно, целые направления, которые заходили в тупик. Однако, прежде чем окончательно прекратить свое существование, они некоторое время работали вхолостую, отвечая на «дурные» вопросы, которые порождали десятки других дурных вопросов.
Развитие науки напоминает движение по сложному лабиринту со многими тупиковыми ходами. Чтобы выбрать правильный путь, нужно иметь, как часто говорят, хорошую интуицию, а она возникает только при тесном контакте с жизнью.
В конечном счете мысль моя простая: научный психолог должен быть одновременно хорошим житейским психологом. Иначе он не только будет малополезен науке, но и не найдет себя в своей профессии, попросту говоря, будет несчастен. Мне бы очень хотелось уберечь вас от этой участи.
Один профессор сказал, что если его студенты за весь курс усвоят одну-две основные мысли, он сочтет свою задачу выполненной. Мое желание менее скромно: хотелось бы, чтобы вы усвоили одну мысль уже за одну эту лекцию. Мысль эта следующая: отношения научной и житейской психологии подобны отношениям Антея и Земли; первая, прикасаясь ко второй, черпает из нее свою силу.
Итак, научная психология, во-первых, опирается на житейский психологический опыт; во-вторых, извлекает из него свои задачи; наконец, в-третьих, на последнем этапе им проверяется.
А теперь мы должны перейти к более близкому знакомству с научной психологией.
Знакомство с любой наукой начинается с определения ее предмета и описания круга явлений, которые она изучает. Что же является предметом психологии? На этот вопрос можно ответить двумя способами. Первый способ более правильный, но и более сложный. Второй — относительно формальный, но зато краткий.
Первый способ предполагает рассмотрение различных точек зрения на предмет психологии — так, как они появлялись в истории науки; анализ оснований, почему эти точки зрения сменяли друг друга; знакомство с тем, что в конечном счете от них осталось и какое понимание сложилось на сегодняшний день.
Все это мы будем рассматривать в последующих лекциях, а сейчас ответим кратко.
Слово «психология» в переводе на русский язык буквально означает «наука о душе» (гр. psyche — «душа» + logos — «понятие», «учение»).
В наше время вместо понятия «душа» используется понятие «психика», хотя в языке до сих пор сохранилось много слов и выражений, производных от первоначального корня: одушевленный, душевный, бездушный, родство душ, душевная болезнь, задушевный разговор и т. п.
С лингвистической точки зрения «душа» и «психика» — одно и то же. Однако с развитием культуры и особенно науки значения этих понятий разошлись. Об этом мы будем говорить позже.
Чтобы составить предварительное представление о том, что такое «психика», рассмотрим психические явления. Под психическими явлениями обычно понимают факты внутреннего, субъективного, опыта.
Что такое внутренний, или субъективный, опыт? Вы сразу поймете, о чем идет речь, если обратите взор «внутрь себя». Вам хорошо знакомы ваши ощущения, мысли, желания, чувства.
Вы видите это помещение и все, что в нем находится; слышите, что я говорю, и пытаетесь это понять; вам может быть сейчас радостно или скучно, вы что-то вспоминаете, переживаете какие-то стремления или желания. Все перечисленное — элементы вашего внутреннего опыта, субъективные или психические явления.
Фундаментальное свойство субъективных явлений — их непосредственная представленность субъекту. Что это означает?
Это означает, что мы не только видим, чувствуем, мыслим, вспоминаем, желаем, но и знаем, что видим, чувствуем, мыслим; не только стремимся, колеблемся или принимаем решения, но и знаем об этих стремлениях, колебаниях, решениях. Иными словами, психические процессы не только происходят в нас, но также непосредственно нам открываются. Наш внутренний мир — это как бы большая сцена, на которой происходят различные события, а мы являемся одновременно и действующими лицами, и зрителями.
Эта уникальная особенность субъективных явлений открываться нашему сознанию поражала воображение всех, кто задумывался над психической жизнью человека. А на некоторых ученых она произвела такое впечатление, что они связали с ней решение двух фундаментальных вопросов: о предмете и о методе психологии.
Психология, считали они, должна заниматься только тем, что переживается субъектом и непосредственно открывается его сознанию, а единственный метод (т. е. способ) изучения этих явлений — самонаблюдение. Однако этот вывод был преодолен дальнейшим развитием психологии.
Дело в том, что существует целый ряд других форм проявления психики, которые психология выделила и включила в круг своего рассмотрения. Среди них — факты поведения, неосознаваемые психические процессы, психосоматические явления, наконец, творения человеческих рук и разума, т. е. продукты материальной и духовной культуры. Во всех этих фактах, явлениях, продуктах психика проявляется, обнаруживает свои свойства и поэтому через них может изучаться. Однако к этим выводам психология пришла не сразу, а в ходе острых дискуссий и драматических трансформаций представлений о ее предмете.
В нескольких последующих лекциях мы подробно рассмотрим, как в процессе развития психологии расширялся круг изучаемых ею феноменов. Этот анализ поможет нам освоить целый ряд основных понятий психологической науки и составить представление о некоторых ее основных проблемах.
Сейчас же в порядке подведения итога зафиксируем важное для нашего дальнейшего движения различие между психическими явления и психологическими фактами. Под психическими явлениями понимаются субъективные переживания или элементы внутреннего опыта субъекта.
Под психологическими фактами подразумевается гораздо более широкий круг проявлений психики, в том числе их объективные формы (в виде актов поведения, телесных процессов, продуктов деятельности людей, социально-культурных явлений), которые используются психологией для изучения психики — ее свойств, функций, закономерностей.
Лекция 2
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДРЕВНИХ ФИЛОСОФОВ О ДУШЕ. ПСИХОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ
ВОПРОС О ПРИРОДЕ ДУШИ;
ДУША КАК ОСОБАЯ СУЩНОСТЬ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДУШИ И ТЕЛА;
ЭТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ. ФАКТЫ СОЗНАНИЯ. ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИИ СОЗНАНИЯ;
СВОЙСТВА СОЗНАНИЯ;
ЭЛЕМЕНТЫ СОЗНАНИЯ
С этой лекции мы начинаем более систематически рассматривать вопрос о том, как в различные эпохи и периоды развития психологии менялись взгляды на ее предмет.
Психология зародилась в недрах философии, и первые представления о ее предмете связывались с понятием «душа». Практически все древние философы пытались выразить с помощью этого понятия самое главное, сущностное, начало любого предмета живой (а иногда и неживой) природы, рассматривая ее как причину жизни, дыхания, познания и т. п.
Вопрос о природе души решался философами в зависимости от принадлежности их к материалистическому или идеалистическому лагерю.
Так, Демокрит (460-370 гг. до н. э.) считал, что душа — это материальное вещество, которое состоит из атомов огня, шарообразных, легких и очень подвижных. Все явления душевной жизни Демокрит пытался объяснить физическими и даже механическими причинами. Так, по его мнению, душа получает ощущения от внешнего мира благодаря тому, что ее атомы приводятся в движение атомами воздуха или атомами, непосредственно «истекающими» от предметов. Материализм Демокрита носил наивный механистический характер.
Гораздо более сложное представление о душе развил Аристотель (384-322 гг. до н. э.). Его трактат «О душе» —первое специально психологическое сочинение, которое в течение многих веков оставалось главным руководством по психологии. Сам Аристотель по праву считается основателем психологии, как, впрочем, и целого ряда других наук.
Аристотель отрицал взгляд на душу как на вещество. В то же время он не считал возможным рассматривать душу в отрыве от материи (живых тел), как это делали философы-идеалисты. Для определения природы души он использовал сложную философскую категорию «энтелехия», которая означает существование чего-то.
«…Душа, — писал он, — необходимо есть сущность в смысле формы естественного тела, обладающего в возможности жизнью. Сущность же (как форма) есть энтелехия; стало быть, душа есть энтелехия такого тела» [8, с. 394]. Один привлекаемый Аристотелем образ хорошо помогает понять смысл этого определения. «Если бы глаз был живым существом, — пишет Аристотель, — то душой его было бы зрение» [8, с. 395]. Итак, душа есть сущность живого тела, «осуществление» его бытия, так же как зрение — сущность и «осуществление» глаза как органа зрения.
Аристотель заложил глубокие основы естественно-научного подхода к изучению психики. Советский философ В. Ф. Асмус характеризует его как «подлинного отца будущей материалистической психологии» [10, с. 62]. Главная функция души, по Аристотелю, — реализация биологического существования организма. Нужно сказать, что такое представление закрепилось впоследствии за понятием «психика»: с точки зрения материалистического естествознания психика явилась одним из факторов эволюции животного мира (см. Лекцию 11). Что же касается понятия «душа», то оно все более сужалось до отражения преимущественно идеальных, «метафизических» и этических проблем существования человека. Основы такого понимания души были заложены философами-идеалистами, и прежде всего Платоном (427-347 гг. до н. э.). Познакомимся с его взглядами несколько более подробно.
Когда говорят о Платоне, то сразу же появляется на сцене имя другого знаменитого античного философа — Сократа (470-399 гг. до н. э.). Почему эти два имени появляются вместе?
Дело в том, что Платон был учеником Сократа, а Сократ не написал ни одной строчки. Он был философом, который проповедовал собственные взгляды устно, в форме бесед. Свои дни он проводил в том, что ходил по улицам Афин, сидел на рыночной площади и беседовал с людьми, людьми очень разными. Это были и простые горожане, и приезжие философы, и его собственные ученики.
В двадцатилетнем возрасте Платон встретил Сократа, и эта встреча перевернула его жизнь. Он оставался с Сократом до самой его смерти, т. с. примерно 7-8 лет. Впоследствии все произведения Платона были написаны в форме диалогов, где главное действующее лицо — Сократ. Так и осталось неизвестным, какая часть идей, которые мы находим у Платона, принадлежит ему, а какая — Сократу. Скорее всего, в текстах Платона органически соединились взгляды обоих этих великих философов.
В текстах Платона мы обнаруживаем взгляд на душу как на самостоятельную субстанцию; она существует наряду с телом и независимо от него. Душа — начало незримое, возвышенное, божественное, вечное. Тело — начало зримое, низменное, преходящее, тленное.
Душа и тело находятся в сложных взаимоотношениях друг с другом. По своему божественному происхождению душа призвана управлять телом, направлять жизнь человека. Однако иногда тело берет душу в свои оковы. Тело раздираемо различными желаниями и страстями. Оно заботится о пропитании, подвержено недугам, страхам, соблазнам. Войны и ссоры происходят из-за потребностей тела. Оно мешает также чистому познанию.
Во взглядах на то, как душа и тело связаны с познанием, ярко проявляется идеализм Платона (он родоначальник объективного идеализма).
Платон постулирует изначальное существование мира идей. Этот мир идей существует вне материи и вне индивидуального сознания. Он представляет собой совокупность абстрактных идей — идей о сущностях предметов внешнего мира. Существуют идеи добродетели вообще, красоты вообще, справедливости вообще. То, что происходит на земле в повседневной жизни людей, есть лишь отражение, тень этих общих идей. Истинное познание есть постепенное проникновение в мир идей. Но для того чтобы приобщиться к нему, душа должна освободиться от влияния тела. Во всяком случае она не должна слепо доверять показаниям органов чувств. Истинное знание достигается только путем непосредственного проникновения души в мир идей.
Из своего представления о душе Платон и Сократ делают этические выводы. Поскольку душа — самое высокое, что есть в человеке, он должен заботиться о ее здоровье намного больше, чем о здоровье тела. При смерти душа расстается с телом, и в зависимости от того, какой образ жизни вел человек, его душу ждет различная судьба: она либо будет блуждать вблизи земли, отягощенная телесными элементами, либо отлетит от земли в идеальный мир.
Основные мысли о природе души и ее отношениях с телом мы находим в диалоге Платона «Федон», который в древности назывался «О душе». Несколько слов о событиях, которые в нем описываются.
Это последний день жизни Сократа. Он сидит в афинской тюрьме, и после заката солнца должен выпить яд. С Сократом произошла странная история: он был приговорен к смерти афинским судом за свою философскую деятельность, за те беседы, которые он целыми днями вел на улицах. За время этих бесед он нажил много врагов. Дело в том, что его интересовали не только абстрактные философские проблемы, но и истины, относящиеся к жизни. А собеседниками его были иногда и именитые граждане, и политические деятели. Сократ донимал их всех вопросами, показывал их недостатки, разоблачал образ их жизни.
К Сократу в тюрьму приходят ученики. Они в страшном горе и время от времени выдают свое состояние удрученным видом или каким-нибудь восклицанием. Сократ снова и снова убеждает их в том, что для него это день не несчастный, а, наоборот, самый счастливый. Он не чувствует, что с ним сегодня произойдет беда. Ведь он считал философию делом своей жизни и в течение всей жизни как истинный философ стремился к отделению души от тела. Неужели теперь, когда это событие, наконец, должно наступить, он дрогнет и воспримет его как наказание? Наоборот, это будет самый радостный момент в его жизни.
Из другого произведения Платона — «Апология Сократа» — мы узнаем о поведении Сократа в дни суда.
Сократ отказывается от зашиты. Он рассматривает суд как еще одну прекрасную возможность побеседовать с афинянами. Вместо того чтобы защитить себя, он объясняет им снова и снова на примере их и своей жизни, как следует себя вести.
«Даже если бы вы сказали мне, — обращается он к афинянам, на этот раз, Сократ, мы <…> отпустим тебя с тем, однако, чтобы ты больше уже не занимался этими исследованиями и оставил философию <…> то я бы вам сказал: «Я вам предан, афиняне, и люблю вас, но слушаться буду скорее бога, чем вас. и пока я дышу <…> не перестану философствовать, уговаривать и убеждать всякого из вас, кого только встречу, говоря то самое, что обыкновенно говорю: «Ты лучший из людей, раз ты афинянин, гражданин величайшего города <…> Не стыдно ли тебе заботиться о деньгах, чтобы их у тебя было как можно больше, о славе и о почестях, а о разуме, об истине и о душе своей не заботиться и не помышлять, чтобы она была как можно лучше?» И если кто из вас станет спорить и утверждать, что он заботится, то я не отстану <…> а буду его расспрашивать, испытывать, уличать, и если мне покажется, что в нем нет добродетели, а он только говорит, что она есть, я буду попрекать его за то, что он самое дорогое ни во что не ценит, а плохое ценит дороже всего» [86, с. 98-99].
После объявления смертного приговора Сократ обращается к афинянам с последней просьбой: когда подрастут его сыновья, последить за ними, и если они увидят, что сыновья ведут недостойный образ жизни, поступать с ними так, как поступал он с жителями Афин, — указывать им на их недостатки, стыдить за недостойный образ жизни и призывать к жизни добродетельной.
Вот так своим поведением, жизнью и даже смертью Сократ доказывает свои взгляды на природу души и на ее назначение. И может быть, именно из-за этого они произвели огромное впечатление на мировую культуру. Они вошли в христианскую религию, долго питали мировую литературу, философию.
Кстати, плащи, которые вскоре стали носить философы, воспроизводили плащ Сократа, в котором он ходил, не снимая его зимой и летом, а впоследствии эта одежда повторилась в монашеских рясах.
Если посмотреть на учение Сократа и Платона в целом с наших позиций, то можно обнаружить ряд поднятых ими проблем, вполне актуальных и для современной психологии. Нужно только подойти к ним особым образом — отнестись как к ярким и точным художественным метафорам.
Давайте спросим себя: «А не существует ли действительно в каком-то смысле тот мир идей, о котором говорил Платон? Не существует ли такой «мир идей», который противостоит индивидуальному сознанию каждого конкретного человека, существует до него и независимо от него и к которому каждый появляющийся на свет человек приобщается, приобретая знания и постигая истины?» И мы можем ответить: да, в каком-то смысле существует. Что же это за мир? Это мир духовной человеческой культуры, зафиксированный в ее материальных носителях, прежде всего в языке, в научных и литературных текстах. Это мир абстрактных понятий, в которых отражены общие свойства и сущности вещей. Это мир человеческих ценностей и человеческих идеалов.
Развивающийся вне этого мира ребенок (а такие истории известны — это дети, выкормленные животными), какими бы природными задатками он ни обладал, не становится человеком, его психика не становится человеческой. И вот, когда читаешь Платона и воспринимаешь его учение как художественную метафору, удивляешься, насколько проникновенно и ярко он показал процесс приобщения индивидуального сознания к общечеловеческому сознанию, процесс врастания каждого индивида в мир духовной человеческой культуры.
Возьмем другую проблему: представление о душе как о начале, которое призвано направлять жизнь человека, но которое само нуждается в заботе с целью сохранения ее чистоты, «освобождения от оков тела». Долгое время эти идеи оставались, пожалуй, самой большой проблемой для психологии, и долгое время психологией не принимались. Та «новая экспериментальная психология», с которой мы сегодня начнем знакомиться, объявила понятие души метафизическим и отказалась от рассмотрения как самого этого понятия, так и связанных с ним нравственно-этических выводов. И только в последние десятилетия духовные аспекты жизни человека стали интенсивно обсуждаться в психологии в связи с такими понятиями, как «зрелость личности», «рост личности», «здоровье личности» и т. п. И многое из того, что сейчас обнаруживается, вполне перекликается с этическими следствиями учения о душе выдающихся античных философов.
Мы переходим к новому крупному этапу развития психологии. Начало его относится к последней четверти XIX в., когда оформилась научная психология. У истоков этой новой психологии стоит французский философ Репе Декарт (1596-1650). Латинский вариант его имени — Ренатус Картезиус, отсюда — термины: «картезианская философия», «картезианская интуиция» и т. п.
Декарт окончил иезуитскую школу, где проявил блестящие способности. Особенно он увлекался математикой. Она привлекала его тем, что покоится на ясных основаниях и строга в своих выводах. Он решил, что математический способ мышления должен быть положен в основу любой науки. Кстати, Декарт сделал выдающийся вклад в математику. Он ввел алгебраические обозначения, отрицательные числа, изобрел аналитическую геометрию.
Декарт считается родоначальником рационалистической философии. Согласно его мнению, знание должно строиться на непосредственно очевидных данных, на непосредственной интуиции. Из нее оно должно выводиться методом логического рассуждения.
В одном из своих произведений Р. Декарт рассуждает о том, как лучше всего добраться до истины [31]. Он считает, что человек с детства впитывает в себя очень многие заблуждения, принимая на веру различные утверждения и идеи. Так что если хотеть найти истину, то для начала надо все подвергнуть сомнению. Тогда человек легко может усомниться в показаниях своих органов чувств, в правильности логических рассуждений и даже математических доказательств, потому что если Бог сделал человека несовершенным, то и его рассуждения могут содержать ошибки.
Так, подвергнув все сомнению, мы можем прийти к выводу, что нет ни земли, ни неба, ни Бога, ни нашего собственного тела. Но при этом обязательно что-то останется. Что же останется? Останется наше сомнение — верный признак того, что мы мыслим. И вот тогда мы можем утверждать, что существуем, ибо «…мысля, нелепо предполагать несуществующим то, что мыслит». И дальше следует знаменитая декартовская фраза: «Мыслю, следовательно, существую» («cogito ergo sum») [31, с. 428].
«Что же такое мысль?» — задает себе дальше вопрос Декарт. И отвечает, что под мышлением он подразумевает «все то, что происходит в нас», все, что мы «воспринимаем непосредственно само собою». И поэтому мыслить — значит не только понимать, но и «желать», «воображать», «чувствовать» [31, с. 429].
В этих утверждениях Декарта и содержится тот основной постулат, из которого стала исходить психология конца XIX в., — постулат, утверждающий, что первое, что человек обнаруживает в себе, — это его собственное сознание. Существование сознания — главный и безусловный факт, и основная задача психологии состоит в том, чтобы подвергнуть анализу состояния и содержания сознания. Так, «новая психология», восприняв дух идей Декарта, сделала своим предметом сознание.
Что же имеют в виду, когда говорят о состояниях и содержаниях сознания? Хотя предполагается, что они непосредственно известны каждому из нас, возьмем для примера несколько конкретных описаний, взятых из психологических и художественных текстов.
Вот один отрывок из книги известного немецкого психолога В. Кёлера «Гештальтпсихология», в котором он пытается проиллюстрировать те содержания сознания, которыми, по его мнению, должна заниматься психология. В целом они составляют некоторую «картину мира».
«В моем случае <…> эта картина — голубое озеро, окруженное темным лесом, серая холодная скала, к которой я прислонился, бумага, на которой я пишу, приглушенный шум листвы, едва колышимой ветром, и этот сильный запах, идущий от лодок и улова. Но мир содержит значительно больше, чем эта картина. Не знаю почему, но передо мной вдруг мелькнуло совсем другое голубое озеро, которым я любовался несколько лет тому назад в Иллинойсе. С давних пор для меня стало привычным появление подобных воспоминаний, когда я нахожусь в одиночестве.
И этот мир содержит еще множество других вещей, например мою руку и мои пальцы, которые помещаются на бумаге.
Сейчас, когда я перестал писать и вновь оглядываюсь вокруг себя, я испытываю чувство силы и благополучия. Но мгновением позже я ощущаю в себе странное напряжение, переходящее почти в чувство загнанности: я обещал сдать эту рукопись законченной через несколько месяцев».
В этом отрывке мы знакомимся с содержанием сознания, которое однажды нашел в себе и описал В. Кёлер. Мы видим, что в это описание входят и образы непосредственно окружающего мира, и образы-воспоминания, и мимолетные ощущения себя, своей силы и благополучия, и острое отрицательное эмоциональное переживание.
Приведу еще один отрывок, на этот раз взятый из текста известного естествоиспытателя Г. Гельмгольца, в котором он описывает процесс мышления.
«…Мысль осеняет нас внезапно, без усилия, как вдохновение <…> Каждый раз мне приходилось сперва всячески переворачивать мою задачу на все лады, так что все ее изгибы и сплетения залегли прочно в голове и могли быть снова пройдены наизусть, без помощи письма.
Дойти до этого обычно невозможно без долгой продолжительной работы. Затем, когда прошло наступившее утомление, требовался часок полной телесной свежести и чувства спокойного благосостояния — и только тогда приходили хорошие идеи» [26, с. 367].
Конечно, нет недостатка в описаниях «состояний сознания», особенно эмоциональных состояний, в художественной литературе. Вот отрывок из романа «Анна Каренина» Л. Н. Толстого, в котором описываются переживания сына Анны, Сережи:
«Он не верил в смерть вообще, и в особенности в ее смерть… и потому и после того, как ему сказали, что она умерла, он во время гулянья отыскивал ее. Всякая женщина, полная, грациозная, с темными волосами, была его мать. При виде такой женщины в душе его поднималось чувство нежности, такое, что он задыхался и слезы выступали на глаза. И он вот-вот ждал, что она подойдет к нему, поднимет вуаль. Все лицо ее будет видно, она улыбнется, обнимет его, он услышит ее запах, почувствует нежность ее руки и заплачет счастливо… Нынче сильнее, чем когда-нибудь, Сережа чувствовал прилив любви к ней и теперь, забывшись <…> изрезал весь край стола ножичком, блестящими глазами глядя перед собой и думая о ней» [112, т. IX, с. 102].
Излишне напоминать, что вся мировая лирика наполнена описаниями эмоциональных состояний, тончайших «движений души». Вот хотя бы этот отрывок из известного стихотворения А. С. Пушкина:
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье.
И жизнь, и слезы, и любовь.
Или из стихотворения М. Ю. Лермонтова:
С души как бремя скатится,
Сомненье далеко —
И верится.и плачется,
И так легко, легко…
Итак, на исследование вот какой сложной реальности отважились психологи в конце XIX века.
Как же такое исследование проводить? Прежде всего, считали они, нужно описать свойства сознания.
Первое, что мы обнаруживаем при взгляде на «поле сознания», — это необыкновенное разнообразие его содержаний, которое мы уже отмечали. Один психолог сравнивал картину сознания с цветущим лугом: зрительные образы, слуховые впечатления, эмоциональные состояния и мысли, воспоминания, желания — все это может находится там одновременно.
Однако это далеко не все, что можно сказать про сознание. Его поле неоднородно еще и в другом смысле: в нем отчетливо выделяется центральная область, особенно ясная и отчетливая; это — «поле внимания», или «фокус сознания»; за пределами ее находится область, содержания которой неотчетливы, смутны, нерасчленены; это — «периферия сознания».
Далее, содержания сознания, заполняющие обе описанные области, находятся в непрерывном движении. В.Джеймс, которому принадлежит яркое описание различных феноменов сознания, выделяет два вида его состояния: устойчивые и изменчивые, быстро преходящие. Когда мы, например, размышляем, мысль останавливается на тех образах, в которые облекается предмет нашего размышления. Наряду с этим бывают неуловимые переходы от одной мысли к другой. Весь процесс в целом похож на полет птицы: периоды спокойного парения (устойчивые состояния) перемежаются со взмахами крыльев (изменчивые состояния). Переходные моменты от одного состояния к другому очень трудно уловить самонаблюдением, ибо если мы пытаемся их остановить, то исчезает само движение, а если мы пытаемся о них вспомнить по их окончании, то яркий чувственный образ, сопровождающий устойчивые состояния, затмевает моменты движения.
Движение сознания, непрерывное изменение его содержаний и состояний В. Джеймс отразил в понятии «поток сознания». Поток сознания невозможно остановить, ни одно минувшее состояние сознание не повторяется. Тождественным может быть только объект внимания, а не впечатление о нем. Кстати, удерживается внимание на объекте только в том случае, если в нем открываются все новые и новые стороны.
Далее, можно обнаружить, что процессы сознания делятся на два больших класса. Одни из них происходят как бы сами собой, другие организуются и направляются субъектом. Первые процессы называются непроизвольными, вторые — произвольными.
Оба типа процессов, а также ряд других замечательных свойств сознания хорошо демонстрируются с помощью прибора, которым пользовался в своих экспериментах В. Вундт. Это — метроном; его прямое назначение — задавать ритм при игре на музыкальных инструментах. В лаборатории же В. Вундта он стал практически первым психологическим прибором.
В. Вундт предлагает вслушаться в серию монотонных щелчков метронома. Можно заметить, что звуковой ряд в нашем восприятии непроизвольно ритмизируется. Например, мы можем услышать его как серию парных щелчков с ударением на каждом втором звуке («тик-так», «тик-так»…). Второй щелчок звучит настолько громче и яснее, что мы можем приписать это объективному свойству метронома. Однако такое предположение легко опровергается тем, что, как оказывается, можно произвольно изменить ритмическую организацию звуков. Например, начать слышать акцент на первом звуке каждой пары («так-тик», «так-тик»…) или вообще организовать звуки в более сложный такт из четырех щелчков.
Итак, сознание по своей природе ритмично, заключает В. Вундт, причем организация ритма может быть как произвольной, так и непроизвольной [20, с. 10].
С помощью метронома В. Вундт изучал еще одну очень важную характеристику сознания — его «объем». Он задал себе вопрос: какое количество отдельных впечатлений может вместить сознание одновременно?
Опыт Вундта состоял в том, что он предъявлял испытуемому ряд звуков, затем прерывал его и давал второй ряд таких же звуков. Испытуемому задавался вопрос: одинаковой длины были ряды или разной? При этом запрещалось считать звуки; следовало просто их слушать и составить о каждом ряде целостное впечатление. Оказалось, что если звуки организовывались в простые такты по два (с ударением на первом или втором звуке пары), то испытуемому удавалось сравнить ряды, состоящие из 8 пар. Если же количество пар превосходило эту цифру, то ряды распадались, т. е. уже не могли восприниматься как целое. Вундт делает вывод, что ряд из восьми двойных ударов (или из 16 отдельных звуков) является мерой объема сознания.
Далее он ставит следующий интересный и важный опыт. Он снова предлагает испытуемому слушать звуки, однако произвольно организуя их в сложные такты по восемь звуков каждый, и затем повторяет процедуру измерения объема сознания. Оказывается, что испытуемый на этот раз может услышать как целостный ряд пять таких тактов по 8 звуков, т. е. всего 40 звуков!
Этими опытами В. Вундт обнаружил очень важный факт, а именно, что человеческое сознание способно почти беспредельно насыщаться некоторым содержанием, если оно активно объединяется во все более и более крупные единицы. При этом он подчеркивал, что способность к укрупнению единиц обнаруживается не только в простейших перцептивных процессах, но и в мышлении. Понимание фразы, состоящей из многих слов и из еще большего количества отдельных звуков, есть не что иное, как организация единицы более высокого порядка. Процессы такой организации Вундт называл «актами апперцепции».
Итак, в психологии была проделана большая и кропотливая работа по описанию общей картины и свойств сознания: многообразия его содержаний, динамики, ритмичности, неоднородности его поля, его объема и т. д. Возникли вопросы: каким образом его исследовать дальше? Каковы следующие задачи психологии?
И здесь был сделан тот поворот, который со временем завел психологию сознания в тупик. Психологи решили, что они должны последовать примеру естественных наук, например физики или химии. Первая задача науки, считали ученые того времени, найти простейшие элементы. Значит, и психология должна найти элементы сознания, разложить сложную динамичную картину сознания на простые, далее неделимые, части. Это во-первых. Вторая задача состоит в том, чтобы найти законы соединения простейших элементов. Итак, сначала разложить сознание на составные части, а потом снова его собрать из этих частей.
Так и начали действовать психологи. Простейшими элементами сознания В. Вундт объявил отдельные впечатления, или ощущения.
Например, в опытах с метрономом это были отдельные звуки. А вот пары звуков, т. е. те самые единицы, которые образовывались за счет субъективной организации ряда, он называл сложными элементами, или восприятиями.
Каждое ощущение, по Вундту, обладает рядом свойств, или атрибутов. Оно характеризуется прежде всего качеством (ощущения могут быть зрительными, слуховыми, обонятельными и т. п.), интенсивностью, протяженностью (т. е. длительностью) и, наконец, пространственной протяженностью (последнее свойство присуще не всем ощущениям, например оно есть у зрительных ощущений и отсутствует у слуховых).
Ощущения с описанными их свойствами являются объективными элементами сознания. Но ими и их комбинациями не исчерпываются содержания сознания. Есть еще субъективные элементы, или чувства. В. Вундт предложил три пары субъективных элементов — элементарных чувств: удовольствие-неудовольствие, возбуждение-успокоение, напряжение-разрядка. Эти пары — независимые оси трехмерного пространства всей эмоциональной сферы.
Он опять демонстрирует выделенные им субъективные элементы на своем излюбленном метрономе. Предположим, испытуемый организовал звуки в определенные такты. По мере повторения звукового ряда он все время находит подтверждение этой организации и каждый раз испытывает чувство удовольствия. А теперь, предположим, экспериментатор сильно замедлил ритм метронома. Испытуемый слышит звук — и ждет следующего; у него растет чувство напряжения. Наконец, щелчок метронома наступает — и возникает чувство разрядки. Экспериментатор учащает щелчки метронома — и у испытуемого появляется какое-то дополнительное внутреннее ощущение: это возбуждение, которое связано с ускоренным темпом щелчков. Если же темп замедляется, то возникает успокоение.
Подобно тому, как воспринимаемые нами картины внешнего мира состоят из сложных комбинаций объективных элементов, т. е. ощущений, наши внутренние переживания состоят из сложных комбинаций перечисленных субъективных элементов, т. е. элементарных чувств. Например, радость — это удовольствие и возбуждение; надежда — удовольствие и напряжение; страх — неудовольствие и напряжение. Итак, любое эмоциональное состояние можно «разложить» по описанным осям или собрать из трех простейших элементов.
Не буду продолжать построения, которыми занималась психология сознания. Можно сказать, что она не достигла успехов на этом пути: ей не удалось собрать из простых элементов живые полнокровные состояния сознания. К концу первой четверти нашего столетия эта психология практически перестала существовать.
Для этого было, по крайней мере, три причины: 1) ограничение таким узким кругом явлений, как содержания и состояния сознания; 2) идея разложения психики на простейшие элементы была ложной; 3) очень ограниченным по своим возможностям был метод, который психология сознания считала единственно возможным, — метод интроспекции.
Однако нужно отметить и следующее: психология того периода описала многие важные свойства и феномены сознания и тем самым поставила многие до сего времени обсуждаемые проблемы. Одну из таких проблем, поднятых психологией сознания в связи с вопросом о ее методе, мы подробно рассмотрим на следующей лекции.
Лекция 3
МЕТОД ИНТРОСПЕКЦИИ И ПРОБЛЕМА САМОНАБЛЮДЕНИЯ
«РЕФЛЕКСИЯ» Дж. ЛОККА. МЕТОД ИНТРОСПЕКЦИИ: «ПРЕИМУЩЕСТВА»;
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ;
ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ;
КРИТИКА. МЕТОД ИНТРОСПЕКЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ САМОНАБЛЮДЕНИЯ (ОТЛИЧИЯ). ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ: ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗДВОЕНИЯ СОЗНАНИЯ;
ИНТРО-, ЭКСТРО- И МОНОСПЕКЦИЯ;
САМОНАБЛЮДЕНИЕ И САМОПОЗНАНИЕ. ТЕРМИНОЛОГИЯ
Как я уже говорила, в психологии сознания метод интроспекции (букв, «смотрения внутрь») был признан не только главным, но и единственным методом психологии.
В основе этого убеждения лежали следующие два бесспорных обстоятельства.
Во-первых, фундаментальное свойство процессов сознания непосредственно открываться (репрезентироваться) субъекту. Во-вторых, «закрытость» тех же процессов для внешнего наблюдателя. Сознания разных людей сравнивались в то время с замкнутыми сферами, которые разделены пропастью. Никто не может перейти эту пропасть, никто не может непосредственно пережить состояния моего сознания так, как я их переживаю. И я никогда не проникну в образы и переживания других людей. Я даже не могу установить, является ли красный цвет красным и для другого; возможно, что он называет тем же словом ощущение совершенно иного качества!
Я хочу подчеркнуть, казалось бы, кристальную ясность и строгость выводов психологии того времени относительно ее метода. Все рассуждение заключено в немногих коротких предложениях: предмет психологии — факты сознания; последние непосредственно открыты мне — и никому больше; следовательно, изучать их можно методом интроспекции — и никак иначе.
Однако простота и очевидность каждого из этих утверждений, как и всего вывода в целом, только кажущиеся. В действительности в них заключена одна из самых сложных и запутанных проблем психологии — проблема самонаблюдения.
Нам и предстоит разобраться в этой проблеме.
Мне хотелось бы, чтобы на примере рассмотрения этой проблемы вы увидели, как много значат в науке критичность и одновременно гибкость подхода. Так, на первый взгляд очевидный тезис начинает расшатываться от того, что к нему подходят с других точек зрения и находят незамеченные ранее оттенки, неточности и т. п.
Давайте же займемся более внимательно вопросом о том, что такое интроспекция, как она понималась и применялась в качестве метода психологии на рубеже XIX—XX вв.
Идейным отцом метода интроспекции считается английский философ Дж. Локк (1632-1704), хотя его основания содержались также в декартовском тезисе о непосредственном постижении мыслей.
Дж. Локк считал, что существует два источника всех наших знаний: первый источник — это объекты внешнего мира, второй — деятельность собственного ума. На объекты внешнего мира мы направляем свои внешние чувства и в результате получаем впечатления (или идеи) во внешних вещах. Деятельность же нашего ума, к которой Локк причислял мышление, сомнение, веру, рассуждения, познание, желания, познается с помощью особого, внутреннего, чувства — рефлексии. Рефлексия, по Локку, — это «наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность» [64, с. 129].
Дж. Локк замечает, что рефлексия предполагает особое направление внимания на деятельность собственной души, а также достаточную зрелость субъекта. У детей рефлексии почти нет, они заняты в основном познанием внешнего мира. Она может не развиться и у взрослого, если он не проявит склонности к размышлению над самим собой и не направит на свои внутренние процессы специального внимания.
«Ибо хотя она (т. е. деятельность души. — Ю. Г.) протекает постоянно, но, подобно проносящимся призракам, не производит впечатления, достаточно глубокого, чтобы оставить в уме ясные, отличные друг от друга, прочные идеи» [64, с. 131].
Итак, у Локка содержится по крайней мере два важных утверждения.
1. Существует возможность раздвоения, или «удвоения», психики. Душевная деятельность может протекать как бы на двух уровнях: процессы первого уровня — восприятия, мысли, желания; процессы второго уровня — наблюдение, или «созерцание» этих восприятий, мыслей, желаний.
2. Деятельность души первого уровня есть у каждого человека и даже у ребенка. Душевная деятельность второго уровня требует специальной организации. Это специальная деятельность. Без нее знание о душевной жизни невозможно. Без нее впечатления о душевной жизни подобны «проносящимся призракам», которые не оставляют в душе «ясные и прочные идеи».
Эти оба тезиса, а именно возможность раздвоения сознания и необходимость организации специальной деятельности для постижения внутреннего опыта, были приняты на вооружение психологией сознания. Были сделаны следующие научно-практические выводы:
1) психолог может проводить психологические исследования только над самим собой. Если он хочет знать, что происходит с другим, то должен поставить себя в те же условия, пронаблюдать себя и по аналогии заключить о содержании сознания другого человека;
2) поскольку интроспекция не происходит сама собой, а требует особой деятельности, то в ней надо упражняться, и упражняться долго.
Когда вы будете читать современные статьи с описанием экспериментов, то увидите, что в разделе «Методика», как правило, приводятся различные сведения об испытуемых. Обычно указывается их пол, возраст, образование. Иногда даются специальные, важные для данных экспериментов, сведения: например, о нормальной остроте зрения, умственной полноценности и т. п.
В экспериментальных отчетах конца прошлого и начала нашего века также можно обнаружить раздел с характеристикой испытуемых. Но он выглядит совсем необычно. Например, читаешь, что одним испытуемым был профессор психологии с десятилетним инстроспекциочистским стажем; другой испытуемый был, правда, не профессор, а всего лишь ассистент-психолог, но также опытный интроспекпионист, так как прошел 6-месячные курсы интроспекции, и т. п.
Психологи того времени отмечали важные дополнительные преимущества метода интроспекции.
Во-первых, считалось, что в сознании непосредственно отражается причинная связь психических явлений. Например, если я захотела поднять руку и подняла ее, то причина действия мне непосредственно известна: она присутствует в сознании в форме решения поднять руку. В более сложном случае, если человек вызывает во мне сострадание и я стремлюсь ему всячески помочь, для меня очевидно, что мои действия имеют своей причиной чувство сострадания. Я не только переживаю это чувство, но знаю его связь с моими действиями.
Отсюда положение психологии считалось намного легче, чем положение других наук, которые должны еще доискиваться до причинных связей.
Второе отмечавшееся достоинство: интроспекция поставляет психологические факты, так сказать, в чистом виде, без искажений. В этом отношении психология также выгодно отличается от других наук. Дело в том, что при познании внешнего мира наши органы чувств, вступая во взаимодействие с внешними предметами, искажают их свойства. Например, за ощущениями света и звука стоят физические реальности — электромагнитные и воздушные волны, которые совершенно не похожи ни на цвет, ни на звук. И их еще надо как-то «очищать» от внесенных искажений.
В отличие от этого для психолога данные ощущения есть именно та действительность, которая его интересует. Любое чувство, которое испытывает человек, независимо от его объективной обоснованности или причины, есть истинный психологический факт. Между содержаниями сознаний и внутренним взором нет искажающей призмы!
«В сфере непосредственных данных сознания нет уже различия между объективным и субъективным, реальным и кажущимся, здесь все есть, как кажется, и даже именно потому, что оно кажется: ведь когда что-нибудь нам кажется, что и есть вполне реальный факт нашей внутренней душевной жизни» [65, с. 1034].
Итак, применение метода интроспекции подкреплялось еще соображениями об особых преимуществах этого метода.
В психологи конца XIX в. начался грандиозный эксперимент по проверке возможностей метода интроспекции. Научные журналы того времени были наполнены статьями с интроспективными отчетами; в них психологи с большими подробностями описывали свои ощущения, состояния, переживания, которые появлялись у них при предъявлении определенных раздражителей, при постановке тех или иных задач.
Надо сказать, что это не были описания фактов сознания в естественных жизненных обстоятельствах, что само по себе могло бы представить интерес. Это были лабораторные опыты, которые проводились «в строго контролируемых условиях», чтобы получить совпадение результатов у разных испытуемых. Испытуемым предъявлялись отдельные зрительные или слуховые раздражители, изображения предметов, слова, фразы; они должны были воспринимать их, сравнивать между собой, сообщать об ассоциациях, которые у них возникали, и т. п.
Эксперименты наиболее строгих интроспекционистов (Э. Титченера и его учеников) осложнялись еще двумя дополнительными требованиями.
Во-первых, интроспекция должна была направляться на выделение простейших элементов сознания, т. е. ощущений и элементарных чувств. (Дело в том, что метод интроспекции с самого начала соединился с атомистическим подходом в психологии, т. е. убеждением, что исследовать — значит разлагать сложные процессы на простейшие элементы.)
Во-вторых, испытуемые должны были избегать в своих ответах терминов, описывающих внешние объекты, а говорить только о своих ощущениях, которые вызывались этими объектами, и о качествах этих ощущений. Например, испытуемый не мог сказать: «Мне было предъявлено большое красное яблоко». А должен был сообщить примерно следующее: «Сначала я получил ощущение красного, и оно затмило все остальное; потом оно сменилось впечатлением круглого, одновременно с которым возникло легкое щекотание в языке, по-видимому, след вкусового ощущения. Появилось также быстро преходящее мускульное ощущение в правой руке…».
Ответ в терминах внешних объектов был назван Э. Титченером «ошибкой стимула» — известный термин интроспективной психологии, отражающий ее атомистическую направленность на элементы сознания.
По мере расширения этого рода исследований стали обнаруживаться крупные проблемы и трудности.
Во-первых, становилась все более очевидной бессмысленность такой «экспериментальной психологии». По словам одного автора, в то время от психологии отвернулись все, кто не считал ее своей профессией.
Другим неприятным следствием были накапливающиеся противоречия в результатах. Результаты не совпадали не только у различных авторов, но даже иногда у одного и того же автора при работе с разными испытуемыми.
Больше того, зашатались основы психологии — элементы сознания. Психологи стали находить такие содержания сознания, которые никак не могли быть разложены на отдельные ощущения или представлены в виде их сумм. Возьмите мелодию, говорили они, и перенесите ее в другую тональность; в ней изменится каждый звук, однако мелодия при этом сохранится. Значит, не отдельные звуки определяют мелодию, не простая их совокупность, а какое-то особое качество, которое связано с отношениями между звуками. Это качество целостной структуры (нем. — «гештальта»), а не суммы элементов.
Далее, систематическое применение интроспекции стало обнаруживать нечувственные, или безобразные, элементы сознания. Среди них, например, «чистые» движения мысли, без которых, как оказалось, невозможно достоверно описать процесс мышления.
Наконец, стали выявляться неосознаваемые причины некоторых явлений сознания (о них подробнее ниже).
Таким образом, вместо торжества науки, обладающей таким уникальным методом, в психологии стала назревать ситуация кризиса.
В чем же было дело? Дело было в том, что доводы, выдвигаемые в защиту метода интроспекции, не были строго проверены. Это были утверждения, которые казались верными лишь на первый взгляд.
В самом деле, начну с утверждения о возможности раздвоения сознания. Казалось бы, мы действительно можем что-то делать и одновременно следить за собой. Например, писать — и следить за почерком, читать вслух — и следить за выразительностью чтения. Казалось бы так — и в то же время не так или по крайней мере не совсем так!
Разве не менее известно, что наблюдение за ходом собственной деятельности мешает этой деятельности, а то и вовсе ее разрушает? Следя за почерком, мы можем потерять мысль; стараясь читать с выражением — перестать понимать текст.
Известно, насколько разрушающим образом действует рефлексия на протекание наших чувств: от нее они бледнеют, искажаются, а то и вовсе исчезают. И напротив, насколько «отдача чувству» исключает возможность рефлексии!
В психологии специально исследовался вопрос о возможности одновременного осуществления двух деятельностей. Было показано, что это возможно либо путем быстрых переходов от одной деятельности к другой, либо если одна из деятельностей относительно проста и протекает «автоматически». Например, можно вязать на спицах и смотреть телевизор, но вязание останавливается в наиболее захватывающих местах; во время проигрывания гамм можно о чем-то думать, но это невозможно при исполнении трудной пьесы.
Если применить все сказанное к интроспекции (а ведь она тоже вторая деятельность!), то придется признать, что ее возможности крайне ограничены. Интроспекцию настоящего, полнокровного акта сознания можно осуществить, только прервав его. Надо сказать, что интроспекционисты довольно быстро это поняли. Они отмечали, что приходится наблюдать не столько сам непосредственно текущий процесс, сколько его затухающий след. А чтобы следы памяти сохраняли возможно большую полноту, надо процесс дробить (актами интроспекции) на мелкие порции. Таким образом, интроспекция превращаюсь в «дробную» ретроспекцию.
Остановимся на следующем утверждении — якобы возможности с помощью интроспекции выявлять причинно-следственные связи в сфере сознания.
Пожалуй, примерами отдельных, так называемых произвольных, действий справедливость этого тезиса и ограничивается. Зато с каким количеством необъяснимых фактов собственного сознания мы встречаемся повседневно! Неожиданно всплывшее воспоминание или изменившееся настроение часто заставляет нас проводить настоящую исследовательскую работу по отысканию их причин. Или возьмем процесс мышления: разве мы всегда знаем, какими путями пришла нам в голову та или иная мысль? История научных открытий и технических изобретений изобилует описаниями внезапных озарений! И вообще, если бы человек мог непосредственно усматривать причины психических процессов, то психология была бы совсем не нужна! Итак, тезис о непосредственной открытости причин на поверку оказывается неверен.
Наконец, рассмотрим мнение о том, что интроспекция поставляет сведения о фактах сознания в неискаженном виде. Что это не так, видно уже из сделанного выше замечания о вмешательстве интроспекции в исследуемый процесс. Даже когда человек дает отчет по памяти о только что пережитом опыте, он и тогда неизбежно его искажает, ибо направляет внимание только на определенные его стороны или моменты.
Именно это искажающее влияние внимания, особенно внимания наблюдателя, который знает, что он ищет, настойчиво отмечалось критиками обсуждаемого метода. Интроспекционист, писали они не без иронии, находит в фактах сознания только те элементы, которые соответствуют его теории. Если это теория чувственных элементов, он находит ощущения, если безобразных элементов, — то движения «чистой» мысли и т. п.
Итак, практика использования и углубленное обсуждение метода интроспекции обнаружили ряд фундаментальных его недостатков. Они были настолько существенны, что поставили под сомнение метод в целом, а с ним и предмет психологии — тот предмет, с которым метод интроспекции был неразрывно связан и естественным следствием постулирования которого он являлся.
Во втором десятилетии нашего века, т. е. спустя немногим более 30 лет после основания научной психологии, в ней произошла революция: смена предмета психологии. Им стало не сознание, а поведение человека и животных.
Дж. Уотсон, пионер этого нового направления, писал: «…психология должна… отказаться от субъективного предмета изучения, интроспективного метода исследования и прежней терминологии. Сознание с его структурными элементами, неразложимыми ощущениями и чувственными тонами, с его процессами, вниманием, восприятием, воображением — все это только фразы, не поддающиеся определению» [114, с. 3].
На следующей лекции я буду подробно говорить об этой революции. А сейчас рассмотрим, какой оказалась судьба сознания в психологии. Удалось ли психологии полностью порвать с фактами сознания, с самим понятием сознания?
Конечно нет. Заявление Дж. Уотсона было «криком души» психолога, заведенного в тупик. Однако после любого «крика души» наступают рабочие будни. И в будни психологии стали возвращаться факты сознания. Однако с ними стали обращаться иначе. Как же?
Возьмем для иллюстрации современные исследования восприятия человека. Чем они в принципе отличаются от экспериментов интроспекционистов?
И в наши дни, когда хотят исследовать процесс восприятия, например зрительного восприятия человека, то берут испытуемого и предъявляют ему зрительный объект (изображение, предмет, картину), а затем спрашивают, что он увидел. До сих пор как будто бы то же самое. Однако есть существенные отличия.
Во-первых, берется не изощренный в самонаблюдении профессор-психолог, а «наивный» наблюдатель, и чем меньше он знает психологию, тем лучше. Во-вторых, от испытуемого требуется не аналитический, а самый обычный отчет о воспринятом, т. е. отчет в тех терминах, которыми он пользуется в повседневной жизни.
Вы можете спросить: «Что же тут можно исследовать? Мы ежедневно производим десятки и сотни наблюдений, выступая в роли «наивного наблюдателя»; можем рассказать, если нас спросят, обо всем виденном, но вряд ли это продвинет наши знания о процессе восприятия. Интроспекционисты по крайней мере улавливали какие-то оттенки и детали».
Но это только начало. Экспериментатор-психолог для того и существует, чтобы придумать экспериментальный прием, который заставит таинственный процесс открыться и обнажить свои механизмы. Например, он помещает на глаза испытуемого перевертывающие призмы, или предварительно помещает испытуемого в условия «сенсорного голода», или использует особых испытуемых — взрослых лиц, которые впервые увидели мир в результате успешной глазной операции и т. д.
Итак, в экспериментах интроспекционистов предъявлялся обычный объект в обычных условиях; от испытуемого же требовался изощренный анализ «внутреннего опыта», аналитическая установка, избегание «ошибки стимула» и т. п.
В современных исследованиях происходит все наоборот. Главная нагрузка ложится на экспериментатора, который должен проявить изобретательность. Он организует подбор специальных объектов или специальных условий их предъявления; использует специальные устройства, подбирает специальных испытуемых и т. п. От испытуемого же требуется обычный ответ в обычных терминах.
Если бы в наши дни явился Э. Титченер, он бы сказал: «Но вы без конца впадаете в ошибку стимула!» На что мы ответили бы: «Да, но это не «ошибка», а реальные психологические факты; вы же впадали в ошибку аналитической интроспекции».
Итак, еще раз четко разделим две позиции по отношению к интроспекции — ту, которую занимала психология сознания, и нашу современную.
Эти позиции следует прежде всего развести терминологически. Хотя «самонаблюдение» есть почти буквальный перевод слова «интроспекция», за этими двумя терминами, по крайней мере, в нашей литературе, закрепились разные позиции.
Первую мы озаглавим как метод интроспекции. Вторую — как использование данных самонаблюдения.
Каждую из этих позиций можно охарактеризовать по крайней мере по двум следующим пунктам: во-первых, по тому, что и как наблюдается; во-вторых, по тому, как полученные данные используются в научных целях. Таким образом, получаем следующую простую таблицу.
Таблица 1
Итак, позиция интроспекционистов, которая представлена первым вертикальным столбцом, предполагает раздвоение сознания на основную деятельность и деятельность самонаблюдения, а также непосредственное получение с помощью последней знаний о законах душевной жизни.
В нашей позиции «данные самонаблюдения» означают факты сознания, о которых субъект знает в силу их свойства быть непосредственно открытыми ему. Сознавать что-то — значит непосредственно знать это. Сторонники интроспекции, с нашей точки зрения, делают ненужное добавление: зачем субъекту специально рассматривать содержания своего сознания, когда они и так открыты ему? Итак, вместо рефлексии — эффект прямого знания.
И второй пункт нашей позиции: в отличие от метода интроспекции использование данных самонаблюдения предполагает обращение к фактам сознания как к явлениям или как к «сырому материалу», а не как к сведениям о закономерных связях и причинных отношениях. Регистрация фактов сознания — не метод научного исследования, а лишь один из способов получения исходных данных. Экспериментатор должен в каждом отдельном случае применить специальный методический прием, который позволит вскрыть интересующие его связи. Он должен полагаться на изобретательность своего ума, а не на изощренность самонаблюдения испытуемого. Вот в каком смысле можно говорить об использовании данных самонаблюдения.
После этого итога я хочу остановиться на некоторых трудных вопросах. Они могут возникнуть или уже возникли у вас при придирчивом рассмотрении обеих позиций.
Первый вопрос, которого мы уже немного касались: «Что же, раздвоение сознания возможно или нет! Разве невозможно что-то делать — и одновременно наблюдать за тем, что делаешь?» Отвечаю: эта возможность раздвоения сознания существует. Но, во-первых, она существует не всегда: например, раздвоение сознания, невозможно при полной отдаче какой-либо деятельности или переживанию. Когда же все-таки оно удается, то наблюдение как вторая деятельность вносит искажение в основной процесс. Получается нечто, похожее на «деланную улыбку», «принужденную походку» и т. п. Ведь и в этих житейских случаях мы раздваиваем наше сознание: улыбаемся или идем — и одновременно следим за тем, как это выглядит.
Примерно то же происходит и при попытках интроспекции как специального наблюдения. Надо сказать, что сами интроспекционисты многократно отмечали ненадежность тех фактов, которые получались с помощью их метода. Я зачитаю вам слова одного психолога, написанные в 1902 г. по этому поводу:
«Разные чувства — гнева, страха, жалости, любви, ненависти, стыда, нежности, любопытства, удивления — мы переживаем постоянно: и вот можно спорить и более или менее безнадежно спорить о том, в чем же собственно эти чувства состоят и что мы в них воспринимаем? Нужно ли лучшее доказательство той печальной для психолога истины, что в нашем внутреннем мире, хотя он всецело открыт нашему самосознанию, далеко не все ясно для нас самих и далеко не все вмещается в отчетливые и определенные формулы?» [65, с. 1068].
Эти слова относятся именно к данным интроспекции. Их автор так и пишет: спорить о том, что мы в этих чувствах воспринимаем. Сами чувства полнокровны, полноценны, подчеркивает он. Наблюдение же за ними дает нечеткие, неоформленные впечатления.
Итак, возможность раздвоения сознания, или интроспекция, существует. Но психология не собирается основываться на неопределенных фактах, которые она поставляет. Мы можем располагать гораздо более надежными данными, которые получаем в результате непосредственного опыта. Это ответ на первый вопрос.
Второй вопрос. Он может у вас возникнуть особенно в связи с примерами, которые приводились выше, примерами из исследований восприятия.
В этой области экспериментальной психологии широко используются отчеты испытуемых о том, что они видят, слышат и т. п. Не есть ли это отчеты об интроспекции? Именно этот вопрос разбирает известный советский психолог Б. М. Теплов в своей работе, посвященной объективному методу в психологии.
«Никакой здравомыслящий человек, — пишет он, — не скажет, что военный наблюдатель, дающий такое, например, показание: «Около опушки леса появился неприятельский танк», занимается интроспекцией и дает показания самонаблюдения. …Совершенно очевидно, что здесь человек занимается не интроспекцией, а «экстроспекцией», не «внутренним восприятием», а самым обычным внешним восприятием» [109, с. 28].
Рассуждения Б. М. Теплова вполне справедливы. Однако термин «экстроспекция» может ввести вас в заблуждение. Вы можете сказать: «Хорошо, мы согласны, что регистрация внешних событий не интроспекция. Пожалуйста, называйте ее, если хотите, экстроспекцией. Но оставьте термин «интроспекция» для обозначения отчетов о внутренних психических состояниях и явлениях — эмоциях, мыслях, галлюцинациях и т. п.».
Ошибка такого рассуждения состоит в следующем. Главное различие между обозначенными нами противоположными точками зрения основывается не на разной локализации переживаемого события: во внешнем мире — или внутри субъекта. Главное состоит в различных подходах к сознанию: либо как к единому процессу, либо как к «удвоенному» процессу.
Б. М. Теплов привел пример с танком потому, что он ярко показывает отсутствие в отчете командира наблюдения за собственным наблюдением. Но то же отсутствие рефлексирующего наблюдения может иметь место и при эмоциональном переживании. Полагаю, что и экстроспекцию и интроспекцию в обсуждаемом нами смысле может объединить термин «моноспекция».
Наконец, третий вопрос. Вы справедливо можете спросить: «Но ведь существует процесс познания себя! Пишут же некоторые авторы о том, что если бы не было самонаблюдения, то не было бы и самопознания, самооценки, самосознания. Ведь все это есть! Чем же самопознание, самооценка, самосознание отличаются от интроспекции?»
Отличие, на мой взгляд, двоякое. Во-первых, процессы познания и оценки себя гораздо более сложны и продолжительны, чем обычный акт интроспекции. В них входят, конечно, данные самонаблюдения, но только как первичный материал, который накапливается и подвергается обработке: сравнению, обобщению и т. п.
Например, вы можете оценить себя как человека излишне эмоционального, и основанием будут, конечно, испытываемые вами слишком интенсивные переживания (данные самонаблюдения). Но для заключения о гаком своем свойстве нужно набрать достаточное количество случаев, убедиться в их типичности, увидеть более спокойный способ реагирования других людей и т. п.
Во-вторых, сведения о себе мы получаем не только (а часто и не столько) из самонаблюдения, но и из внешних источников. Ими являются объективные результаты наших действий, отношения к нам других людей и т. п.
Наверное, трудно сказать об этом лучше, чем это сделал Г. X. Андерсен в сказке «Гадкий утенок». Помните тот волнующий момент, когда утенок, став молодым лебедем, подплыл к царственным птицам и сказал: «Убейте меня!», все еще чувствуя себя уродливым и жалким существом. Смог бы он за счет одной «интроспекции» изменить эту самооценку, если бы восхищенные сородичи не склонили бы перед ним головы?
Теперь, я надеюсь, вы сможете разобраться в целом ряде различных терминов, которые будут встречаться в психологической литературе.
Метод интроспекции — метод изучения свойств и законов сознания с помощью рефлексивного наблюдения. Иногда он называется субъективным методом. Его разновидностями являются метод аналитической интроспекции и метод систематической интроспекции.
Речевой отчет — сообщение испытуемого о явлениях сознания при наивной (не интроспективной, неаналитической) установке. То же иногда называют субъективным отчетом, субъективными показаниями, феноменальными данными, данными самонаблюдения.
Лекция 4
ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА О ПОВЕДЕНИИ
ФАКТЫ ПОВЕДЕНИЯ. БИХЕВИОРИЗМ И ЕГО ОТНОШЕНИЕ К СОЗНАНИЮ;
ТРЕБОВАНИЯ ОБЪЕКТИВНОГО МЕТОДА. ПРОГРАММА БИХЕВИОРИЗМА;
ОСНОВНАЯ ЕДИНИЦА ПОВЕДЕНИЯ;
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ;
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ БИХЕВИОРИЗМА. ЕГО ЗАСЛУГИ И НЕДОСТАТКИ
Мы переходим к следующему крупному этапу в развитии психологии. Он ознаменовался тем, что в психологию были введены совершенно новые факты — факты поведения.
Что же имеют в виду, когда говорят о фактах поведения, и чем они отличаются от уже известных нам явлений сознания? В каком смысле можно говорить, что это разные области фактов (а некоторыми психологами они даже противопоставлялись)?
По сложившейся в психологии традиции под поведением понимают внешние проявления психической деятельности человека. И в этом отношении поведение противопоставляется сознанию как совокупности внутренних, субъективно переживаемых процессов. Иными словами, факты поведения и факты сознания разводят по методу их выявления. Поведение происходит во внешнем мире и обнаруживается путем внешнего наблюдения, а процессы сознания протекают внутри субъекта и обнаруживаются путем самонаблюдения.
Нам нужно теперь более пристально присмотреться к тому, что называют поведением человека. Это нужно сделать по нескольким основаниям. Во-первых, чтобы проверить наше интуитивное убеждение, что поведение должно стать объектом изучения психологии. Во-вторых, чтобы охватить возможно более широкий круг явлений, относимых к поведению, и дать их предварительную классификацию. В-третьих, для того, чтобы дать психологическую характеристику фактов поведения.
Давайте поступим так же, как и при первоначальном знакомстве с явлениями сознания, — обратимся к анализу конкретных примеров.
Я разберу с вами два отрывка из произведений Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского, больших мастеров художественного описания и поведения людей и их психологического мира в целом.
Первый отрывок взят из романа «Война и мир». В нем описывается первый бал Наташи Ростовой. Вы помните, наверное, то смешанное чувство робости и счастья, с которым Наташа приезжает на свой первый бал. Откровенно говоря, я собиралась использовать этот отрывок раньше, когда искала описания состояний сознания. Однако в нем оказалось и нечто большее.
«Наташа чувствовала, что она оставалась с матерью и Соней в числе меньшей части дам, оттесненных к стене и не взятых в польский. Она стояла, опустив свои тоненькие руки, и с мерно поднимающейся, чуть определенной грудью, сдерживая дыхание, блестящими испуганными глазами глядела перед собой, с выражением готовности на величайшую радость и на величайшее горе. Ее не занимали ни государь, ни все важные лица <…> у ней была одна мысль: «Неужели так никто и не подойдет ко мне, неужели я не буду танцевать между первыми, неужели меня не заметят все эти мужчины» <…>
Пьер подошел к князю Андрею и схватил его за руку.
— Вы всегда танцуете. Тут есть моя protegee, Ростова молодая, пригласите ее, — сказал он.
— Где? — спросил Болконский <…>
Отчаянное, замирающее лицо Наташи бросилось в лицо князю Андрею. Он узнал ее, угадал ее чувство, понял, что она была начинающая, вспомнил ее разговор на окне и с веселым выражением лица подошел к графине Ростовой.
— Позвольте вас познакомить с моей дочерью, — сказала графиня краснея.
— Я имею удовольствие быть знакомым <…> — сказал князь Андрей с учтивым и низким поклоном <…> подходя к Наташе и занося руку, чтоб обнять ее талию еще прежде, чем он договорил приглашение на танец. Он предложил ей тур вальса. То замирающее выражение лица Наташи, готовое на отчаяние и на восторг, вдруг осветилось счастливой, благодарной, детской улыбкой» [112, т. V, с. 209—211].
Итак, мы действительно сталкиваемся здесь с внутренними переживаниями Наташи: она с нетерпением ждет приглашение на танец, в то же время ею начинает овладевать отчаяние; она в своем воображении уже представила, как хорошо и весело с ней будет танцевать, и это еще больше усиливает ее чувства досады и обиды, она чувствует себя одинокой и никому не нужной, а после приглашения на танец — переполняется счастьем.
Но что еще мы находим в этом небольшом отрывке, помимо описаний внутренних состояний мыслей и чувств Наташи?
А еще мы читаем, что Наташа стояла, опустив свои тоненькие руки, сдерживая дыхание, глядя испуганными, блестящими глазами перед собой.
Мы обнаруживаем дальше, что князь Андрей подходит с веселой улыбкой. Что графиня краснеет, представляя свою дочь. Следует учтивый низкий поклон князя. Итак, мы сталкиваемся с дыханием, жестами, движениями, улыбками и т. п.
Когда Дж. Уотсон (о котором мы будем говорить подробнее позже) заявил, что психология должна заниматься не явлениями сознания, а фактами поведения, т. е. тем, что имеет внешнее выражение, а следовательно, в конечном счете движениями мышц и деятельностью желез, то первый, кто возразил ему, был Э. Титченер. Он сказал: «Все, что не может быть передано в терминах сознания, не есть психологическое». Например, телесные реакции относятся к области не психологии, а физиологии.
Насколько был прав Дж. Уотсон, мы обсудим немного позже. А сейчас разберем, насколько был прав Э. Титченер (а в его лице и вся психология сознания) в этом своем упреке Уотсону.
Конечно, дыхание — физиологический процесс, и блеск глаз определяется вегетативными процессами, и «готовые слезы» — результат усиленной деятельности слезных желез, и походка князя Андрея — не что иное, как «локомоторная функция» его организма. Но посмотрите, как все эти физиологические реакции, процессы, функции «говорят» психологическим языком!
Сдерживаемое дыхание, взгляд прямо перед собой выдает не только волнение Наташи, но и старание овладеть собой, не выдать своего состояния, как этого требовали правила хорошего тона. Больше того, мы узнаем, что и волнения Наташи, и борьба с ними были прочитаны князем Андреем по тем же внешним признакам. А это уже, простите, совсем не физиология.
А сам князь Андрей? Несколько скудных, но точных штрихов сообщают нам о нем очень многое. Он с «веселым выражением лица» направляется к Ростовым. Заметьте, не напряженной походкой и не на подгибающихся ногах, а с «веселым выражением лица»! Этот штрих сразу показывает нам уверенность князя, легкость, с которой он чувствует себя в свете, доброжелательную готовность помочь Наташе. В его учтивом и низком поклоне сквозит смесь галантности и, пожалуй, легкой игры, впрочем, заметной только ему одному. И наконец, этот последний жест князя — он заносит руку прежде, чем договорил приглашение, — тоже говорит о многом.
Еще раз спросим себя: имеют ли все эти внешние проявления важное психологическое значение?
Несомненно! Они одновременно и неотъемлемая сторона внутреннего состояния; и непосредственное выражение характера человека, его опыта и его отношений; и предмет собственного контроля; и средства общения между людьми — язык, говорящий часто гораздо больше, чем можно сообщить с помощью слов.
Представим на минуту, что люди полностью утратили интонации, мимику, жесты. Что они начали говорить «деревянными» голосами, двигаться наподобие роботов, перестали улыбаться, краснеть, хмурить брови. Психолог в мире таких людей потерял бы большую часть своих фактов.
Но обратимся ко второму примеру. Это отрывок из романа Ф. М. Достоевского «Игрок».
Дело происходит за границей на водах, в Швейцарии, куда прибывает русская помещица, богатая московская барыня 75 лет. Там же находятся ее родственники, которые с нетерпением ждут телеграммы о ее кончине, чтобы получить наследство. Вместо телеграммы прибывает она сама, полная жизни и энергии. Правда, она парализована, и ее уже несколько лет катают в коляске, но умирать она не собирается, а приехала посмотреть сама, что происходит в ее шумном семействе.
Между прочим, бабушка, или «la baboulinka», как ее называют на французский манер, заинтересовывается рулеткой и просит отвезти ее в игорный дом. Там она некоторое время наблюдает за игрой и просит объяснить систему ставок и выигрышей. Ей, в частности, объясняют, что если ставят на zero и выходит zero, то платят в тридцать пять раз больше.
«— Как в тридцать пять раз, и часто выходит? Что ж они, дураки, не ставят?
— Тридцать шесть шансов против, бабушка.
— Вот вздор!.. Она вынула из кармана туго набитый кошелек и взяла из него фридрихедор. — На, поставь сейчас на zero.
— Бабушка, zero только что вышел <…> стало быть теперь долго не выйдет. Вы много проставите; подождите хоть немного.
— Ну, врешь, ставь!
— Извольте, но он до вечера, может быть, не выйдет, вы до тысячи проставите, это случалось.
— Ну, вздор, вздор! Волков бояться — в лес не ходить. Что? Проиграл? Ставь еще!
Проиграли и второй фридрихедор; поставили третий. Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в прыгающий … шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила, на месте ей не сиделось, даже кулаком стукнула по столу, когда крупер провозгласил «trente six» (Тридцать шесть (фр)) вместо ожидаемого zero.
— Эк ведь его! — сердилась бабушка. — Да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до zero <…> Алексей*Иванович, ставь два золотых за раз! <…>
— Бабушка!
— Ставь, ставь! Не твои.
Я поставил два фридрихедора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку, и вдруг — хлоп!
— Zero, — провозгласил крупье.
— Видишь, видишь! — быстро обернулась ко мне бабушка, вся сияющая и довольная. — Я ведь сказала, сказала тебе! <…> Ну, сколько же я теперь получу? Что же не выдают?..
— Делайте вашу ставку, господа — <…> возглашал крупер…
— Господи! Опоздали! Сейчас завертят! Ставь, ставь! — захлопотала бабушка. — Да не мешкай, скорее, — выходила она из себя, толкая меня изо всех сил.
— Да куда ставить-то, бабушка?
— На zero, на zero! Опять на zero! Ставь как можно больше! <…> <…> Еще! еще! еще! ставь еще! — кричала бабушка. Я уже не противоречил и, пожимая плечами, поставил еще двенадцать фридрихедоров. Колесо вертелось долго. Бабушка просто дрожала, следя за колесом. «Да неужто она и в самом деле думает опять zero выиграть?» — подумал я, смотря на нее с удивлением. Решительное убеждение в выигрыше сияло на лице ее…
— Zero! — крикнул крупер.
— Что!!! — с неистовым торжеством обратилась ко мне бабушка. Я сам был игрок; я почувствовал это в ту самую минуту. У меня руки-ноги дрожали, в голову ударило <…>
На этот раз бабушка уже не звала Потапыча <…> Она даже не толкалась и не дрожала снаружи. Она, если можно так выразиться, дрожала изнутри. Вся на чем-то сосредоточилась, так и прицелилась…» [35, т. 5, с. 263—265].
В этом ярком отрывке уже нет ни одного слова о состояниях сознания. Богатый, психологически насыщенный образ бабушки раскрывается Ф. М. Достоевским с помощью показа исключительно ее поведения.
Здесь уже знакомые нам «горящие глаза», которыми бабушка впивается в прыгающий шарик, и отдельные жесты и движения: она стискивает руку своего попутчика, толкает его изо всех сил, бьет кулаком по столу.
Но главное — это действия бабушки. Именно они раскрывают нам ее характер. Мы видим своевольную и в то же время по-детски наивную старую женщину: «Что ж они, дураки, не ставят?» — непосредственно реагирует она на объяснение, и потом уже никакие советы и доводы на нее не действуют. Это эмоциональная, яркая натура, легко зажигающаяся, упорная в своих желаниях: «Жива не хочу быть, а уж досижу до zero!» Она легко впадает в рискованный азарт, помните: «Она даже … не дрожала снаружи. Она … дрожала изнутри». Начав с одной монеты, она ставит в конце игры тысячи.
В целом образ бабушки оставляет впечатление широкой русской натуры, искренней, прямой, очень эмоциональной. Этот образ одновременно и очаровывает и взбадривает читателя. И всего этого автор достигает показом только одного — поведения своей героини.
Итак, ответим на один из поставленных ранее вопросов: что такое факты поведения?
Это, во-первых, все внешние проявления физиологических процессов, связанных с состоянием, деятельностью, общением людей, — поза, мимика, интонации, взгляды, блеск глаз, покраснение, побледнение, дрожь, прерывистое или сдерживаемое дыхание, мышечное напряжение и др.; во-вторых, отдельные движения и жесты, такие как поклон, кивок, подталкивание, сжимание руки, стук кулаком и т. п.; в-третьих, действия как более крупные акты поведения, имеющие определенный смысл, в наших примерах — просьба Пьера, приглашение князя на танец, приказы бабушки: «Ставь на zero».
Наконец, это поступки — еще более крупные акты поведения, которые имеют, как правило, общественное, или социальное, звучание и связаны с нормами поведения, отношениями, самооценкой.
В последнем примере бабушка совершает поступок, начав играть в рулетку, и играть азартно. Кстати, на следующий день она совершает еще один поступок: возвращается в игорный зал и проигрывает все свое состояние, лишая средств к жизни и себя, и своих нетерпеливых наследников.
Итак, внешние телесные реакции, жесты, движения, действия, поступки — вот перечень явлений, относимых к поведению. Все они объекты психологического интереса, поскольку непосредственно отражают субъективные состояния содержания сознания, свойства личности.
Вот к каким выводам приводит рассмотрение фактической стороны дела. А теперь вернемся к развитию науки.
Во втором десятилетии нашего века в психологии произошло очень важное событие, названное «революцией в психологии». Оно было соизмеримо с началом той самой новой психологии В. Вундта.
В научной печати выступил американский психолог Дж. Уотсон, который заявил, что нужно пересмотреть вопрос о предмете психологии. Психология должна заниматься не явлениями сознания, а поведением. Направление получило название «бихевиоризм» (от англ. behaviour — «поведение»). Публикация Дж. Уотсона «Психология сточки зрения бихевиориста» относится к 1913 г., этим годом и датируется начало новой эпохи в психологии.
Какие основания были у Дж. Уотсона для его заявления? Первое основание — это соображения здравого смысла, те самые, которые привели и нас к выводу, что психолог должен заниматься поведением человека.
Второе основание — запросы практики. К этому времени психология сознания дискредитировала себя. Лабораторная психология занималась проблемами, никому не нужными и не интересными, кроме самих психологов. В то же время жизнь заявляла о себе, особенно в США. Это была эпоха бурного развития экономики. «Городское население растет с каждым годом <…> — писал Дж. Уотсон. — Жизнь становится все сложнее и сложнее <…> Если мы хотим когда-либо научиться жить совместно <…> то мы должны <…> заняться изучением современной психологии» [114, с. XVIII].
И третье основание: Уотсон считал, что психология должна стать естественнонаучной дисциплиной и должна ввести научный объективный метод.
Вопрос о методе был одним из главных для нового направления, я бы сказала даже основным: именно из-за несостоятельности метода интроспекции отвергалась идея изучения сознания вообще. Предметом науки может быть только то. что доступно внешнему наблюдению, т. е. факты поведения. Их можно наблюдать из внешней позиции, по поводу них можно добиться согласия нескольких наблюдателей. В то же время факты сознания доступны только самому переживающему субъекту, и доказать их достоверность невозможно.
Итак, третьим основанием для смены ориентации психологии было требование естественнонаучного, объективного метода.
Каково же было отношение бихевиористов к сознанию? Практически это уже ясно, хотя можно ответить на этот вопрос словами Дж. Уотсона: «Бихевиорист… ни в чем не находит доказательства существования потока сознания, столь убедительно описанного Джемсом, он считает доказанным только наличие постоянно расширяющегося потока поведения» [115, с. 437|.
Как понять эти слова Уотсона? Действительно ли он считал, что сознания нет? Ведь, по его же словам, В. Джемс «убедительно описал» поток сознания. Ответить можно так: Дж. Уотсон отрицал существование сознания как представитель научной психологии. Он утверждал, что сознание не существует для психологии. Как ученый-психолог, он не позволял себе думать иначе. То, чем должна заниматься психология, требует доказательств существования, а такие доказательства получает только то, что доступно внешнему наблюдению.
Новые идеи часто появляются в науке в напряженной и несколько загрубленной форме. Это естественно, так как они должны пробить себе дорогу через идеи, которые господствуют в настоящий момент.
В отрицании Дж. Уотсона существования сознания и выразилась такая «грубая сила» идей, которые он отстаивал. Надо заметить, что в отрицании сознания был главный смысл бихевиоризма и в этом же пункте он в дальнейшем не выдержал критики.
Итак, до сих пор мы говорили о заявлениях и отрицаниях. Какова же была положительная теоретическая программа бихевиористов и как они ее реализовали? Ведь они должны были показать, как следует изучать поведение.
Сегодня мы задавали себе вопрос: «Что такое поведение?» — и отвечали на него по-житейски. Дж. Уотсон отвечает на него в научных понятиях: «Это — система реакций». Таким образом, он вводит очень важное понятие «реакция». Откуда оно взялось и какой смысл имело?
Дело все в том, что естественнонаучная материалистическая традиция, которую вводил бихевиоризм в психологию, требовала причинных объяснений. А что значит причинно объяснить какое-либо действие человека? Для Дж. Уотсона ответ был ясен: это значит найти внешнее воздействие, которое его вызвало. Нет ни одного действия человека, за которым не стояла бы причина в виде внешнего агента. Для обозначения последнего он использует понятие стимула и предлагает следующую знаменитую формулу: S — R (стимул—реакция).
«…Бихевиорист ни на одну минуту не может допустить, чтобы какая-нибудь из человеческих реакций не могла быть описана в этих терминах», — пишет Дж. Уотсон [ 115, с. 436].
Затем он делает следующий шаг: объявляет отношение S — R единицей поведения и ставит перед психологией следующие ближайшие задачи:
— выявить и описать типы реакций;
— исследовать процесс их образования;
— изучить законы их комбинаций, т. е. образования сложного поведения.
В качестве общих окончательных задач психологии он намечает следующие две: прийти к тому, чтобы по ситуации (стимулу) предсказывать поведение (реакцию) человека и, наоборот, по реакции заключать о вызвавшем ее стимуле, т. е. по S предсказывать Л, а по Л заключать об S.
Между прочим, здесь напрашивается параллель с В. Вундтом. Ведь он также начал с выявления единиц (сознания), поставил задачу описать свойства этих единиц, дать их классификацию, изучить законы их связывания и образования в комплексы. Таким же путем идет и Дж. Уотсон. Только он выделяет единицы поведения, а не сознания и намеревается собирать из этих единиц всю картину поведения человека, а не его внутреннего мира.
В качестве примеров Дж. Уотсон сначала приводит действительно элементарные реакции: поднесите быстро руку к глазам — и вы получите мигательную реакцию; рассыпьте в воздухе толченый перец — и последует чихание. Но затем он делает смелый шаг и предлагает представить себе в качестве стимула новый закон, который вводится правительством и который, предположим, что-то запрещает. И вот, бихевиорист, по мнению Уотсона, должен уметь ответить, какая последует общественная реакция на этот закон. Он признается, что бихевиористам придется работать долгие и долгие годы, чтобы уметь отвечать на подобные вопросы.

Нужно сказать, что в каждой теории есть разные составные части. Например, есть постулаты — нечто вроде аксиом; есть более или менее доказанные положения; наконец, есть утверждения, основанные на одной вере. В число последних обычно входит убеждение, что данная теория может распространиться на широкую сферу действительности. Как раз такие элементы веры заключены в заявлении Дж. Уотсона о том, что бихевиористы смогут объяснить с помощью связки S — R все поведение человека и даже общества.
Рассмотрим сначала, как реализовалась программа в ее теоретической части.
Дж. Уотсон начинает с описания типов реакций. Он выделяет, прежде всего, реакции врожденные и приобретенные.
Обращаясь к изучению новорожденных детей, Уотсон составляет список врожденных реакций. Среди них такие, как чихание, икание, сосание, улыбка, плач, движения туловища, конечностей, головы и разные другие.
Как же расширяется поток активности, по каким законам приобретаются новые, не врожденные реакции? Здесь Уотсон обращается к работам И. П. Павлова и Б. М. Бехтерева, как раз незадолго до того опубликованным. В них содержалось описание механизмов возникновения условных, или, как они назывались в то время, «сочетательных», рефлексов. Дж. Уотсон принимает концепцию условных рефлексов в качестве естественнонаучной базы психологической теории. Он говорит, что все новые реакции приобретаются путем обусловливания.
Вспомним схему образования условного рефлекса.
Безусловный стимул (S6) вызывает безусловную реакцию (R6). Если безусловному стимулу предшествует действие нейтрального условного стимула (Sy), то через некоторое количество сочетаний нейтрального и безусловного стимулов действие безусловного стимула оказывается ненужным: безусловную реакцию начинает вызывать условный стимул (рис. 1).
Например, мать гладит ребенка, и у него на лице появляется улыбка. Прикосновение к коже — безусловный стимул, улыбка на прикосновение — безусловная реакция. Каждый раз перед прикосновением появляется лицо матери. Теперь достаточно одного вида матери, чтобы последовала улыбка ребенка.
А как же образуются сложные реакции? По Уотсону, путем образования комплексов безусловных реакций.
Предположим, имеется такая ситуация: первый безусловный стимул вызвал первую безусловную реакцию, второй — вторую, третий — третью. А потом все безусловные стимулы заменили на один условный стимул (А). В результате условный стимул вызывает сложный комплекс реакций (рис. 2).
Все человеческие действия и есть, по мнению Дж. Уотсона, сложные цепи, или комплексы, реакций. Если вдуматься в это его утверждение, то станет ясно, что оно абсолютно неверно. В действительности из приведенной схемы невозможно понять, как появляются новые действия человека: ведь организм, по концепции Дж. Уотсона, располагает только арсеналом безусловных реакций.
Один современный математик-кибернетик, М. М. Бонгардт, на этот счет замечал, что никакие раздражители и никакие их сочетания никогда бы не привели по схеме образования условных реакций, например, к тому, чтобы собака научилась ходить на задних лапах.
И в самом деле, безусловной реакцией на свет может быть мигание, на звук — вздрагивание, на пищевой раздражитель — выделение слюны. Но никакое сочетание (цепь или комплекс) подобных безусловных реакций не даст хождения на задних лапах. Эта схема не выдерживает никакой критики.
Теперь об экспериментальной программе Дж. Уотсона. Он считал, что психолог должен уметь проследить жизнь человека от колыбели до смерти.
«До смерти», по-видимому, не была прослежена бихевиористами жизнь ни одного человека, а вот к «колыбели» Дж. Уотсон обратился. Он обосновал свою лабораторию в Доме ребенка и исследовал, как я уже говорила, новорожденных детей и младенцев.
Один из вопросов, который его интересовал, был следующий: какие эмоциональные реакции врожденны у человека и какие нет? Например, на что появляется страх у новорожденного ребенка? Этот вопрос особенно интересовал Дж. Уотсона, поскольку, согласно его замечанию, жизнь взрослых полна страхов.
Не знаю, действительно ли страшно было жить в те годы в Америке, но Дж. Уотсон приводит на этот счет целый перечень примеров: знакомого мужчину, который бледнеет при виде пушки; женщину, которая впадает в истерику, когда в комнату влетает летучая мышь; ребенка, который буквально парализуется страхом при виде механической игрушки. «Что же все эти страхи: врожденны или нет?» — задает себе вопрос Уотсон.
Чтобы ответить на него, он проводит в Доме ребенка следующие эксперименты.
Младенец лежит на матрасике, и Уотсон неожиданно выдергивает из-под него этот матрасик. Ребенок раздражается криком, несмотря на то, что утешительница-соска находится у него во рту. Итак, потеря опоры — первый стимул, который вызывает безусловную реакцию страха.
Следующая проба: около кроватки навешивается железный брусок, по которому экспериментатор, Уотсон, бьет изо всех сил молотком. У ребенка прерывается дыхание, он резко всхлипывает и затем разражается криком. Таким образом, на громкий неожиданный звук следует та же реакция испуга. Вот два безусловных стимула, которые вызывают реакцию страха, других же таких стимулов Уотсон не находит.
Он перебирает разные «стимулы», например устраивает перед ребенком на железном подносе костер — никакого страха!
Ребенку показывают кролика — он тянется к нему ручками.
Но может быть есть врожденный страх перед мышами? Пускают вблизи ребенка белую мышку — не боится.
Может быть, кролика и мышки ребенок не боится потому, что они пушистые, приятные? Дают ему в руки лягушку — с удовольствием ее исследует!
У многих животных есть врожденный ужас перед змеями. Дают ребенку змееныша (неядовитого, конечно) — никакого страха; опять интерес и удовольствие! Подводят большую собаку, голова которой размером чуть ли не со всего ребенка, — он очень добродушно тянется к ней. Итак, никаких страхов.
Но Дж. Уотсон продолжает свои опыты с целью показать, как образуются все эти страхи, которые одолевают взрослых.
Сидит ребенок, играет в кубики. Экспериментатор помещает стальной брусок сзади него. Сначала показывают ребенку кролика — тот тянется к нему. Как только ребенок прикасается к кролику, Уотсон резко бьет молотком по бруску. Ребенок вздрагивает и начинает плакать. Кролика убирают, дают кубики, ребенок успокаивается.
Снова вынимают кролика. Ребенок протягивает к нему руку, но не сразу, а с некоторой опаской. Как только он прикасается к кролику, экспериментатор снова бьет молотком по бруску. Снова плач, снова успокаивают. Снова извлекают кролика — и тут происходит нечто интересное: ребенок приходит в беспокойство от одного вида кролика; он поспешно отползает от него. По мнению Уотсона, появилась условная реакция страха!
В заключение Дж. Уотсон показывает, как можно излечить ребенка от нажитого страха.
Он сажает за стол голодного ребенка, который уже очень боится кролика, и дает ему есть. Как только ребенок прикасается к еде, ему показывают кролика, но только очень издалека, через открытую дверь из другой комнаты, — ребенок продолжает есть. В следующий раз показывают кролика также во время еды, но немного ближе. Через несколько дней ребенок уже ест с кроликом на коленях. [116].
Надо сказать, что бихевиористы экспериментировали в основном на животных. Они это делали не потому, что их интересовали животные сами по себе, а потому, что животные, с их точки зрения, обладают большим преимуществом: они «чистые» объекты, так как к их поведению не примешивается сознание. Получаемые же результаты они смело переносили на человека.
Например, обсуждая проблемы полового воспитания ребенка, Дж. Уотсон обращается к экспериментам на крысах.
Эти эксперименты состояли в следующем. Брался длинный ящик; в один конец отсаживался самец, в другой — самка, а посередине на полу были протянуты провода с током. Чтобы попасть к самке, самец должен был пробежать по проводам. В экспериментах мерили, какую силу тока он выдержит и побежит, а перед какой отступит. А потом сделали наоборот: отсадили самку и стали смотреть, какую силу тока преодолеет она. Оказалось, что самки бежали при токе большей силы! На основе этого маленького «урока биологии» Дж. Уотсон предостерегает матерей от ошибочного мнения, что их девочки не интересуются мальчиками [116].
Скажу несколько слов о дальнейшем развитии бихевиоризма. Довольно скоро стала обнаруживаться чрезвычайная ограниченность схемы S—R для объяснения поведения: как правило, «S» и «R» находятся в таких сложных и многообразных отношениях, что непосредственную связь между ними проследить не удается. Один из представителей позднего бихевиоризма Э. Толмен ввел в эту схему существенную поправку. Он предложил поместить между S и R среднее звено, или «промежуточные переменные» (V), в результате чего схема приобрела вид: S — V — R. Под «промежуточными переменными» Э. Толмен понимал внутренние процессы, которые опосредствуют действие стимула, т. е. влияют на внешнее поведение. К ним он отнес такие образования, как «цели», «намерения», «гипотезы», «познавательные карты» (образы ситуаций) и т. п. Хотя промежуточные переменные были функциональными эквивалентами сознания, вводились они как «конструкты», о которых следует судить исключительно по свойствам поведения.
Например, о наличии цели у животного, согласно Э. Толмену, можно говорить в том случае, если животное: во-первых, обнаруживает поисковую активность, пока не получит определенный объект; во-вторых, при получении объекта прекращает активность; в-третьих, при повторных пробах находит к объекту путь быстрее. Итак, по перечисленным признакам можно сказать, что получение данного объекта составляло намерение, или цель, животного. Признаки же эти есть не что иное, как свойства поведения, а к сознанию обращаться нет никакой необходимости.
Новый шаг в развитии бихевиоризма составили исследования особого типа условных реакций (наряду с «классическими», т. е. павловскими), которые получили название инструментальных (Э. Торндайк, 1898), или оперантных (Б. Скиннер, 1938).
Явление инструментального, или оперантного, обусловливания состоит в том, что если подкрепляется какое-либо действие индивида, то оно фиксируется и затем воспроизводится с большими легкостью и постоянством.
Например, если лай собаки регулярно подкреплять кусочком колбасы, то очень скоро она начинает лаять, «выпрашивая» колбасу.
Прием этот давно знаком дрессировщикам, а также практически освоен воспитателями. В необихевиоризме же он впервые стал предметом экспериментально-теоретических исследований. Согласно теории бихевиоризма, классическое и оперантное обусловливания являются универсальными механизмами научения, общими для животных и человека. При этом процесс научения представлялся как происходящий вполне автоматически: подкрепление приводит к «закреплению» в нервной системе связей и успешных реакций независимо от воли, желания или какой-либо другой активности субъекта. Отсюда бихевиористы делали далеко идущие выводы о том, что с помощью
стимулов и подкреплений можно «лепить» любое поведение человека, «манипулировать» им, что поведение человека жестко детерминировано, что человек в какой-то мере раб внешних обстоятельств и собственного прошлого опыта.
Все эти выводы, в конечном счете, были следствиями игнорирования сознания. «Неприкасаемость» к сознанию оставалась основным требованием бихевиоризма на всех этапах его развития.
Надо сказать, что это требование рухнуло под влиянием жизни. Американский психолог Р. Хольт в 60-х гг. нашего века опубликован статью под названием «Образы: возвращение из изгнания», в которой он, рассматривая возможность появления в условиях космического полета иллюзий восприятия, писал: «…на практичных людей едва ли произведут впечатление суждения о том, что образы не заслуживают изучения, поскольку это «менталистские феномены» и их нельзя экспериментально исследовать на животных… теперь наш национальный престиж может зависеть также от наших знаний о тех условиях, которые вызывают галлюцинации» [127, с. 59].
Таким образом, даже в американской психологии, т. е. на родине бихевиоризма, в последние десятилетия была понята необходимость возвращения к сознанию, и это возвращение состоялось.
Несколько заключительных слов о бихевиоризме.
Важными заслугами бихевиоризма явились следующие. Во-первых, он внес в психологию сильный материалистический дух, благодаря ему психология была повернута на естественнонаучный путь развития. Во-вторых, он ввел объективный метод — метод, основанный на регистрации и анализе внешне наблюдаемых фактов, процессов, событий. Благодаря этому нововведению в психологии получили бурное развитие инструментальные приемы исследования психических процессов. Далее, чрезвычайно расширился класс исследуемых объектов; стало интенсивно изучаться поведение животных, доречевых младенцев и т. п. Наконец, в работах бихевиористого направления были значительно продвинуты отдельные разделы психологии, в частности проблемы научения, образования навыков и др.
Но основной недостаток бихевиоризма, как я уже подчеркивала, состоял в недоучете сложности психической деятельности человека, сближении психики животных и человека, игнорировании процессов сознания, высших форм научения, творчества, самоопределения личности и т. п.
Лекция 5
НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ
НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ МЕХАНИЗМЫ СОЗНАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ;
ПЕРВИЧНЫЕ АВТОМАТИЗМЫ И НАВЫКИ;
НАВЫКИ И СОЗНАНИЕ;
ЯВЛЕНИЯ НЕОСОЗНАВАЕМОЙ УСТАНОВКИ;
НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЗНАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПСИХОЛОГИИ, ПРИМЕРЫ
Вы уже хорошо знаете, что психология поведения сделала объектом своего изучения факты поведения, рассматривая их в качестве антитезы явлениям сознания. Напомню, что противопоставление поведения и сознания шло по линии метода выявления соответствующих фактов. В случае сознания это было постижение внутреннего опыта — субъективный метод; в случае поведения регистрация внешне наблюдаемых событий — объективный метод.
Однако сознанию можно противопоставить не только поведение (как внутренне наблюдаемому — внешне наблюдаемое), но и неосознаваемые, или бессознательные, психические процессы.
Им и будет посвящена эта лекция.
Неосознаваемые психические процессы стали особенно интенсивно изучаться с начала нашего века. Уже первые результаты этого изучения фактически нанесли смертельный удар по психологии сознания, вполне соизмеримый с тем, который она получила со стороны бихевиоризма. Поэтому знакомство с неосознаваемыми процессами вам совершенно необходимо для более полного представления о тех драматических событиях, которыми сопровождались поиск и уточнение предмета психологии.
Однако, поскольку к «неосознаваемому психическому» обращались в разное время очень разные ученые, изложить эту тему, прослеживая развитие какого-то одного направления или одной теории, невозможно. Поэтому я изберу не исторический, а систематический способ изложения.
Целью лекции будет: познакомить вас с фактами неосознаваемого психического; дать классификацию этих фактов; наконец, наметить проблемы, которые изучались и обсуждались в связи с последними.
Все неосознаваемые процессы можно разбить на три больших класса: (1) неосознаваемые механизмы сознательных действий; (2) неосознаваемые побудители сознательных действий; (3) «подсознательные» процессы.
В первый класс — неосознаваемых механизмов сознательных действий — входят в свою очередь три различных подкласса:
а) неосознаваемые автоматизмы;
б) явления неосознаваемой установки;
в) неосознаваемые сопровождения сознательных действий.
Рассмотрим каждый из названных подклассов.
а) Под неосознаваемыми автоматизмами подразумевают обычно действия или акты, которые совершаются «сами собой», без участия сознания. Иногда говорят о «механической работе», о работе, при которой «голова остается свободной». «Свободная голова» и означает отсутствие сознательного контроля.
Анализ автоматических процессов обнаруживает их двоякое происхождение. Некоторые из этих процессов никогда не осознавались, другие же прошли через сознание и перестали осознаваться.
Первые составляют группу первичных автоматизмов, вторые — группу вторичных автоматизмов. Первые называют иначе автоматическими действиями, вторые — автоматизированными действиями, или навыками.
В группу автоматических действий входят либо врожденные акты, либо те, которые формируются очень рано, часто в течение первого года жизни ребенка. Их примеры: сосательные движения, мигание, схватывание предметов, ходьба, конвергенция глаз и многие другие.
Группа автоматизированных действий, или навыков, особенно обширна и интересна. Благодаря формированию навыка достигается двоякий эффект: во-первых, действие начинает осуществляться быстро и точно; во-вторых, как уже говорилось, происходит высвобождение сознания, которое может быть направлено на освоение более сложного действия. Этот процесс имеет фундаментальное значение для жизни каждого индивида. Не будет большим преувеличением сказать, что он лежит в основе развития всех наших умений, знаний и способностей.
Рассмотрим какой-нибудь пример. Возьмем обучение игре на фортепиано. Если вы сами прошли через этот процесс или наблюдали, как он происходит, то знаете, что все начинается с освоения элементарных актов. Сначала нужно научиться правильно сидеть, ставить в правильное положение ноги, руки, пальцы на клавиатуре. Затем отрабатываются отдельно удары каждым пальцем, подъемы и опускания кисти и т. д. На этой самой элементарной основе строятся элементы собственно фортепианной техники: начинающий пианист учится «вести» мелодию, брать аккорды, играть стаккато и легато… И все это — лишь основа, которая необходима для того, чтобы рано или поздно перейти к выразительной игре, т. е. к задачам художественного исполнения.
Так, путем продвижения от простых действий к сложным, благодаря передаче на неосознаваемые уровни действий уже освоенных, человек приобретает мастерство. И, в конце концов, выдающиеся пианисты достигают такого уровня, когда, по словам Гейне, «рояль исчезает, и нам открывается одна музыка».
Почему в исполнении мастеров-пианистов остается «одна музыка»? Потому, что они в совершенстве овладели пианистическими навыками.
Говоря об освобождении действий от сознательного контроля, конечно, не надо думать, что это освобождение абсолютно, т.е. что человек совсем не знает, что он делает. Это не так. Контроль, конечно, остается, но он осуществляется следующим интересным образом.
Поле сознания, как вы уже знаете, неоднородно: оно имеет фокус, периферию и, наконец, границу, за которой начинается область неосознаваемого. И вот эта неоднородная картина сознания как бы накладывается на иерархическую систему сложного действия. При этом самые высокие этажи системы — наиболее поздние и наиболее сложные компоненты действия — оказываются в фокусе сознания; следующие этажи попадают на периферию сознания; наконец, самые низкие и самые отработанные компоненты выходят за границу сознания.
Надо сказать, что отношение различных компонентов действий к сознанию нестабильно. В поле сознания происходит постоянное изменение содержаний: представленным в нем оказывается то один, то другой «слой» иерархической системы актов, составляющих данное действие.
Движение в одну сторону, повторим, это уход выученного компонента из фокуса сознания на его периферию и с периферии — за его границу, в область неосознаваемого. Движение в противоположную сторону означает возвращение каких-то компонентов навыка в сознание. Обычно оно происходит при возникновении трудностей или ошибок, при утомлении, эмоциональном напряжении. Это возвращение в сознание может быть и результатом произвольного намерения. Свойство любого компонента навыка вновь стать осознанным очень важно, поскольку оно обеспечивает гибкость навыка, возможность его дополнительного совершенствования или переделки.
Между прочим, этим свойством навыки отличаются от автоматических действий. Первичные автоматизмы не осознаются и не поддаются осознанию. Более того, попытки их осознать обычно расстраивают действие.
Это последнее обстоятельство отражено в хорошо известной притче о сороконожке. Сороконожку спросили: «Как ты узнаешь, какой из твоих сорока ног нужно сейчас сделать шаг?» Сороконожка глубоко задумалась — и не смогла двинуться с места!
В психологии много внимания уделялось проблеме механизмов формирования навыка, которая, как вы уже хорошо понимаете, имеет большое практическое значение.
Бихевиористы, считавшие, что психология должна встать на службу практики и при этом заниматься внешними действиями человека и животных, очень много исследовали этот вопрос. Однако их теория и практика экспериментирования находились в рамках очень механистических представлений. Согласно этим представлениям навык вырабатывается за счет «проторения» путей в мозговых центрах в результате механического повторения, или «зазубривания», одного и того же действия. Об участии и роли сознания в этом процессе для бихевиористов, конечно, не могло быть и речи.
В советской психологии проблеме формирования навыков также уделялось большое внимание. Однако подход к этой проблеме был совсем другой. Он не был отягощен бихевиористским требованием исключения роли сознания; в результате был найден целый ряд очень важных и совершенно не вписывающихся в бихевиористскую схему механизмов.
Большой вклад в эту проблему внес советский физиолог Н. А. Бернштейн, об идеях которого я буду говорить более подробно позже. Сейчас лишь упомяну о том, что он выдвинул совсем другой принцип: «повторение без повторения», который означает, что при отработке навыка человек не затверживает одно и то же действие, а постоянно варьирует его в поисках оптимальной «формулы» движения. При этом сознанию принадлежит очень важная роль.
В доказательство того, что механическое заучивание гораздо менее эффективно, чем «сознательное», Н. А. Бернштейн приводит следующий факт из личных наблюдений. Надо сказать, что он был очень хорошим пианистом и использовал собственные фортепианные упражнения для анализа интересовавших его механизмов.
Так вот, будучи молодым человеком и экономя время, которое ему было жалко тратить на отработку фортепианной техники, он делал следующее: ставил на пюпитр книгу, читал ее, а в это время разыгрывал гаммы или этюды, тренируя пальцы. И вот после достаточно длительного периода таких занятий он с удивлением обнаружил, что никакого прогресса в технике нет! Тогда он оставил чтение и перешел на вдумчивую отработку техники, после чего сразу достиг заметных результатов.
Между прочим, к выводу о необходимости сосредоточения внимания на отрабатываемых движениях давно пришли педагоги и тренеры. Вы, наверное, знаете, что в спорте существуют приемы идеомоторной тренировки — тренировки движений в плане представления, при внешней неподвижности обучающегося.
Есть такой прием и в фортепианной педагогике: человеку предлагается разыгрывать пьесы тоническими нажатиями пальцев, без их подъема и пространственного перемещения, — вы просто кладете руки на плоскость и тоническими нажатиями «проигрываете» произведение. Если кто-нибудь из вас играет и хочет технически отработать сложную вещь, попробуйте этот способ. После того как вы час или два позанимаетесь таким образом, вы почувствуете необыкновенную усталость — гораздо большую, чем при реальной игре (а большая усталость говорит и о большей загрузке мозговых центров). Зато после такого двухчасового упражнения про фесе оказывается гораздо более заметным, чем при фазической, т. е. при внешнедвигательной игре.
Гимнастика йоги, по-видимому, имеет тот же смысл. Когда мы делаем упражнения, размахивая руками и ногами, то с большой вероятностью оберегаем свои моторные центры от излишней нагрузки; мы лишь формально проделываем движение, не задумываясь о его тонких деталях. В то же время, гимнастика йоги построена исключительно на тонических напряжениях мышц. Вся эта работа идет под сознательным контролем, идет интенсивно и приносит очень хорошие результаты.
Итак, выработка навыка — это процесс, идущий как бы с двух противоположных сторон: со стороны субъекта и со стороны организма. Мы произвольно и сознательно вычленяем из сложных движений отдельные элементы и отрабатываем правильное их выполнение. Одновременно, уже без участия нашей воли и сознания, идет процесс автоматизации действия. Этим мы обязаны уже собственно физиологическим свойствам и механизмам нашего организма. Он обладает таким замечательным даром: перенимать на себя в ходе автоматизации значительную часть работы, организуемой сознанием.
До сих пор наши примеры касались преимущественно двигательных автоматизмов. Возникает вопрос: а существуют ли автоматизмы в других сферах психической жизни человека, например в восприятии?
Да, конечно, существуют. Хорошо известно, что высшие формы зрительного или слухового восприятия требуют длительных упражнений. Именно в ходе длительной практики вырабатываются, например, такие способности, как «чтение» рентгенограмм, восприятие радиокода Морзе и др.
Но можно взять примеры из повседневной жизни. Попробуйте вспомнить, как вам слышалась иностранная речь на чужом когда-то языке: это был сплошной, нерасчлененный поток звуков. А после обучения этому языкe вы стали воспринимать его совершенно иначе, четко выделяя слова и целые фразы. Этим вы обязаны образованию слуховых автоматизмов.
В нашем обычном восприятии мира трудно увидеть «черновую работу» неосознаваемых механизмов. Но с помощью специальных приемов она может быть обнаружена. Дело в том, что иногда, будучи поставлены в необычные условия, перцептивные автоматизмы искажают восприятие, т. е. становятся причиной иллюзий, и тем самым себя обнаруживают. Приведу пример.
 |
Перед вами оконная рама (рис. 3). Она называется «иллюзией окна», или «окном Эймса», по имени ее автора, американского психолога. Это плоская модель рамы, которая насажена на ось. Моторчик вращает ось и приводит раму в движение.
Итак, я задаю вам вопрос: как вращается это «окно»? Вы отвечаете: «То туда, то сюда», и это ваше вполне четкое впечатление. Так? Так!
Ну, а теперь я вам скажу, что это впечатление ошибочно: рама все время вращалась в одну сторону, по часовой стрелке. Не верите? Да трудно поверить: ведь вы отчетливо видели колебательные движения! И все-таки это так. А теперь разберемся, в чем тут дело.
Объяснение иллюзии надо начать с рассмотрения формы окна. Вы видите, что оно имеет форму трапеции. Основана эта иллюзия на очень сильном признаке глубины – линейной перспективе. В чем это признак состоит? Он хорошо известен: если вы смотрите на уходящие вдаль рельсы, то они кажутся сходящимися, т.е. расстояние между ними кажется постепенно уменьшающимся.
Точно так же если вы смотрите на обычное окно в комнате под углом, то сторона, которая ближе к вам, выглядит большей, а та, которая дальше, — меньшей. Такая связь видимого размера и удаленности повторялась в вашем опыте многие тысячи раз на очень многих объектах. В результате теперь, когда вы видите одно из двух реально одинаковых тел меньше, то понимаете, что оно дальше, а точнее, видите его находящимся дальше. В этом и состоит суть обсуждаемого перцептивного автоматизма; его можно описать как «срабатывание» признака линейной перспективы.
Этот неосознаваемый процесс относится к группе автоматических актов, которые формируются без участия сознания. Уже маленькие дети фактически используют этот признак, не отдавая себе в нем отчета. Да и взрослые его непосредственно не осознают, а узнают о нем разве что из учебников психологии или руководств по проективному рисунку.
Итак, автор иллюзии использовал описанный перцептивный автоматизм – срабатывание признака линейной перспективы; это во-первых.
Во-вторых, он учел наш перцептивный опыт в отношении формы оконных рам, перцептивное «знание» того, что они прямоугольные, т.е. что их стороны одинаковые.
Главная «хитрость» его состояла в том, что он сделал окно не прямоугольным. В результате, когда окно поворачивается так, что его бОльшая сторона оказывается к вам ближе, вы видите расположение окна правильно: большую сторону ближе, меньшую дальше. Когда же на вас начинает «находить» меньшая сторона, то ее размер (при убеждении, что стороны одинаковы) не позволяет «пропустить» ее вперед — и вы видите меньший край окна снова отходящим назад.
Механизмами такого рода много занимался Г. Гельмгольц. Для их описания он предложил термин «бессознательное умозаключение». Г. Гельмгольц подчеркивал, что слово «умозаключение» надо ставить в кавычки потому, что этот процесс подобен умозаключению только по результату: по природе же он отличается от истинного умозаключения, так как происходит бессознательно. Мы как бы рассуждаем, но на самом деле этого не делаем: за нас подобную работу производит неосознаваемый перцептивный процесс.
Например, в случае иллюзии окна процесс этот эквивалентен следующему умозаключению.
Известно, что когда одна из одинаковых сторон меньше, то она дальше (большая посылка).
Эта сторона — меньше (малая посылка).
Значит, она дальше (вывод).
Поскольку процесс протекает бессознательно, сознательные усилия изменить его не могут. Бессознательные умозаключения, по выражению Гельмгольца, «непреодолимы».
И действительно, сколько бы я вас ни убеждала, что на самом деле окно движется в одну сторону, сколько бы вы его не «трогали руками» (в буквальном или переносном смысле), вы все равно будете видеть его движение иллюзорно.
Спросим себя, а есть ли автоматические процессы в умственной сфере? Конечно, есть. Их так много, что сразу даже трудно выбрать какой-нибудь простой пример.
Лучше всего, наверное, обратиться к области математики. Именно там для нас наиболее очевиден процесс последовательного наслоения все более сложных действий, умений или знаний на автоматизированные предшествующие «слои». Уход более элементарных действий на неосознаваемый уровень сопровождается моментальным «усмотрением» того, что вначале требовало развернутого процесса мышления.
Рассмотрим такой алгебраический пример:

Чему равно это выражение? Одним словом, в ответе — единица. Так? Так. А теперь посмотрим, на что опиралось решение. Оно опиралось на непосредственное «видение» того, что, например, в числителе имеется неполный квадрат суммы и разность квадратов, а в знаменателе — разность кубов; на знание их разложения; на моментальное использование правила сокращения одинаковых сомножителей в числителе и знаменателе; на знание того, что 1 — это и I2 и I3, и т. д. Все эти «видения», «использования правил», «знания» — автоматизированные умственные действия, путь к которым состоял из многих и многих шагов, которые мы когда-то проделали, начиная с обучения в первом классе.
На этом мы заканчиваем знакомство с первым подклассом неосознаваемых механизмов и переходим ко второму — б) явлениям неосознаваемой установки.
Понятие «установка» заняло в психологии очень важное место, наверное, потому, что явления установки пронизывают практически все сферы психической жизни человека.
В советской психологии существует целое направление — грузинская школа психологов, которое разрабатывает проблему установки в очень широком масштабе. Грузинские психологи являются непосредственными учениками и последователями выдающегося советского психолога Дмитрия Николаевича Узнадзе (1886—1950), который создал теорию установки и организовал разработку этой проблемы силами большого коллектива.
Собственно теорию установки я с вами разбирать не буду: это большая и сложная тема. Ограничусь знакомством с явлениями неосознаваемой установки.
Прежде всего, что такое установка. По определению, это — готовность организма или субъекта к совершению определенного действия или к реагированию в определенном направлении.
Замечу, что речь идет именно о готовности к предстоящему действию. Если навык относится к периоду осуществления действия, то установка — к периоду, который ему предшествует.
Фактов, демонстрирующих готовность, или предварительную настройку организма к действию, чрезвычайно много, и они очень разнообразны. Как я уже говорила, они относятся к разным сферам психической жизни индивида.
Например, ребенок задолго до годовалого возраста, пытаясь взять предмет, подстраивает кисть руки под его форму: если это маленькая крошечка, то он сближает и вытягивает пальцы, если это круглый предмет, он округляет и разводит пальцы, и т. д. Подобные преднастройки позы руки иллюстрируют моторную установку.
Спринтер на старте находится в состоянии готовности к рывку — это тоже моторная установка.
Если вы сидите в темной комнате и со страхом ждете чего-то угрожающего, то иногда и в самом деле начинаете слышать шаги или подозрительные шорохи. Поговорка «у страха глаза велики» отражает явления перцептивной установки.
Когда вам дается какой-нибудь математический пример, выраженный в тригонометрических символах, то у вас создается установка решать его с помощью формул тригонометрии, хотя иногда это решение сводится к простым алгебраическим преобразованиям. Это пример умственной установки.
Состояние готовности, или установка, имеет очень важное функциональное значение. Субъект, подготовленный к определенному действию, имеет возможность осуществить его быстро и точно, т. е. более эффективно.
Но иногда механизмы установки вводят человека в заблуждение (пример необоснованного страха). Приведу вам еще один пример, на этот раз заимствуя его из древнекитайского литературного памятника.
«Пропал у одного человека топор. Подумал он на сына своего соседа и стал к нему приглядываться: ходит, как укравший топор, глядит, как укравший топор, говорит, как укравший топор. Словом, каждый жест, каждое движение выдают в нем вора.
Но вскоре тот человек стал вскапывать землю в долине и нашел свой топор. На другой же день посмотрел на сына соседа: ни жестом, ни движением не похож он на вора» [9, с. 271].
Именно «ошибки установки», которые проявляются в ошибочных действиях, восприятиях или оценках, относятся к наиболее выразительным ее проявлениям и раньше всего привлекли внимание психологов.
Надо сказать, что не всякая установка неосознаваема. Можно сознательно ждать страшного — и действительно видеть страшное, можно осознанно подозревать человека в краже топора — и действительно видеть, что он ходит, «как укравший топор».
Но наибольший интерес представляют проявления именно неосознаваемой установки. Именно с них и начались экспериментальные и теоретические исследования в школе Д. Н. Узнадзе [113].
Основные опыты, которые явились отправной точкой для дальнейшего развития концепции Д. Н. Узнадзе, проходили следующим образом. Испытуемому давали в руки два шара разного объема и просили оценить, в какой руке шар больше. Больший шар, предположим, давался в левую руку, меньший — в правую. Испытуемый правильно оценивал объемы шаров, и проба повторялась: снова в левую руку давали больший шар, а в правую — меньший, и испытуемый снова правильно оценивал объемы. Снова повторялась проба, и так раз пятнадцать подряд*.
_______________
* Повторение проб служило цели укрепления, или фиксации, установки, соответственно описываемые опыты получили название экспериментов с фиксированной установкой.
Наконец, в очередной, шестнадцатой, пробе неожиданно для испытуемого давались два одинаковых шара с той же самой инструкцией: «сравнить их объемы». И вот оказалось, что испытуемый в этой последней, контрольной пробе оценивал шары ошибочно: он воспринимал их снова как разные по объему.
Зафиксировавшаяся установка на то, что в левую руку будет дан больший шар, определяла, или направляла, перцептивный процесс: испытуемые, как правило, говорили, что в левой руке шар меньше. Правда, иногда ответы были такие же, как и в установочных пробах, т. е. что в левой руке шар больше. Ошибки первого типа были названы контрастными иллюзиями установки, ошибки второго типа — ассимилятивными иллюзиями установки.
Д. Н. Узнадзе и его сотрудники подробно изучили условия возникновения иллюзий каждого типа, но я не буду на них сейчас останавливаться. Важно другое — убедиться, что установка в данном случае была действительно неосознаваемой.
Непосредственно это не очевидно. Более того, можно предположить, что в подготовительных пробах испытуемые вполне осознавали, что идут однотипные предъявления, и начинали сознательно ждать такой же пробы в очередной раз.
Предположение это абсолютно справедливо, и для того, чтобы его проверить, Д. Н. Узнадзе проводит контрольный эксперимент с гипнозом.
Испытуемого усыпляют и в состоянии гипноза проводят предварительные установочные пробы. Затем испытуемый пробуждается, но перед тем ему внушается, что он ничего не будет помнить. Вслед за пробуждением ему дается всего одна, контрольная проба. И вот оказывается, что в ней испытуемый дает ошибочный ответ, хотя он не знает, что до того ему много раз предъявлялись шары разного размера. Установка у него образовалась и теперь проявилась типичным для нее образом.
Итак, описанными опытами было доказано, что процессы образования и действия установки изучаемого типа не осознаются.
Д. Н. Узнадзе, а за ним и его последователи придали принципиальное значение этим результатам. Они увидели в явлениях неосознаваемой установки свидетельство существования особой, «досознательной», формы психики. По их мнению, это ранняя (в генетическом и функциональном смысле) ступень развития любого сознательного процесса.
Можно различным образом относиться к той или иной теоретической интерпретации явлений неосознаваемой установки, но безусловный факт состоит в том, что эти явления, как и рассмотренные выше автоматизмы, обнаруживают многоуровневую природу психических процессов.
Перейдем к третьему подклассу неосознаваемых механизмов — в) неосознаваемым сопровождениям сознательных действий.
Не все неосознаваемые компоненты действий имеют одинаковую функциональную нагрузку. Некоторые из них реализуют сознательные действия — и они отнесены к первому подклассу; другие подготавливают действия — и они описаны во втором подклассе.
Наконец, существуют неосознаваемые процессы, которые просто сопровождают действия, и они выделены нами в третий подкласс. Этих процессов большое количество, и они чрезвычайно интересны для психологии. Приведу примеры.
Вам, наверное, приходилось наблюдать, как человек, орудующий ножницами, двигает челюстями в ритме этих движений. Что это за движения? Можно ли отнести их к двигательным навыкам? Нет, потому что движения челюстями не реализуют действие; они также никак не подготавливают его, они лишь сопровождают его.
Другой пример. Когда игрок на бильярде пускает шар мимо лузы, то часто он пытается «выправить» его движение вполне бесполезным движением рук, корпуса или кия.
Студенты на экзаменах часто очень сильно зажимают ручку или ломают карандаш, когда их просишь, например, нарисовать график, особенно если они в этом графике не очень уверены.
Человек, который смотрит на другого, порезавшего, например, палец, строит горестную гримасу, сопереживая ему, и совершенно этого не замечает.
Итак, в группу процессов третьего подкласса входят непроизвольные движения, тонические напряжения, мимика и пантомимика, а также большой класс вегетативных реакций, сопровождающих действия и состояния человека.
Многие из этих процессов, особенно вегетативные компоненты, составляют классический объект физиологии. Тем не менее, как я уже сказала, они чрезвычайно важны для психологии. Важность эта определяется двумя обстоятельствами.
Во-первых, обсуждаемые процессы включены в общение между людьми и представляют собой важнейшие дополнительные (наряду с речью) средства коммуникации.
Во-вторых, они могут быть использованы как объективные показатели различных психологических характеристик человека — его намерений, отношений, скрытых желаний, мыслей и т. д. Именно с расчетом на эти процессы в экспериментальной психологии ведется интенсивная разработка так называемых объективных индикаторов (или физиологических коррелятов) психологических процессов и состояний.
Для пояснения обоих пунктов снова приведу примеры.
Первый пример будет развернутой иллюстрацией того, как можно непроизвольно и неосознаваемо передавать информацию другому лицу.
Речь пойдет о «таинственном» феномене «чтения мыслей» с помощью мышечного чувства. Вы, наверное, слышали о сеансах, которые дают некоторые лица с эстрады. Суть их искусства состоит в действительно уникальной способности воспринимать у другого лица так называемые идеомоторные акты, т. е. тончайшие мышечные напряжения и микродвижения, которыми сопровождается усиленное представление какого-то действия.
Однажды мне довелось посетить сеанс В. Мессинга, одного из самых известных «чтецов мыслей», и я поделюсь с вами своими впечатлениями.
Его сеансы обычно проходили так. Из публики посылались в жюри записки с заданиями; жюри (составленное из зрителей) знакомилось с ними и приглашало автора одного из заданий на сцену, чтобы тот выступил в роли мысленного транслятора, или индуктора. Для этого он должен был, положив свою руку на предплечье В. Мессинга, усиленно думать о предстоящем действии. Индуктор предупреждался, что, если В. Мессинг будет делать не то, следует мысленно решительно говорить ему «нет»!
Нужно заметить, что круг задач, которые выполнял В. Мессинг, был достаточно ограничен. Перед началом сеанса его ассистент перечислял, что Мессинг не берется отгадывать: он не воспроизводил задуманные тексты или стихотворения, не писал под диктовку, не отгадывал рисунки, ноты и т. п.
А что же он брался делать? Для примера приводились наиболее выдающиеся случаи его отгадок. Например, однажды Мессинг отыскал в зале задуманный ряд, подошел к зрителю, сидящему на определенном месте, вынул у него из кармана пиджака карманные шахматы, расставил фигуры заданным образом и сделал заданный ход. Или: нашел книгу, в ней — указанную страницу и прочитал задуманную строчку.
Пристальный анализ подобных задач показывает, что все они имеют «маршрутный» или «адресный» характер, т. е. требуют куда-то пойти, где-то остановиться, что-то куда-то передвинуть и т. п. И вот человек, усиленно думая о нужном движении, сам того не замечая, слегка подталкивает В. Мессинга в нужном направлении и останавливает в нужном месте.
Вы скажете: «Ну хорошо, «подтолкнуть» человека к тому, чтобы он сошел со сцены в зал, «провести» его по рядам, «остановить» около нужного ряда и места — это еще возможно. Но как же дальше? Как быть, например, с расстановкой шахмат?»
Отвечу: в подобных задачах Мессингу помогал дополнительный прием — совершение непрерывных пробующих движений, на каждое из которых он получал сигналы «разрешения» или «запрета».
Чтобы не быть голословной, поделюсь личным опытом: на уже упомянутом сеансе мне посчастливилось выступить в роли индуктора.
Задуманная мною задача состояла из нескольких простых действий. Сначала надо было, идя по сцене, описать траекторию восьмерки, обогнув последовательно стол жюри и стол ассистента, потом пройти тот же маршрут в обратном направлении, наконец, подойти к роялю на сцене, повернуть стул сиденьем наружу и сесть на него. Вот и все.
Надо сказать, что Мессинг начинал с того, что приводил индуктора в особое состояние. Он поставил меня перед собой — учтите, что все это происходило на сцене, на нас были направлены прожектора, а также взоры нескольких сот зрителей. К тому же сам Мессинг был очень возбужден; он «ел» меня глазами, делал перед моим лицом какие-то пассы, проводил руками по моим рукам, требуя расслабиться, и в то же время приказывал нервными отрывочными фразами: «Прошу вас, смотрите на меня, смотрите на меня, смотрите на меня! Думайте, думайте! Думайте, думайте!» Потом дал мне руку - рука сильно дрожала; я подумала, что, наверное, это тоже специальная мера, чтобы «раскачать» и мою руку и чтобы она лучше «транслировала» мои намерения.
Наконец, задав очень быстрый темп движения, он двинулся вперед, так что я за ним еле успевала.
Мы проделали половину «восьмерки», когда я решила, продолжая думать о задании, проконтролировать свою руку, чтобы она двигательного ничего не сообщала. Как только я приняла это решение, Мессинг сделал совершенно ненужную петлю, во время которой мы чуть вообще не сбежали со сцены. (Надо сказать, что подавляющее большинство задач до этого решались в зале, и он привык отправляться в зал.)
Только большими усилиями руки (уже вполне сознательными) мне удалось вернуть его на нашу «восьмерку».
Наконец, мы подошли к стулу у рояля — и здесь случилось нечто совершенно непредвиденное. На стуле случайно оказался кошелек, кем-то забытый. Кошелек никак не входил в программу, но Мессинг этого не мог знать. Он схватил кошелек и стал вертеть его в руках. Я «думала» изо всех сил, что ему не надо этого делать (что выражалось, как я чувствовала, в энергичных запрещающих сжатиях моей руки). Он, конечно, воспринимал эти сигналы, но продолжал искать в ложном направлении: побежал к своему рабочему столику, открыл кошелек и стал выкидывать все, что там лежало.
Здесь я уже совсем пришла в ужас, и изо всех сил транслировала ему «запрещения», но он только говорил: «Мне больно, мне больно!» — и продолжал действовать в том же духе. Среди прочих вещей в кошельке оказалась автобусная книжечка. Он ее то вкладывал, то выкладывал, а в конце концов начал отрывать от нее один билетик за другим (смотрите, какая изобретательность в поиске!).
Наконец, мне удалось почти буквально «оттащить» его назад к роялю. Надо сказать, что к этому моменту мне уже захотелось, чтобы все это поскорее кончилось. Я уже не следила за тем, чтобы не подавать знаков, наоборот, старалась подавать их изо всех сил.
Итак, мы подошли к стулу, и я стала «думать», чтобы он его повернул (делал такие несколько поворачивающие движения рукой).
И Мессинг начал действительно поворачивать стул, но, увы — вверх ногами! Я усиленно думала, что его надо повернуть не так, а вот так, но ничего не действовало. Он вертел его минуты три; наконец, стул оказался в нужном положении, и я резко расслабила руку.
Но еще не конец, и Мессинг это чувствовал. Теперь по программе записки, которая находилась перед глазами жюри, надо было сесть на стул. И вот эта задача оказалась самой трудной! Ведь она была «неадресной»! Нужно было придать определенную позу своему телу, и это-то как раз труднее всего было отгадать по мышечным усилиям моей руки.
И когда в ответ на мое усиленное думание Мессинг снова начал переворачивать стул вверх ногами, мне пришлось перейти на старый, проверенный способ передачи мыслей — сказать ему сквозь зубы: «Сядьте!» — и только тогда наше выступление закончилось.
Итак, еще раз: во-первых, большая активность и изобретательность при поиске нужного действия и, во-вторых, высокая чувствительность к идеомоторным сигналам — этих двух способностей достаточно для выполнения сложных «адресных» задач при так называемом чтении мыслей.
Теперь спросим себя: а происходит ли неосознаваемая передача информации в обыденной жизни, в профессиональной деятельности? Конечно, происходит. Вспомним некоторые виды спорта, которые требуют точного согласования движений партнеров, например, парное фигурное катание. Хотя этот вопрос и не исследовался специально, с большой вероятностью можно предположить, что удивительная слаженность у фигуристов достигается за счет взаимного восприятия мимолетных мышечных напряжений, перераспределений тонуса, незаметных подготовительных движений и т. п. Заметим, что сознание спортсменов обычно занято художественной стороной исполнения, так что взаимный обмен двигательной информацией, скорее всего, проходит на неосознаваемом уровне.
Возьмем другой пример: боксеры и фехтовальщики. Должны они уметь разгадывать готовящиеся удары противника? Обязательно должны. И вот та непрерывная двигательная активность, в которой находится фехтующий или боксирующий спортсмен, наверняка направлена не только на подготовку нужного движения, но и на маскировку его. Канал общения между противниками как бы забивается лишними движениями, и последние организуются как мера предотвращения невольной, неосознаваемой передачи информации.
Но сделаем шаг в еще более широкую область — повседневное общение людей друг с другом. Неосознаваемые и полуосознаваемые компоненты речевой моторики постоянно обнаруживают наши состояния и настроения. Ведь голос человека может приобретать массу оттенков: быть глухим, звонким, хриплым, металлическим, дрожащим, мягким, и всеми этими качествами он обязан тонической активности голосовых связок и артикуляционного аппарата. Она, как и напряжения руки, далеко не всегда осознается, особенно ввиду того, что главная функция речевых движений состоит в передаче смысла, и сознание занято преимущественно этой их стороной.
Важно подчеркнуть, что эмоционально-выразительные сопровождения подобных действий часто не осознаются не только лицом, «индуцирующим» сигналы этого рода, но и тем, кто их воспринимает.
Сколько раз вам, наверное, приходилось наблюдать, как один человек перенимает у другого позы, жесты, манеру говорить, совершенно не замечая этого. Способность неосознаваемых компонентов общения оказывать на другое лицо также неосознаваемое действие является одним из самых замечательных их свойств. Можно думать, что свойство это уходит корнями в биологические механизмы подражания и эмоционального заражения, которые играют ведущую роль в коммуникации животных.
Сказанного, наверное, достаточно, чтобы понять, почему в экспериментальной психологии издавна предпринимались попытки обнаружить, и по возможности зарегистрировать, неосознаваемые компоненты действий и состояний человека.
В качестве примера я приведу одно исследование, которое было проведено в 20-х гг. прошлого века молодым тогда психологом А. Р. Лурией, впоследствии ученым с мировым именем, профессором Московского университета.
В основу этого исследования был положен так называемый ассоциативный эксперимент, предложенный К. Юнгом для выявления скрытых аффективных комплексов. В таком эксперименте испытуемому обычно предъявляют длинный список слов, на каждое из которых он должен ответить первым приходящим в голову словом.
А. Р. Лурия внес в описанную методику следующую модификацию: он просил испытуемого вместе с произнесением ответного слова нажимать на очень чувствительный датчик (это была мембрана пневматического барабанчика). Таким образом, словесный ответ сочетался, или сопрягался, с моторной ручной реакцией, ввиду чего методика в целом и получила название сопряженной моторной методики А. Р. Лурии [69].
И вот что оказалось. Если предлагаемое слово было нейтральным, то через положенное время, в среднем спустя 2—3 секунды, следовал отпет (например, дом — окно, стол — стул) и запись моторной реакции имела острый пик, который означал уверенное нажатие на датчик. Если же предлагалось эмоционально окрашенное слово, то время речевой реакции увеличивалось до 10—25 и более секунд, но это было известно и раньше. Что же касается моторного ответа, то он тоже задерживался, но до явного нажатия в руке разыгрывалась своего рода «тоническая буря»: на записи руки можно было видеть подъемы и спады, снова подъемы, дрожь и т. п. Все это отражало «смятение» испытуемого в период подыскания подходящего ответа.
Эта методика была применена А. Р. Лурией к лицам, которые находились под следствием и подозревались в преступлении.
Вот один пример. Субъекту, причастному к убийству, дается слово «полотенце» (для него это значимое слово, так как во время преступления жертва при сопротивлении поранила ему руку и он оторвал кусок полотенца, чтобы перевязать рану). Следует период молчания в течение 7 секунд. Одновременно в моторной сфере наблюдается тоническое волнение — на записи медленно поднимается «горб» с неровной, колеблющейся формой; внешняя же реакция так и не наступает [69, с. 232].
В настоящее время высокая техническая оснащенность психологического эксперимента позволила изучить и применять в целях диагностики различных психических состояний человека (эмоционального возбуждения, напряжения, стресса, концентрации внимания и др.) десятки объективных индикаторов. Среди них и традиционные физиологические показатели, такие как пульс, частота дыхания, кровяное давление, электрическая активность мозга и такие недавно изученные индикаторы, как, например, микродвижения глаз, зрачковая реакция и др. Любопытные результаты были получены в одном американском исследовании, где для выявления эмоциональных состояний использовалась регистрация ширины зрачка.
Испытуемым-студентам (мужчинам и женщинам) предъявлялись картины различного содержания. Среди них были фигура обнаженного мужчины, фигура обнаженной женщины, изображение матери с ребенком и пейзаж.
Как видно на рис. 4, у испытуемых-мужчин ширина зрачка оказалась наибольшей при рассматривании фигуры женщины, а у женщин — при восприятии матери и ребенка. Кстати, с помощью этого метода оказалось возможным выявлять лиц-гомосексуалистов.
В целом в ходе исследований подобного рода обнаружилась следующая важная в теоретическом и практическом отношении закономерность. Когда перед человеком возникает задача овладения собственными выразительными реакциями, то он решает ее с разным успехом в отношении реакций различного типа.
Легче всего человеку удается контролировать внешние действия (слова, движения и пр.), заметно труднее — мышечную тонику (позу, мимику, интонацию). Наконец, на последнем месте оказываются такие вегетативные компоненты действий, как слезы, дрожь, изменения зрачка и т. п. Из сказанного ясно, что малоосознаваемые реакции могут быть наиболее информативными и, возможно, наиболее действенными в плане передачи эмоциональных состояний в процессе общения.
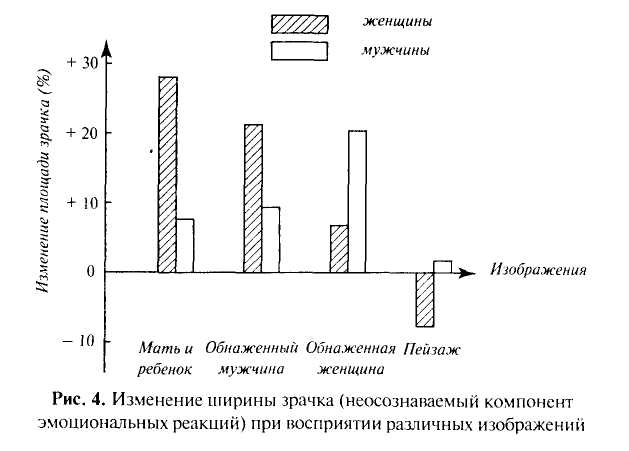
Лекция 6
НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ (продолжение)
НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ ПОБУДИТЕЛИ ДЕЙСТВИЙ: З. ФРЕЙД И ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ;
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО;
МЕТОДЫ ПСИХОАНАЛИЗА. «НАДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ» ПРОЦЕССЫ. СОЗНАНИЕ И НЕОСОЗНАВАЕМОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕОСОЗНАВАЕМЫХ ПРОЦЕССОВ
Обратимся ко второму большому классу неосознаваемых процессов — неосознаваемым побудителям сознательных действий.
Эта тема тесно связана, прежде всего, с именем Зигмунда Фрейда. Сначала несколько слов о самом З. Фрейде.
Он прожил 83 года (1856-1939), и почти 80 лет из них провел в Вене. После окончания медицинского факультета Венского университета З. Фрейд некоторое время пробыл в Париже, в клинике известного в то время психиатра Шарко, а затем вернулся в Вену, где стал работать в качестве практикующего врача.
Вскоре после начала своей врачебной деятельности он занялся разработкой теоретических проблем личности и особого метода лечения психических заболеваний, в основном неврозов. Как теория Фрейда, так и его метод лечения, названный им психоаналитическим, стали очень популярны. Сам З. Фрейд считается одним из самых известных психологов XX в.
Однако отношение к теории З. Фрейда и к его взглядам в целом было очень противоречивым. Его теория как никакая другая с самого начала подвергалась ожесточенной критике и даже осуждению.
С чем же связано такое противоречивое отношение к творчеству Фрейда? Одна из причин состоит в том, что З. Фрейд был сам очень противоречив. Когда читаешь его тексты, то удивляешься присутствию в них элементов прямо противоположного рода. С одной стороны, он очень внимателен к фактам, можно сказать, великий знаток фактов. С ними он очень корректно работает, интересно обобщает, выдвигает смелые теоретические положения и снова доказывает их фактами. С другой стороны, в его текстах встречаешь теоретические построения, практически ничем не обоснованные.
Надо сказать, что удельные веса того и другого компонентов очень разные в различных его произведениях. И чем раньше написан текст, тем больше корректной работы с фактами, а чем позднее — тем больше теоретических спекуляций. Возникает впечатление, что чем больше росла слава З. Фрейда, тем больше он начинал верить в то, что его построения верны, и становился менее самокритичен.
К тому же надо добавить, что критику своей теории он принимал как подтверждение последней. Согласно его теории человек не пропускает в сознание всю правду о себе. Точно так же и человечество, говорил Фрейд, не хочет принять его учение об истинной природе человека, и критика его теории есть работа тех же самых механизмов защиты и вытеснения, которые действуют в индивидуальной психике, но только в масштабе общественного сознания.
З. Фрейд был современником В. Вундта, В. Джемса и Э. Титченера. Когда он начал создавать свою теорию, то отчетливо понимал, насколько она расходится с традиционной психологией, т. е. с психологией сознания.
Говорят, однажды он сравнил Вундта с легендарным великаном, у которого была снесена голова, а он, в пылу битвы не замечая этого, продолжал сражаться. Фрейд заметил, что традиционная психология, по-видимому, умерщвлена его учением о сновидениях, но она этого пока не замечает и продолжает поучать дальше.
З. Фрейд обладал непримиримым характером. Он растерял почти всех своих учеников, которые пытались как-то изменить или дополнить его доктрину. Поскольку психоанализ пробивает себе дорогу с величайшим трудом, считал он, каждое отступление следует рассматривать как предательство.
Я остановлюсь далее на одном наиболее позитивном вкладе Фрейда — описании и анализе неосознаваемых причин некоторых психических явлений и действий.
Маленькая историческая справка. Интерес к неосознаваемым процессам возник у Фрейда в самом начале его врачебной деятельности. Толчком послужила демонстрация так называемого постгипнотического внушения, на которой Фрейд присутствовал и которая произвела на него потрясающее впечатление.
Одной даме внушили в гипнозе, что она по пробуждении должна взять зонтик кого-то из гостей, стоящий в углу комнаты. Когда она проснулась, то действительно взяла зонтик и раскрыла его. На вопрос, зачем она это сделала, дама ответила, что захотела проверить, исправен ли зонтик. Когда же ей заметили, что зонтик чужой, она смутилась и поставила его на место.
Подобные факты были известны и до Фрейда. Приведу описание еще одного интересного случая, принадлежащее французскому психиатру XIX в. Ш. Рише, который много занимался гипнозом.
Врач внушил в гипнозе одной своей пациентке, чтобы та пришла к нему через неделю; он внушил ей также, что по пробуждении она не будет помнить об этом задании. Прошла неделя, и в назначенный день и час раздался звонок. Появилась пациентка со следующими словами: «Я решительно не знаю, зачем пришла; погода ужасная. У меня дома гости. Я бежала, чтоб сюда скорее дойти; мне некогда у вас оставаться, я должна немедленно уйти. Это просто нелепо. Я совершенно не понимаю, зачем пришла» [91, с. 141].
Но вернемся к З. Фрейду. Какие особенности феномена постгипнотического внушения привлекли его внимание? Во-первых, неосознаваемость причин совершаемых действии. Во-вторых, абсолютная действенность этих причин: человек выполняет задание, несмотря на то, что сам не знает, почему он это делает. В-третьих, стремление подыскать объяснение, или мотивировку, своему действию. Наконец, в-четвертых, возможность иногда путем длительных расспросов привести человека к воспоминанию об истинной причине его действия, по крайней мере так было в случае с зонтиком.
На основании анализа подобных и многих других фактов — о них я скажу позже — З. Фрейд создал свою теорию бессознательного. Согласно ей в психике человека существуют три сферы, или области: сознание, предсознание и бессознательное.
Типичными обитателями предсознательной сферы, по мнению Фрейда, являются скрытые, или латентные, знания. Это те знания, которыми человек располагает, но которые в данный момент в его сознании не присутствуют.
Вы, например, очень хорошо знаете имя и отчество своей тети или бабушки, но до того, как я упомянула об этом, актуально их не осознавали. Точно так же вы хорошо знаете теорему Пифагора, но и она не присутствует постоянно в вашем сознании.
Таким образом, по Фрейду, психика шире, чем сознание. Скрытые знания — это тоже психические образования, но они неосознанны. Для их осознания, впрочем, нужно только усилить следы прошлых впечатлений.
Фрейд считает возможным поместить эти содержания в сферу, непосредственно примыкающую к сознанию (в предсознание), поскольку они при необходимости легко переводятся в сознание.
Что же касается области бессознательного, то она обладает совершенно другими свойствами.
Прежде всего, содержания этой области не осознаются не потому, что они слабы, как в случае с латентными знаниями. Нет, они сильны, и сила их проявляется в том, что они оказывают влияние на наши действия и состояния. Итак, первое отличительное свойство бессознательных представлений — это их действенность. Второе их свойство состоит в том, что они с трудом переходят в сознание. Объясняется это работой двух механизмов, которые постулирует Фрейд, — механизмов вытеснения и сопротивления.
По мнению З. Фрейда, психическая жизнь человека определяется его влечениями, главное из которых — сексуальное влечение (либидо). Оно существует уже у младенца, хотя в детстве оно проходит через ряд стадий и форм. Ввиду множества социальных запретов сексуальные переживания и связанные с ними представления вытесняются из сознания и живут в сфере бессознательного. Они имеют большой энергетический заряд, однако в сознание не пропускаются: сознание оказывает им сопротивление. Тем не менее они прорываются в сознательную жизнь человека, принимая искаженную или символическую форму.
Фрейд выделил три основные формы проявления бессознательного: это сновидения, ошибочные действия (забывание вещей, намерений, имен; описки, оговорки и т. п.) и невротические симптомы.
Невротические симптомы были главными проявлениями, с которыми начал работать Фрейд. Вот один пример из его врачебной практики.
Молодая девушка заболела тяжелым неврозом после того, как, подойдя к постели умершей сестры, на мгновение подумала о своем шурине (муже сестры): «Теперь он свободен и сможет на мне жениться». Эта мысль была тут же ею вытеснена как совершенно неподобающая в данных обстоятельствах, и, заболев, девушка совершенно забыла всю сцену у постели сестры. Однако во время лечения она с большим трудом и волнением вспомнила ее, после чего наступило выздоровление.
Согласно представлениям З. Фрейда, невротические симптомы — это следы вытесненных травмирующих переживаний, которые образуют в сфере бессознательного сильно заряженный очаг и оттуда производят разрушительную работу. Очаг должен быть вскрыт и разряжен — и тогда невроз лишится своей причины.
Обратимся к случаям проявления неосознаваемых причин действий в обыденной жизни, которые в ранний период своей научной деятельности в большом количестве собрал и описал З. Фрейд [123].
Далеко не всегда (и вы сейчас это увидите) в основе симптомов лежит подавленное сексуальное влечение. В повседневной жизни возникает много неприятных переживаний, которые не связаны с сексуальной сферой, и тем не менее они подавляются или вытесняются субъектом. Они также образуют аффективные очаги, которые «прорываются» в ошибочных действиях.
Вот несколько случаев из наблюдений З. Фрейда. Первый относится к анализу «провала» его собственной памяти. Однажды Фрейд поспорил со своим знакомым по поводу того, сколько в хорошо известной им обоим дачной местности ресторанов: два или три? Знакомый утверждал, что три, а Фрейд — что два. Он назвал эти два и настаивал, что третьего нет. Однако этот третий ресторан все-таки был. Он имел то же название, что и имя одного коллеги Фрейда, с которым тот находился в натянутых отношениях.
Другой пример. Один знакомый Фрейда сдавал экзамен но философии (типа кандидатского минимума). Ему достался вопрос об учении Эпикура. Экзаменатор спросил, не знает ли он более поздних последователей Эпикура, на что экзаменующийся ответил: «Как же, Пьер Гассенди». Он назвал это имя потому, что два дня назад слышал в кафе разговор о Гассенди как об ученике Эпикура, хотя сам его работ не читал. Довольный экзаменатор спросил, откуда он знает это имя, и знакомый солгал, ответив, что специально интересовался работами этого философа.
После этого случая имя П. Гассенди, по словам знакомого Фрейда, постоянно выпадало из его памяти. «По-видимому, виной тому моя совесть, — заметил он, — я и тогда не должен был знать этого имени, вот и сейчас постоянно его забываю» [123, с. 112].
Следующий пример относится к оговоркам. З. Фрейд считал, что оговорки возникают не случайно: в них прорываются истинные (скрываемые) намерения и переживания человека.
Однажды председатель собрания, который по некоторым личным причинам не хотел, чтобы собрание состоялось, открывая его, произнес: «Разрешите считать наше собрание закрытым».
А вот пример ошибочного действия. Когда Фрейд был молодым практикующим врачом и ходил к больным на дом (а не они к нему), он заметил, что перед дверями некоторых квартир он вместо того чтобы позвонить, доставал собственный ключ. Проанализировав свои переживания, он нашел, что это случалось у дверей тех больных, где он чувствовал себя «как дома» [123, с. 147].
В психоанализе был разработан ряд методов выявления бессознательных аффективных комплексов. Главные из них — это метод свободных ассоциаций и метод анализа сновидений. Оба метода предполагают активную работу психоаналитика, заключающуюся в толковании непрерывно продуцируемых пациентом слов (метод свободных ассоциаций) или сновидений.
С той же целью используется уже частично знакомый вам ассоциативный эксперимент. Расскажу об этом методе более подробно, так как он наиболее простой.
Вы уже знаете, что в ассоциативном эксперименте испытуемому или пациенту предлагают быстро отвечать любым пришедшим в голову словом на предъявляемые слова. И вот оказывается, что после нескольких десятков проб в ответах испытуемого начинают появляться слова, связанные с его скрытыми переживаниями.
Если вы читали рассказ К. Чапека «Эксперимент доктора Роуса», то могли составить себе представление о том, как это все происходит.
Передам вам краткое содержание рассказа. В чешский городок приезжает американский профессор-психолог, чех по происхождению. Объявляется, что он продемонстрирует свое профессиональное мастерство. Собирается публика — знать города, журналисты и другие лица. Вводят преступника, который подозревается в убийстве. Профессор диктует ему слова, предлагая отвечать первым пришедшим в голову словом. Сначала преступник вообще не желает иметь с ним дело. Но потом игра «в слова» его увлекает, и он в нее втягивается. Профессор дает сначала нейтральные слова: пиво, улица, собака. Но постепенно он начинает включать слова, связанные с обстоятельствами преступления. Предлагается слово «кафе», ответ — «шоссе», дается слово «пятна», ответ — «мешок» (потом было выяснено, что пятна крови были вытерты мешком); на слово «спрятать» — ответ «зарыть», «лопата» — «яма», «яма» — «забор» и т. д.
Короче говоря, после сеанса по рекомендации профессора полицейские отправляются в некоторое место около забора, раскапывают яму и находят спрятанный труп [129].
У нас нет возможности разбирать далее теорию и технику психоанализа, равно как и его критику. Все это требует специального курса лекций. Моя цель была лишь познакомить вас с главным вкладом З. Фрейда — открытием им сферы динамического бессознательного и описанием форм его проявления.
Обратимся к третьему классу неосознаваемых процессов, которые я условно обозначила как «надсознательные» процессы. Если попытаться кратко их охарактеризовать, то можно сказать, что это процессы образования некоего интегрального продукта большой сознательной работы, который затем «вторгается» в сознательную жизнь человека и, как правило, меняет ее течение.
Чтобы понять, о чем идет речь, представьте себе, что вы заняты решением проблемы, о которой думаете изо дня в день в течение длительного времени, исчисляемого неделями и даже месяцами или годами. Это жизненно важная проблема. Вы думаете над каким-то вопросом, или о каком-то лице, или над каким-то событием, которое не поняли до конца и которое вас почему-то очень затронуло, вызвало мучительные размышления, колебания, сомнения. Думая над вашей проблемой, вы перебираете и анализируете различные впечатления и события, высказываете предположения, проверяете их, спорите с собой и с другими. И вот в один прекрасный день все проясняется — как будто пелена падает с ваших глаз. Иногда это случается неожиданно и как бы само собой, иногда поводом оказывается еще одно рядовое впечатление, но это впечатление как последняя капля воды, переполнившая чашу. Вы вдруг приобретаете совершенно новый взгляд на предмет, и это уже не рядовой взгляд, не один из тех вариантов, которые вы перебирали ранее. Он качественно новый; он остается в вас и порой ведет к важному повороту в вашей жизни.
Таким образом, то, что вошло в ваше сознание, является действительно интегральным продуктом предшествовавшего процесса. Однако вы не имели четкого представления о ходе последнего. Вы знали только то, о чем думали и что переживали в каждый данный момент или в ограниченный период времени. Весь же большой процесс, который по всем признакам происходил в вас, вами вовсе не прослеживался.
Почему же подобные процессы следует поместить вне сознания? Потому, что они отличаются от сознательных процессов, по крайней мере, в следующих двух важных отношениях.
Во-первых, субъект не знает того конечного итога, к которому приведет «надсознательный» процесс. Сознательные же процессы предполагают цель действия, т. е. ясное осознание результата, к которому субъект стремится. Во-вторых, неизвестен момент, когда «надсознательный» процесс закончится; часто он завершается внезапно, неожиданно для субъекта. Сознательные же действия, напротив, предполагают контроль за приближением к цели и приблизительную оценку момента, когда она будет достигнута.
Судя по феноменологическим описаниям, к обсуждаемому классу «надсознательных» процессов следует отнести процессы творческого мышления, процессы переживания большого горя или больших жизненных событий, кризисы чувств, личностные кризисы.
Одним из первых психологов, который обратил специальное внимание на эти процессы, был В. Джемс. Он собрал на этот счет массу ярких описаний, которые изложены в его книге «Многообразие религиозного опыта» |33]. В качестве более поздних работ на эту тему (на русском языке) можно назвать небольшие статьи З. Фрейда [121], Э. Линдемана [61], сравнительно недавно опубликованную книгу Ф. Е. Василюка [19] и др.
Приведу два развернутых примера, которые разбираются В. Джемсом. Первый пример Джемс заимствует у Л. Н. Толстого.
«Мне рассказывал С, — пишет Л. Н. Толстой, — умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет 26-ти уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства принятой привычке, встал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: «А ты все еще делаешь это?» И больше ничего они не сказали друг другу И С. перестал с того дня становиться на молитву и ходить в церковь… И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился к ним, не потому, чтоб он решил что-то в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчок пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово было только указанием на то, что там, где он думает, что есть вера, давно пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их» [цит. по: 33, с. 167].
Заметьте, что с человеком, от лица которого ведется рассказ, случилось как раз то, что я описала в абстрактном примере: в один прекрасный день он обнаружил, что потерял веру; что его вера — как стена, которая уже не поддерживается ничем, и ее достаточно тронуть пальцем, чтобы она упала. В роли этого «пальца» и выступил равнодушный вопрос брата. Тем самым как бы подчеркивается, что не столько вопрос брата, сколько предшествующий процесс, не осознававшийся в полном объеме героем рассказа, подготовил его к этому решающему повороту.
Другой пример из Джемса относится к кризису чувства.
«В течение двух лет, — рассказывает один человек, — я переживал очень тяжелое состояние, от которого едва не сошел с ума. Я страстно влюбился в одну девушку, которая, несмотря на свою молодость, была отчаянной кокеткой… Я пылал любовью к ней и не мог думать ни о чем другом. Когда я оставался один, я вызывал воображением все очарование ее красоты и, сидя за работой, терял большую часть времени, вспоминая наши свидания и представляя будущие беседы. Она была хороша собой, весела, бойка. Обожание мое льстило ее тщеславию. Любопытнее всего, что в то время, как я добивался ее руки, я знал в глубине души, что она не создана быть моею женою и что никогда она на это не согласится… И такое положение дел в соединении с ревностью к одному из ее поклонников расстраивало мои нервы и отнимало сон. Моя совесть возмущалась такой непростительной слабостью с моей стороны. И я едва не дошел до сумасшествия. Тем не менее я не мог перестать любить ее.
Но замечательнее всего тот странный, внезапный, неожиданный и бесповоротный конец, которым все это завершилось. Я шел утром после завтрака на работу, по обыкновению полный мыслями о ней и о моей несчастной участи. Вдруг, как будто какая-то могущественная внешняя сила овладела мной, я быстро повернул назад и прибежал в мою комнату. Там я принялся немедленно уничтожать все, что хранил в память о ней: локоны, записочки, письма и фотоминиатюры на стекле. Из локонов и писем я сделал костер. Портреты раздавил каблуком с жестоким и радостным упоением мщения… И я так чувствовал себя, точно освободился от тяжкого бремени, от болезни. Это был конец.
Я не говорил с ней больше, не писал ей, и ни одной мысли о любви не возбуждал во мне ее образ. <…> В это счастливое утро я вернул к себе мою душу и никогда больше не попадался в эту ловушку» [33, с. 169].
В. Джемс, комментируя этот случай, подчеркивает слова: «как будто какая-то могущественная внешняя сила овладела мной». По его мнению, эта «сила» — результат некоторого «бессознательного» процесса, который шел вместе с сознательными переживаниями молодого человека.
В. Джемс не мог предвидеть, что термин «бессознательный» приобретет в результате появления психоанализа слишком специальный смысл. Поэтому, чтобы подчеркнуть совершенно особый тип впервые описанных им процессов, я использовала другой термин — «надсознательные». Он, как мне кажется, адекватно отражает их главную особенность: эти процессы происходят над сознанием в том смысле, что их содержание и временные масштабы крупнее всего того, что может вместить сознание; проходя через сознание отдельными своими участками, они как целое находятся за его пределами.
Подведем итоги всему сказанному в последних двух лекциях. В свое время З. Фрейд сравнил человеческое сознание с айсбергом, который на девять десятых погружен в море бессознательного. Вы знаете, что под бессознательным Фрейд имел в виду вытесненные желания, влечения, переживания. Рассмотрение всей темы «Неосознаваемые процессы» приводит к выводу, что, если сознание и окружено «водами» бессознательного, то состав этих «вод» гораздо более разнообразен.

В самом деле, попробуем изобразить человеческое сознание в виде острова, погруженного в море неосознаваемых процессов (рис.5).внизу следует поместить неосознаваемые механизмы сознательных действий (I). Это – технические исполнители, или «чернорабочие», сознания. Многие из них образуются путем передачи функций сознания на неосознаваемые уровни.
Наравне с процессами сознания можно поместить неосознаваемые побудители сознательных действий (II). Они имеют тот же ранг, что и сознаваемые побудители, только обладают другими качествами: они вытеснены из сознания, эмоционально заряжены и время от времени прорываются в сознание в особой символической форме.
И, наконец, процессы «надсознания» (III). Они развертываются в форме работы сознания, длительной и напряженной. Результатом ее является некий интегральный итог, который возвращается в сознание в виде новой творческой идеи, нового отношения или чувства, новой жизненной установки, меняя дальнейшее течение сознания.
Видите, насколько более разнообразная картина получается по сравнению с той, которая складывалась в некоторых школах в результате анализа только определенного, ограниченного круга неосознаваемых процессов и игнорирования процессов остальных классов.
В заключение обсудим, каким образом мы узнаем о неосознаваемом психическом. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что здесь существует особая методическая задача, и задача довольно трудная. Ведь «неосознаваемое» — это отрицательная характеристика, которая означает, что соответствующие содержания отсутствуют в сознании. Так как же их можно обнаружить?
Прежде всего, неосознаваемое проявляется в сознании, и мы рассмотрели различные формы его проявлений – иллюзии восприятия, ошибки установки, фрейдовские феномены, наконец, интегральные результаты надсознательных процессов.
Пожалуй, еще более информативным оказывается совместное использование субъективных и объективных данных. Например, при образовании навыка анализ состава и качества выполнения действия вместе с речевым отчетом позволяет судить, насколько продвинулся процесс автоматизации, т. е. переход действия в сферу неосознаваемого.
Мы убедились, наконец, в ценности использования физиологических индикаторов (сопряженная методика А. Р. Лурии и др.).
Таким образом, мы встречаемся все с теми же исходными данными: фактами сознания, поведения и физиологическими процессами. Их комплексное использование дает возможность проникать в различные сферы неосознаваемого психического.
Раздел II.
МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПСИХИКЕ: КОНКРЕТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
Лекция 7
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ. ОПЕРАЦИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
ДЕЙСТВИЯ И ЦЕЛИ;
ОПЕРАЦИИ;
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
Мы начинаем знакомство с «психологической теорией деятельности». Эта теория была создана в советской психологии. Она обязана работам советских психологов: Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, А. Р. Лурии, А. В. Запорожца, П. Я. Гальперина и многих других.
Психологическая теория деятельности начала разрабатываться в 20-х — начале 30-х гг. XX века. К этому времени уже закатилось солнце психологии сознания и находились в расцвете новые зарубежные теории — бихевиоризм, психоанализ, гештальтпсихология и ряд других. Таким образом, советские психологи могли уже учесть позитивные стороны и недостатки каждой из этих теорий.
Но главное состояло в том, что авторы теории деятельности взяли на вооружение философию диалектического материализма, и прежде всего ее главный для психологии тезис о том, что не сознание определяет бытие, деятельность, а, наоборот, бытие, деятельность человека определяют его сознание. Этот общий философский тезис нашел в теории деятельности конкретно-психологическую разработку.
Наиболее полно теория деятельности изложена в трудах А. Н. Леонтьева, в частности в его последней книге «Деятельность. Сознание. Личность», и я буду придерживаться в основном его варианта этой теории.
Но сначала скажу о самом Алексее Николаевиче Леонтьеве (1903-1979). Как профессиональный психолог А. Н. Леонтьев проработал 55 лет (после окончания отделения общественных наук Московского университета в 1924 г.) и из них 30 последних лет — в Московском университете как заведующий кафедрой, заведующий отделением психологии и, наконец, как декан факультета психологии. Практически все психологи, получившие образование в стенах нашего университета в 50 — 70-х гг. прошлого века имели возможность непосредственно учиться у этого выдающегося ученого и педагога: он читал основной курс «Общей психологии».
Как ученый А. Н. Леонтьев отличался чрезвычайно широкими интересами, сочетая эту широту со способностью глубоко и оригинально разрабатывать каждую тему, к которой он обращался. Трудно назвать область общей психологии, в которую А. Н.Леонтьев не сделал бы ощутимый и даже фундаментальный вклад. В его трудах нашли разработку: общепсихологическая теория деятельности; проблемы развития психики в фило-, антропо- и онтогенезе; механизмы психических процессов — восприятия, внимания, памяти, мышления; проблемы человеческого сознания, личности и многое другое.
При исследовании этих проблем А. Н. Леонтьев работал не только как выдающийся теоретик и методолог, но и как блестящий экспериментатор. Он любил и умел работать «руками», сам конструировал экспериментальные установки, придумывал оригинальные методики, умел ценить красивые факты и заражал эмоциональным отношением к ним. Напротив, у него всегда встречали внутреннее сопротивление скучные и громоздкие исследования.
Все, кто работал вместе с А. Н. Леонтьевым на руководимом им факультете, ежедневно сталкивались с другой стороной его многогранной личности — его организаторскими способностями.
Умный и опытный руководитель, он, несмотря на повседневные мелочи (а их было всегда так много!), умел выделить главные стратегические линии развития факультета и психологической науки в целом и непрерывно о них заботился. Он очень хорошо предвидел будущее и знал, что нужно делать для него сегодня. Именно благодаря этой способности относительно небольшая кафедра общей психологии на философском факультете, которую А. Н. Леонтьев возглавил в 1949 г., превратилась в самостоятельный факультет.
Наконец, несколько слов о А. Н. Леонтьеве как педагоге. Его лекции отличались такой же глубиной, остротой и эмоциональностью, как и его научная деятельность. Он очень личностно относился ко всему, что преподавал; драматизировал изложение каждой темы, заставлял напряженно думать слушателей.
Все те, кому посчастливилось быть непосредственными учениками А. Н. Леонтьева, навсегда запомнили многочасовые беседы с ним. Поводом обычно служило текущее экспериментальное исследование, но очень скоро разговор выходил за рамки этой конкретной темы — в область глобальных психологических и жизненных проблем. И здесь А. Н. Леонтьев щедро делился своими идеями, переживаниями и отношениями, своим огромным научным и человеческим опытом. Вот почему он был и остается для многих из нас учителем с большой буквы.
А теперь обратимся к теории деятельности.
Начну с характеристики строения, или макроструктуры, деятельности. Представления о строении деятельности, хотя и не исчерпывают полностью теорию деятельности, но составляют ее основу. Позже, и особенно в последующих лекциях, вы познакомитесь с применением теории деятельности к решению фундаментальных психологических проблем, таких как предмет психологии, происхождение и развитие психики в фило- и онтогенезе, происхождение человеческого сознания, природа личности.
Деятельность человека имеет сложное иерархическое строение. Она состоит из нескольких «слоев», или уровней. Назовем эти уровни, двигаясь сверху вниз. Это, во-первых, уровень особенных деятельностей (или особых видов деятельности); затем — уровень действий; следующий — уровень операций; наконец, самый низкий — уровень психофизиологических функций.
В этой лекции мы начнем рассматривать строение деятельности с уровня действий и будем двигаться вниз к психофизиологическим функциям. Движение вверх, к особым видам деятельности и связанным с ними проблемам, оставим для следующего раза.
Действие — это основная единица анализа деятельности. Что же такое действие? По определению действие — это процесс, направленный на реализацию цели.
Таким образом, в определение действия входит еще одно понятие, которое необходимо определить, — цель. Что же такое цель? Это образ желаемого результата, т. е. того результата, который должен быть достигнут в ходе выполнения действия.
Стоит сразу заметить, что здесь имеется в виду сознательный образ результата: последний удерживается в сознании все то время, пока осуществляется действие, поэтому говорить о «сознательной цели» не имеет особого смысла: цель всегда сознательна.
Зададим себе вопрос: а можно ли что-то делать, не представляя себе конечного результата? Конечно, можно.
Например, «бесцельно блуждая по улицам», человек может оказаться в незнакомой части города. Он не знает, как и куда попал, а это и означает, что в его представлении не было конечного пункта движения, т. е. цели. Однако бесцельная активность человека скорее артефакт его жизнедеятельности, чем типичное ее проявление.
Поскольку действие, как я уже сказала, основная единица анализа психической жизни человека, предлагаемая теорией деятельности, необходимо более внимательно рассмотреть главные особенности данной единицы. Это поможет глубже понять как сам дух теории деятельности, так и ее отличия от предшествующих теорий.
Характеризуя понятие «действие», можно выделить следующие четыре момента.
Первый момент: действие включает в качестве необходимого компонента акт сознания (о чем говорилось выше) в виде постановки и удержания цели. Но данный акт сознания не замкнут в самом себе, как это фактически утверждала психология сознания, а «раскрывается» в действии.
Второй момент: действие — это одновременно и акт поведения. Следовательно, теория деятельности сохраняет также достижения бихевиоризма, делая объектом изучения внешнюю активность животных и человека. Однако в отличие от бихевиоризма она рассматривает внешние движения в неразрывном единстве с сознанием. Ведь движение без цели — это скорее несостоявшееся поведение, чем его подлинная сущность.
Итак, первые два пункта, по которым теория деятельности отличается от предшествующих концепций, состоят в признании неразрывного единства сознания и поведения. Это единство заключено уже в главной единице анализа — действии.
Третий, очень важный, момент: через понятие действия теория деятельности утверждает принцип активности, противопоставляя его принципу реактивности. Принцип активности и принцип реактивности различаются по тому, где согласно каждому из них должна быть помещена исходная точка анализа деятельности: во внешней среде или внутри организма (субъект).
Как вы помните, для Дж. Уотсона главным было понятие реакции. Реакция — значит «ответное действие» (лат. re… — «против» + actio — «действие»). Активное, инициирующее, начало здесь принадлежит стимулу.
Вы уже знаете, что Уотсон считал возможным через систему реакций (пусть очень сложных) описать все поведение человека. Но такие надежды стали сразу же разбиваться о факты, которые показывали, что многие поведенческие акты, или действия, невозможно объяснить исходя лишь из анализа внешних условий (стимулов). Для человека слишком типичны действия, которые подчиняются не логике внешних воздействий, а логике его внутренних целей. Это не столько реакции на внешние стимулы, сколько акции, направленные на достижение цели с учетом внешних условий.
И здесь уместно вспомнить слова К. Маркса о том, что для человека цель «как закон определяет способ и характер его действий» [1, т. 3, с. 189].
Итак, через понятие действия, предполагающее активное начало в субъекте (в форме цели), психологическая теория деятельности утверждает принцип активности*.
_______________
* Различные аспекты принципа активности будут подробнее обсуждены в лекции, посвященной концепции Н. А. Бернштейна.
И наконец, четвертое: понятие действия «выводит» деятельность человека в предметный и социальный мир. Дело в том, что «представляемый результат» (цель) действия может быть любым, а не только и даже не столько биологическим, как, например, получение пиши, избегание опасности и т. д. Это может быть производство какого-то материального продукта, установление социального контакта, получение знаний и др.
Таким образом, понятие действия дает возможность подойти с научным анализом к человеческой жизни именно со стороны ее человеческой специфики. Такой возможности никак не могло предоставить понятие реакции, особенно врожденной реакции, из которого исходил Дж. Уотсон. Человек через призму системы Уотсона выступал преимущественно как биологическое существо.
Итак, вы познакомились с понятием действия — одной из основных «образующих» деятельности. В этом понятии, как в капле воды, отражены основные исходные положения или принципы теории деятельности, новые по сравнению с предшествующими концепциями. Повторим их еще раз.
1. Сознание не может рассматриваться как замкнутое в самом себе: оно должно быть выведено в деятельность субъекта («размыкание» круга сознания).
2. Поведение нельзя рассматривать в отрыве от сознания человека. При рассмотрении поведения сознание должно быть не только сохранено, но и определено в своей фундаментальной функции (принцип единства сознания и поведения).
3. Деятельность — это активный, целенаправленный, процесс (принцип активности).
4. Действия человека предметны; они реализуют социальные — производственные и культурные — цели (принцип предметности человеческой деятельности и принцип ее социальной обусловленности).
Дальше эти основные положения будут раскрыты и наполнены содержанием, но мне хотелось воспользоваться случаем и показать вам, как все эти довольно сложные положения заключены, в сущности, уже в одном понятии «действие».
Итак, вернемся к связке цель — действие (Ц-Д). Цель задает действие, действие обеспечивает реализацию цели. Через характеристику цели можно характеризовать и действие.
Что можно отметить, анализируя цели человека? Прежде всего их чрезвычайное разнообразие, а главное, разномасштабность.
Есть крупные цели, которые членятся на более мелкие, частные цели, те, в свою очередь, могут дробиться на еще более частные цели и т. д. Соответственно всякое достаточно крупное действие представляет собой последовательность действий более низкого порядка с переходами на разные «этажи» иерархической системы действий. Это можно продемонстрировать на любом примере.
Предположим, вы хотите позвонить в другой город. Чтобы осуществить это действие (I порядка), вам нужно совершить ряд частных действий (II порядка): отправиться на переговорный пункт, найти подходящий автомат (если существует автоматическая связь с вашим городом), занять очередь, приобрести телефонные жетоны и т. п. Попадая в кабину, вы должны осуществить следующее действие в этом ряду: соединиться с абонентом. Но для этого вам придется выполнить ряд еще более мелких действий (III порядка): опустить монету, нажать кнопку, дождаться гудка, набрать определенную цифру и т. д.
В качестве другого примера описания последовательности частных действий приведу короткий отрывок из рассказа Э. Хемингуэя «На Биг Ривер».
Это один из ранних рассказов писателя, написанный в очень интересном стиле. Вы сейчас это почувствуете.
В нем идет речь о том, как молодой человек (по-видимому, это сам автор) проводит отпуск на реке, где он живет один и ловит форель.
«Ник взял пустую бутылку и спустился к реке <…> Ник хотел наловить кузнечиков для наживки раньше, чем солнце обсушит траву. <…> Он перевернул поваленное дерево, и там, под прикрытием, кузнечики сидели сотнями. Здесь был их дом. Ник набрал в бутылку не меньше пятидесяти штук коричневых, среднего размера <…> Ник перекатил бревно на прежнее место <…>
Бутылку, полную прыгающих кузнечиков, Ник прислонил к сосне. Он проворно смешал немного гречневой муки с водой, чашку муки на чашку воды, и замесил тесто. Он всыпал горсть кофе в кофейник, добыл кусок сала из банки и бросил его на горячую сковороду. Потом в зашипевшее сало он осторожно налил теста… Ник взял чистую сосновую щепку и подсунул ее под лепешку, уже подрумяненную снизу, он встряхнул сковороду и лепешка отделилась от дна. «Только бы не разорвать», — подумал Ник. Он подсунул щепку как можно дальше под лепешку и перевернул ее на другой бок. Она зашипела.
<…> Ник достал свой спиннинг из кожаного чехла, свинтил удилище, а чехол засунул обратно в палатку. Он надел катушку и стал наматывать на нее лесу. Лесу приходилось при этом перехватывать из руки в руку, иначе она разматывалась от собственной тяжести» [125, с. 128-129].
Вы видите, весь рассказ (я выбрала случайные отрывки) написан в особом стиле, а именно: в нем как бы через лупу времени рассматриваются последовательные действия героя, включая самые мелкие. По-видимому, используя этот прием, Э. Хемингуэй решает специальную художественную задачу — отразить атмосферу покоя, безмятежного отдыха и того удовольствия, которое испытывает герой, переживая каждое мелкое событие. Для нас же этот рассказ хорошо иллюстрирует то теоретическое положение, что деятельность представляет собой последовательность действий, каждое из которых может дробиться на действия более низкого порядка.
Я представляю вам возможность разобрать самим, какие действия, в какой последовательности и в какой иерархической соподчиненности вы должны произвести, чтобы совершить прогулку за город, подготовить доклад к семинару, выпустить стенгазету и т. п.
Говоря о сложных составных действиях, следует отметить, что конкретный набор и последовательность частных действий диктуются логикой социальной и предметной среды. В самом деле, чтобы наловить кузнечиков, нужно обязательно учесть их образ жизни и поведение. Если вы не соотнесете свои действия с устройством телефона-автомата, то никогда не свяжетесь с абонементом. Выпуск стенгазеты также предполагает определенный круг обязательных действий.
Опыт относительно состава и последовательности действий обычно передается в ходе обучения в форме правил, советов, инструкций, программ. Вероятно, вы уже столкнулись с одним случаем передачи такого опыта в первую неделю занятий на факультете, когда вас знакомили с правилами поиска и получения в библиотеке нужной книги.
Все сказанное до сих пор относилось к тому, что человек делает. Теперь перейдем к обсуждению того, как, каким способом совершается действие. Соответственно мы обращаемся к операциям, которые образуют по отношению к действиям следующий, нижележащий уровень.
Согласно определению, операцией называется способ выполнения действия.
Приведу несколько простых примеров. Перемножить два двузначных числа вы можете в уме и письменно, решая пример в столбик. Это будут два разных способа выполнения одного и того же арифметического действия, или две разные операции.
Говорят, женский способ вдевания нитки в иголку состоит в том, что нитка вдвигается в ушко иголки, а мужчины, будто бы, ушко надвигают на нитку. Это тоже разные операции, в данном случае двигательные.
Еще пример: вы хотите найти определенное место в книге, но обнаруживаете, что закладка, которую вы раньше положили, выпала. Вы вынуждены прибегнуть к другому способу отыскания нужного абзаца: либо попытаться вспомнить номер страницы, либо, перелистывая книгу, пробегать глазами каждую страницу. Опять несколько разных способов достижения одной и той же цели.

Как видно, операции характеризуют техническую сторону выполнения действий, и то, что называется «техникой», ловкостью, сноровкой, относится почти исключительно к уровню операций.
От чего же зависит характер используемых операций? Обобщенный ответ таков: от условий, в которых совершается действие. Если действие отвечает собственно цели, то операция отвечает условиям, в которых эта цель дана. При этом под «условиями» подразумеваются как внешние обстоятельства, так и возможности, или внутренние средства, самого действующего субъекта.
Цель, данная в определенных условиях в теории деятельности, называется задачей. Описывая процесс решения задачи, необходимо указывать и действия, и операции, реализующие их. О действии без операций, или о действии, абстрагированном от операций, возможно говорить, пожалуй, только на этапе планирования.
Сказанное можно изобразить следующими простыми схемами:
Перейдем к психологической характеристике операций. Главное их свойство состоит в том, что они мало осознаются или совсем не осознаются. Этим операции принципиально отличаются от действий, которые предполагают и сознаваемую цель, и сознательный контроль за протеканием действия.
По существу, уровень операций заполнен уже известными вам автоматическими действиями и навыками. Характеристики последних есть одновременно и характеристики операций.
Давайте же воспроизведем ряд известных нам положений, только на новом языке, предлагаемом теорией деятельности.
Операции бывают двух родов: одни возникают путем адаптации, прилаживания, непосредственного подражания; другие возникают из действий путем их автоматизации. Это первый тезис.
Второй тезис: операции первого рода практически не осознаются и не могут быть вызваны в сознание даже при специальных усилиях. Операции второго рода находятся на границе сознания. Они как бы подстораживаются сознанием и легко могут стать актуально сознаваемыми.
Третий тезис: всякое сложное действие состоит из слоя действий и слоя «подстилающих» их операций. То, что было сказано в отношении нефиксированности границы, проходящей в каждом сложном действии между актуально сознаваемым и неосознаваемым, означает подвижность границы, которая отделяет слой действий от слоя операций. Движение этой границы вверх означает превращение некоторых действий (в основном наиболее элементарных) в операции. В таких случаях происходит укрупнение единиц деятельности.
Движение границы вниз означает, наоборот, превращение операций в действия, или, что то же самое, дробление деятельности на более мелкие единицы. Рассмотрим какой-нибудь пример.
Предположим, в ходе дискуссии у вас возникла одна мысль, и вы ее высказали, заботясь в основном о ее содержании, а не о способе выражения. Вы совершили действие, которое было обеспечено многими операциями — умственными, речевыми, артикуляционными и т. п. Все вместе они реализовали действие — высказывание мысли.
Но предположим, что вы не смогли для выражения мысли сразу подобрать нужного слова. Тогда вы направляете усилия на поиск его и наконец находите. То, что раньше происходило на уровне операций (подбор слов), стало действием: граница сдвинулась вниз. Но снова предположим, что, произнося слово, вы сделали оговорку; тогда вы повторяете это слово, следя за правильным его произношением. Действием стал еще более мелкий акт — собственно артикуляция слова, который, как правило, лежит в глубинных слоях операций. Иными словами, граница, отделяющая действия от операций, спустилась еще ниже.
Наверное, каждый из вас наблюдал при изучении иностранного языка противоположную динамику: в самом начале обучения произнесение отдельного слова и даже отдельного звука — мелкое, но самостоятельное действие; на стадии же свободного владения языком практически все фонетические, лексические и грамматические проблемы решаются на уровне операций.
Теперь вы можете справедливо спросить: а как же узнать, где в каждом конкретном случае, в каждый данный момент проходит граница, отделяющая действие от операций?
Вопрос этот очень важный. Поскольку действие есть единица деятельности, то ответ на него позволит установить, какими единицами работает сейчас человек. Последнее же существенно не только в теоретическом, но и в практическом отношении, так как дает возможность узнать, насколько человек продвинулся в обучении, насколько и чем «загружено» его сознание, находится ли он в состоянии утомления или эмоционального возбуждения (при которых происходит дробление действий).
Несмотря на чрезвычайную важность поставленного вопроса, психология не нашла пока на него ответа, и он является одной" из проблем для текущих экспериментальных исследований. Почему для экспериментальных исследований? Потому что умозрительно на него невозможно ответить.
В самом деле, здесь невозможно воспользоваться теоретическими признаками, которые заключены в определениях действий и операций. Например, определение операции как способа выполнения действия в данном случае «не работает», потому что обратное утверждение неверно: не всякий способ есть операция. Так, частные действия вполне могут рассматриваться как способы выполнения более крупного действия, в состав которого они входят, но при этом они не перестают быть действиями.
Рассмотрим уже знакомые нам примеры.
Позвонить в другой город можно разными способами: набрав номер автоматической связи или заказав разговор через телефонистку. Каждый из этих вариантов будет способом осуществления более крупного действия, цель которого — связаться с абонентом. Каждый из этих способов будет отвечать условиям: например, если нет домашнего телефона, приходится идти на переговорный пункт и т. п. Это все условия, в которых происходит действие. Так что вроде бы все подходит для того, чтобы определить набор кода города или обращение к телефонистке как операцию. И тем не менее это будут действия, пусть частные, подчиненные более общей цели, но вполне сознательно планируемые и сознательно контролируемые.
Другой пример: совсем маленькое действие, которое описано в цитировавшемся рассказе Э. Хемингуэя, — переворачивание лепешки. Если вы помните, этот процесс описан с большими подробностями, которые включают подсовывание лучины, встряхивание сковородки, продвижение лучины дальше и т. п.
Конечно, приемы переворачивания лепешки вполне заслуживают лишь ранга операций и, как правило, таковыми и являются. Но в данном случае показано, что для героя рассказа каждый из этих мельчайших актов выступает как отдельное, самостоятельное действие. И если вы усомнитесь в этом, то я вам замечу, что уж, по крайней мере, для самого писателя эти акты существовали как осознаваемые действия, иначе он не смог бы их описать, да еще так рельефно и живо.
Итак, ни статус «способа», ни соотнесенность с условиями, ни величина, или масштаб, акта не позволяют безусловно определить его деятельностный ранг, т. е. ответить на вопрос, является ли он действием или операцией.
Наиболее точный психологический признак, различающий действия и операции — осознаваемость/неосознаваемость, в принципе может быть использован, однако далеко не всегда. Он перестает работать как раз в пограничной зоне, вблизи границы, которая разделяет слой действий и операций. Чем дальше от этой границы, тем достовернее данные самонаблюдения: относительно представленности (или непредставленное) в сознании очень крупных или очень мелких актов субъект обычно не сомневается. Но в пограничной зоне становится существенной ситуативная динамика деятельностного процесса. И здесь уже сама попытка определить осознаваемость какого-либо акта может привести к его осознаванию, т. е. нарушить естественную на данный момент структуру деятельности.
Единственный путь, который сейчас видится, — это использование объективных индикаторов, т. е. поведенческих и физиологических признаков, деятельного уровня текущего процесса. Попытки такого рода уже существуют [см. 53, с. 111].
Перейдем к последнему, самому низкому уровню в структуре деятельности — психофизиологическим функциям. Говоря о том, что субъект осуществляет деятельность, нельзя забывать, что этот субъект представляет собой одновременно и организм с высокоорганизованной нервной системой, развитыми органами чувств, сложным опорно-двигательным аппаратом и т. п. По существу, психология никогда об этом и не забывала, но ей не удавалось органически включить работу мозговых механизмов в психическую деятельность. Эта работа рассматривалась, например, В. Вундтом параллельно с анализом процессов сознания.
Под психофизиологическими функциями в теории деятельности понимаются физиологические обеспечения психических процессов. К ним относятся ряд способностей нашего организма, такие как способности к ощущению, к образованию и фиксации следов прошлых воздействий, . моторная способность и др. Соответственно говорят о сенсорной, мнемической, моторной функциях. К этому уровню относятся также врожденные механизмы, закрепленные в морфологии нервной системы, и те, которые созревают в течение первых месяцев жизни.
Понятно, что граница между операциями-автоматизмами и психофизиологическими функциями достаточно условна, и здесь повторяется та же трудность четкого разделения соседних уровней, которая нам встретилась при обсуждении отношения операций и действий. Однако, несмотря на это, психофизиологические функции выделяются в самостоятельный уровень по причине их «организмического» характера. Они достаются субъекту деятельности, так сказать, от природы; он ничего не должен «делать», чтобы их иметь, он находит их в себе готовыми к использованию.
Как же «вписываются» психофизиологические функции в деятельность? Можно сказать, что они составляют одновременно и необходимые предпосылки, и средства деятельности.
Возьмем для примера память. Когда человек ставит перед собой цель что-то запомнить, то он часто использует специальные приемы, или действия, которые называются мнемическими. Иногда это логический анализ материала, иногда ассоциирование с чем-то хорошо знакомым, иногда — просто повторение. Но ни одно из этих действий не привело бы к желаемому результату, если бы субъект не обладал мнемической функцией.
Существует болезнь памяти, которая называется «корсаковским синдромом» (по имени выдающегося русского психиатра С. С. Корсакова, впервые его описавшего). Она состоит в потере именно мнемической функции. При этой болезни совершенно не запоминаются события, даже те, которые случились несколько минут назад. Такие больные могут, например, несколько раз в день поздороваться с врачом, не помнить, ели они сегодня или нет. Один больной непрерывно зачитывал матери понравившееся ему место в книге, тут же забывая, что только что прочел его, и так повторял десятки раз подряд!
Очевидно, что если бы такой больной попытался специально заучить какой-нибудь текст, то он тут же забыл бы не только этот текст, но и сам факт заучивания.
Итак, можно сказать, что психофизиологические функции составляют органический фундамент процессов деятельности. Без опоры на них невозможны были бы не только выполнение действий и операций, но и постановка самих задач.
На этом я заканчиваю характеристику трех основных уровней в структуре деятельности — действий, операций и психофизиологических функций. С этими уровнями связано обсуждение преимущественно операционально-технических аспектов деятельности. Переходя от уровня действий вверх, мы встретимся с другим кругом проблем, которые имеют гораздо более близкое отношение к жизни личности.
Лекция 8
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение)
МОТИВАЦИОННО-ЛИЧНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
ПОТРЕБНОСТИ, МОТИВЫ, ОСОБЕННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
МОТИВЫ И СОЗНАНИЕ; МОТИВЫ И ЛИЧНОСТЬ;
РАЗВИТИЕ МОТИВОВ. ВНУТРЕННЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ТЕОРИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИИ
Начиная анализ строения деятельности с уровня действий, я исходила из допущения, что цель сразу дана субъекту. Но это была временная абстракция. Теперь настало время спросить себя: а откуда берутся цели, что побуждает человека ставить цели и добиваться их осуществления?
Для ответа на эти вопросы нужно обратиться к таким понятиям, как потребности и мотивы.
Потребность — это исходная форма активности живых организмов. Анализ потребностей лучше всего начинать с их органических форм.
В живом организме периодически возникают определенные состояния напряженности; они связаны с объективной нехваткой веществ, которые необходимы для продолжения нормальной жизнедеятельности организма.
Вот эти состояния объективной нужды организма в чем-то, что лежит вне его и составляет необходимое условие его нормального функционирования, и называются потребностями. Таковы потребности в пище, воде, кислороде и т. п.
Когда речь заходит о потребностях, с которыми рождается человек (и не только человек, но и высшие животные), то к этому списку элементарных биологических потребностей нужно добавить по крайней мере еще две.
Это, во-первых, потребность в контактах с себе подобными, и в первую очередь со взрослыми индивидами. У ребенка она обнаруживается очень рано. Голос матери, ее лицo, ее прикосновения — первые раздражители, на которые появляется положительная реакция ребенка. Это так называемый «комплекс оживления», который можно наблюдать в возрасте 1,5—2 месяцев.
Потребность в социальных контактах, или в общении, остается одной из ведущих у человека. Только с течением жизни она меняет свои формы.
В первые месяцы и годы жизни это потребность в матери и близких, которые ухаживают за ребенком. Вы знаете, что дети очень стремятся к такому общению: плачут, если остаются одни, тянутся к близким, ходят за ними по пятам, не оставляя их в покое ни на минуту. Позже эта потребность направляется на более широкий круг взрослых, в том числе учителей. Вам, конечно, хорошо знакома такая картина: первоклассники толпятся вокруг любимой учительницы, всячески добиваясь ее внимания.
Со временем эта картина меняется, поскольку потребность, о которой идет речь, преобразуется в стремление завоевать уважение в коллективе сверстников. Появляется потребность в друге, которому можно довериться, в любимом человеке, в духовном руководителе (к сожалению, в роли последнего часто не могут выступить родители). Еще позже возникает стремление найти место в жизни, получить общественное признание и т. д.
Вторая потребность, с которой рождается человек и которая не относится к органическим, это потребность во внешних впечатлениях, или, в широком смысле, познавательная потребность.
Исследования показали, что уже в первые часы жизни дети реагируют на зрительные, звуковые, слуховые воздействия и не только реагируют, но как бы исследуют их. В частности, более оживленные реакции у них появляются на новые раздражители.
Регистрация движения глаз новорожденных показала, что они иначе смотрят на гомогенное поле, чем на фигуру. На однородном поле фиксации глаз распределяются более или менее равномерно; если же предъявляется какая-то геометрическая фигура, то глазные фиксации концентрируются вокруг ее сторон и углов.
Очень убедительные результаты были получены в следующем опыте.
Молодую обезьяну-шимпанзе сажали в закрытый ящик и по чисто павловской процедуре производили у нее выработку условной дифференцировочной реакции; она должна была выбирать одну из двух зрительных фигур, причем очень похожих между собой. Таким образом, задача была сложной, и выработка правильной реакции шла долго. Вы знаете, что в таких опытах необходимо положительное подкрепление правильных реакций (или отрицательное — неправильных). Так вот, в данном опыте подкрепление было не пищевое, не болевое, а «познавательное»: после правильного выбора обезьяна могла выглянуть из ящика и посмотреть на окружающую обстановку. И вот на таком подкреплении она длительное время работала, решая сложные задачи!
Но, пожалуй, самые впечатляющие опыты, которые показывают существование познавательной потребности, были проведены на младенцах двух-трехмесячного возраста.
Ребенку давали соску-пустышку и соединяли ее через резиновую трубку с телевизором. При этом соска служила в качестве пневматического датчика. Механизм действия установки был такой: если ребенок сосал соску, то экран телевизора начинал светиться и на нем появлялось изображение — либо неподвижная картинка, либо лицо говорящей женщины. Если ребенок переставал сосать, то экран постепенно гас.
Ребенок был сыт (это обязательное условие опыта), но и в сытом состоянии он, как известно, изредка посасывает соску. Так вот, в ходе опыта ребенок рано или поздно обнаруживал связь своих сосательных движений с изображением на экране, и тогда происходило следующее: он начинал интенсивно сосать соску, не прерывая эти движения ни на секунду!
Этот результат убедительно показывает, что уже в двухмесячном возрасте ребенок ищет и активно добывает информацию из внешнего мира. Такая активность и есть проявление познавательной потребности.
Познавательная потребность, конечно, тоже развивается вместе с ростом ребенка. Очень скоро в дополнение к перцептивным исследованиям и практическим манипуляциям (с помощью которых ребенок тоже познает свойства предметов) появляются интеллектуальные формы познания. Они выражаются в классических детских вопросах: «Это что?», «А почему?», «Зачем?», которыми дошкольник буквально засыпает взрослых. Затем появляется интерес к чтению, учебе, исследованию. По словам И. П. Павлова, наука есть не что иное, как неимоверно разросшийся и усложнившийся ориентировочный рефлекс.
В отношении обеих рассмотренных потребностей следует отметить два важных момента. Во-первых, потребность в контактах и познавательная потребность на первых порах тесно переплетены друг с другом. Ведь близкий взрослый не только удовлетворяет потребность ребенка в контактах; он — первый и главный источник разнообразных впечатлений, которые получает ребенок. Сам ребенок лишен возможности вносить разнообразие во внешнюю среду (если только его соска не связана с телевизором): в первые месяцы он лежит спеленутый в своей кроватке и ограничен маленьким кусочком пространства вокруг нее. Так что активные действия родителя, его разговоры, манипуляции с ребенком, игра с ним служат главным источником впечатлений, «питающих» его познавательную потребность. Да и на последующих ступенях развития «обобщенный взрослый» остается главным проводником знаний к ребенку.
Во-вторых, обе обсуждаемые потребности составляют необходимые условия формирования человека на всех ступенях его развития. Они необходимы ему так же, как и органические потребности. Но если эти последние только обеспечивают его существование как биологического существа, то контакт с людьми и познание мира оказываются необходимыми для становления его как человеческого существа (но об этом более подробно позже).
Итак, мы рассмотрели общие представления о потребностях: дали их определение, отметили существование наряду с органическими потребностями двух особенно важных для становления человека потребностей: социальной и познавательной.
Теперь обратимся к связи потребностей с деятельностью. Здесь сразу же необходимо выделить два этапа в жизни каждой потребности. Первый этап — период до первой встречи с предметом, который удовлетворяет потребность; второй этап — после этой встречи.
На первом этапе потребность, как правило, не представлена субъекту, не «расшифрована» для него. Он может испытывать состояние какого-то напряжения, неудовлетворенности, но не знать, чем это состояние вызвано. Со стороны же поведения потребностное состояние в этот период выражается в беспокойстве, поиске, переборе различных предметов.
Приведу пример. Известный детский врач Б. Спок призывает родителей, у которых дети страдают излишней полнотой, задуматься об истинной причине их якобы повышенного аппетита. Он замечает, что часто так ведут себя дети, которым не хватает родительского внимания и ласки. Испытывая состояние неудовлетворенности, эти дети не могут его конкретизировать и тогда начинают много есть!
В ходе поисковой деятельности обычно происходит встреча потребности с ее предметом, которой и завершается первый этап в «жизни» потребности. Эта встреча часто протекает очень драматично. Вспомним слова пушкинской Татьяны:
Ты чуть вошел, я вмиг узнала,
Вся обомлела, запылала
И в мыслях молвила: вот он!
Процесс «узнавания» потребностью своего предмета получил название опредмечивания потребности.
В элементарных своих формах он известен как «механизм импринтинга» (т. е. запечатления). Пример импринтинга — пробуждение реакции следования у новорожденного гусенка при виде любого движущегося мимо него предмета, в том числе неживого: он начинает идти за ним, как за матерью (опыты К. Лоренца).
В процессе опредмечивания обнаруживаются две важные черты потребности. Первая заключается в первоначально очень широком спектре предметов, способных удовлетворить данную потребность. Вторая черта — в быстрой фиксации потребности на первом удовлетворившем ее предмете.
В упомянутых опытах К. Лоренца первая черта обнаруживалась в том, что гусята могли последовать за любым движущимся предметом (это были: лодка, сам К. Лоренц, подушка, игрушечный гусенок); вторая же — в том, что они полностью фиксировались на этом предмете «с места»: если гусенок однажды пошел за подушкой, он начинал ходить за ней уже всегда, не реагируя на настоящую мать.
Нужно сказать, что факт фиксации потребностей хорошо известен в практике воспитания детей. Например, в конце первого года жизни ребенка очень рекомендуется разнообразить его пищу. Иначе ребенок может зафиксироваться на каше и молоке и отказываться брать в рот такие необходимые продукты, как мясо, яйца и т. п.
Родители часто и справедливо обеспокоены тем, какой товарищ окажется у их сына, а родители девушки — какой молодой человек ей впервые понравится. Они интуитивно знают, что потом повлиять на выбор своих детей будет поздно, и это происходит именно из-за быстрой фиксации потребностей.
Итак, в момент встречи потребности с предметом происходит опредмечивание потребности. Это очень важное событие. Оно важно тем, что в акте опредмечивания рождается мотив. Мотив и определяется как предмет потребности.
Если посмотреть на то же событие со стороны потребности, то можно сказать, что через опредмечивание потребность получает свою конкретизацию. В связи с этим мотив определяется еще иначе — как опредмеченная потребность.
Важно осознать, что самим актом опредмечивания потребность меняется, преобразуется. Она становится уже другой, определенной, потребностью именно в данном предмете.
Подчеркивание этого факта дает возможность правильно подойти к вопросу о характере биологических потребностей человека. Существует мнение, что у человека биологические потребности те же, что и у животных; на них лишь «наслаиваются» специфически человеческие, социальные и духовные (высшие) потребности.
Оспаривая это мнение, А. Н. Леонтьев приводит следующие хорошо известные слова К. Маркса: «Голод есть голод, однако голод, который утоляется вареным мясом, поедаемым с помощью ножа и вилки, это иной голод, чем тот, при котором проглатывают сырое мясо с помощью рук, ногтей и зубов» [53, с. 194]. Главная мысль Маркса состоит в том, что предмет и способы удовлетворения потребности формируют саму эту потребность: другой предмет и даже другой способ удовлетворения означают другую потребность!
Здесь снова уместно обратиться к практике воспитания ребенка. Давно понято, что особенное внимание в воспитании маленьких детей нужно обращать на их поведение, связанное с витальными потребностями — едой, туалетом и пр. Например, от них требуют есть аккуратно, правильно держать ложку, ждать, когда поставят пищу на стол. Все это противопоставляется другому поведению — жадному хватанию пищи руками. Важно понять, что речь идет не просто о выработке правил поведения. На самом деле в эти моменты происходит важнейший процесс (может быть, не всегда осознаваемый воспитателями) очеловечивания ребенка. Причем он идет в самой, так сказать, горячей точке — в точке преобразования биологических потребностей.
Главное содержание этого процесса — формирование потребностей человеческого типа. Сформированная таким образом пищевая потребность ребенка адекватно может быть описана не формулой «голод — пища — социальные наслоения», а формулой «голод — социальное опосредствование (правила, нормы, отношения) — пища».
Перейдем к более детальному обсуждению мотивов.
Вслед за опредмечиванием потребности и появлением мотива резко меняется тип поведения. Если до этого момента, как мы уже говорили, поведение было ненаправленным, поисковым, то теперь оно приобретает «вектор», или направленность. Оно направлено на предмет или от него — если мотив отрицательно валентен.
Приведу пример резко направленного поведения одного маленького ребенка, описанный в литературе.
У ребенка в возрасте около одного года обнаружилась страсть к соли. Слово «соль» было первым, которое он научился понимать и произносить. Он знал, где хранится соль в доме, постоянно просил ее, тянулся к ней ручками, плакал, если ему ее не давали, наконец, получив ее, поедал ложками. Где-то в возрасте полутора лет его положили в больницу на обследование. Там ему назначили нормальный режим питания, т. е. перестали давать соли столько, сколько он требовал, и ребенок вскоре скончался. При вскрытии оказалось, что у него была опухоль на коре надпочечника, в результате чего из организма вымывалась соль.
Таким образом, острая органическая потребность нашла свой предмет — соль. Стремление к соли побуждало ребенка к разнообразным действиям: он пытался ее доставать, плакал, выпрашивал ее, ел ее в больших количествах и т. п. Следовательно, исходя из данного выше определения, можно сказать, что соль стала мотивом деятельности ребенка, причем его ведущим мотивом.
Именно множество, или «гнездо», действий, которые собираются вокруг одного предмета, — типичный признак мотива. Ведь согласно еще одному определению, мотив — это то, ради чего совершается действие. «Ради» чего-то человек, как правило, производит много разных действий. И вот эта совокупность действий, которые вызываются одним мотивом, и называется деятельностью, а конкретнее, особенной деятельностью или особенным видом деятельности.
Особенные виды деятельности хорошо известны. В качестве примеров обычно приводят игровую, учебную, трудовую деятельности. За этими формами активности даже в обыденной речи закрепилось слово «деятельность».
Однако то же понятие можно применить к массе других активностей человека, например, к заботе о воспитании ребенка, увлечению спортом или решению крупной научной проблемы.
Кстати, определение мотива как предмета потребности не надо понимать слишком буквально, представляя себе предмет в виде вещи, которую можно потрогать руками. «Предмет» может быть идеальным, например той же нерешенной научной задачей, художественным замыслом и т. п.
Уровень деятельностей четко отделяется от уровня действий. Дело в том, что один и тот же мотив может удовлетворяться, вообще говоря, набором разных действий. С другой стороны, одно и то же действие может побуждаться разными мотивами.
Это ярко иллюстрирует рассказ А. П. Чехова «Детвора». Если вы помните, в этом рассказе описываются пятеро детей в возрасте от 9 лет и младше. Дети остались вечером одни (взрослые уехали на крестины), они собрались вокруг большого стола и с большим азартом играют в лото на деньги; ставка — копейка. Привожу отрывок:
«Самый большой азарт написан на лице Гриши. <…> Играет он исключительно из-за денег. (Курсив мой — Ю. Г.) Не будь на блюдечке копеек, он давно бы уже спал. <….> Страх, что он может не выиграть, зависть и финансовые соображения, наполняющие его стриженую голову, не дают ему сидеть спокойно, сосредоточиться. <…>
Сестра его Аня, девочка лет восьми, <…> тоже боится, чтобы кто-нибудь выиграл. Она краснеет, бледнеет и зорко следит за игроками. Копейки ее не интересуют. Счастье в игре для нее вопрос самолюбия. Другая сестра, Соня, девочка шести лет, играет в лото ради процесса игры. По ее лицу разлито умиление. Кто бы ни выиграл, она одинаково хохочет и хлопает в ладоши. Алеша, пухлый, шаровидный карапузик. <…> У него ни корыстолюбия, ни самолюбия. Не гонят из-за стола, не укладывают спать — и на том спасибо. По виду он флегма, но в душе порядочная бестия. Сел он не столько для лото, сколько ради недоразумений, которые неизбежны при игре. Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого. Пятый партнер, кухаркин сын Андрей. <…> К выигрышу и чужим успехам он относится безучастно, потому что весь погружен в арифметику игры, в ее несложную философию; сколько на этом свете разных цифр и как это они все не перепутаются!» [130, с. 55-56].
Итак, налицо пять разных мотивов игры: корыстолюбие, честолюбие, сам процесс игры, страсть к недоразумениям и, наконец, «арифметика игры» — вот, повторяю, пять разных мотивов одних и тех же игровых действий детей.
(Заметьте, кстати, как через мотивы выпукло проступают и личностные и возрастные особенности каждого ребенка.)
Итак, мы рассмотрели пример того, как за одними и теми же действиями у разных людей могут стоять разные мотивы. Если же мы возьмем одного конкретного человека, то обычно его действия побуждаются сразу несколькими мотивами. Полимотивированность человеческих действий — типичное явление. Например, кто-то может хорошо работать ради высокого качества результата, но попутно удовлетворять и другие свои мотивы — социального признания, материального вознаграждения и др.
По своей роли, или функции, не все мотивы, «сходящиеся» на одну деятельность, равнозначны. Как правило, один из них главный, другие — второстепенные. Главный мотив называется ведущим, второстепенные — мотивами-стимулами: они не столько «запускают», сколько дополнительно стимулируют данную деятельность.
Перейду к проблеме соотношения мотивов и сознания. Я говорила, что мотивы порождают действия, т. е. приводят к образованию целей, а цели, как известно, всегда осознаются. Сами же мотивы осознаются далеко не всегда. В результате все мотивы можно разбить на два больших класса: к первому относятся осознаваемые мотивы, ко второму — неосознаваемые.
Примерами мотивов первого класса могут служить большие жизненные цели, которые направляют деятельность человека в течение длительных периодов его жизни. Это мотивы-цели. Существование таких мотивов характерно для зрелых личностей.
И. П. Павлов в предисловии к своей работе «Лекции о работе коры больших полушарий» написал, что она плод его «неотступного двадцатилетнего думания». Изучение законов высшей нервной деятельности было ведущим мотивом его жизни на протяжении нескольких десятков лет. Конечно, это был осознанный мотив, мотив-цель.
К другому классу относятся, как я уже сказала, неосознаваемые мотивы. Этот класс значительно обширнее, и до определенного возраста в нем оказываются практически все мотивы.
Работа по осознанию собственных мотивов очень важна, но и одновременно очень трудна. Она требует не только большого интеллектуального и жизненного опыта, но и большого мужества. По сути, это специальная деятельность, которая имеет свой мотив — мотив самопознания и нравственного самоусовершенствования.
Если мотивы не осознаются, то значит ли это, что они никак не представлены в сознании? Нет, не значит. Они проявляется в дознании, но в особой форме. Таких форм по крайней мере две. Это эмоции и личностные смыслы.
Эмоции возникают лишь по поводу таких событий или результатов действий, которые связаны с мотивами. Если человека что-то волнует, значит это «что-то» затрагивает его мотивы.
В теории деятельности эмоции определяются как отражение отношения результата деятельности к ее мотиву. Если с точки зрения мотива деятельность проходит успешно, возникают, обобщенно говоря, положительные эмоции, если неуспешно — отрицательные эмоции.
Для примера посмотрим, в каких случаях у нас возникает гнев? Когда мы встречаем препятствие на пути осуществления цели. А страх? Когда мотив самосохранения оказывается, так сказать, под угрозой. А радость? Наоборот, когда мотив получает свое удовлетворение.
Если вновь обратиться к рассказу А. П. Чехова «Детвора», то можно увидеть именно такую связь эмоций с мотивами.
Вот Аня, у которой, по словам Чехова, «на блюдечке вместе с копейками лежит честолюбие»: она «краснеет и бледнеет» как раз по поводу успехов и проигрышей своих соперников.
А девочка Соня, которая играет «ради процесса игры», наоборот, «одинаково хохочет и хлопает в ладоши», кто бы ни выиграл. Радость ей доставляет просто то, что игра идет и она сама играет.
А тот карапузик, помните? «Ужасно ему приятно, если кто ударит или обругает кого», т. е. когда реализуется его мотив — страсть к недоразумениям.
А вот несколько слов дальше:
«Партия! У меня партия! — кричит Соня, кокетливо закатывая глаза и хохоча. У партнеров вытягиваются физиономии.
— Проверить! — говорит Гриша, с ненавистью глядя на Соню» [там же, с. 56].
Почему у Гриши возникает ненависть? Потому что копейки, ради которых он только и играет, достались Соне, а не ему.
Приведу вам еще один пример, на этот раз из «Скупого рыцаря» А. С. Пушкина. Помните, как начинается монолог барона?
Как молодой повеса ждет свиданья
С какой-нибудь развратницей лукавой
Иль дурой, им обманутой, так я
Весь день минуты ждал, когда сойду
В подвал мой тайный, к верным сундукам…
И несколько ниже:
Я каждый раз, когда хочу сундук
Мой отпереть, впадаю в жар и трепет…
(Отпирает сундук.)
Вот мое блаженство!
Эмоции нетерпеливого ожидания, жара и трепета, блаженства возникают у барона так же, как и у «молодого повесы», но совсем по другому поводу — по поводу обладания золотом, в данном случае его ведущего мотива.
Из сказанного должно быть ясно, что эмоции — очень важный показатель и, следовательно, ключ к разгадке человеческих мотивов (если последние не осознаются). Нужно только подметить, по какому поводу возникло переживание и какого оно было свойства.
Бывает, например, что человек, совершивший альтруистический поступок, испытывает чувство неудовлетворенности. Ему недостаточно, что он помог другому. Дело в том, что его поступок еще не получил ожидаемого признания со стороны окружающих, и это его разочаровало. Чувство разочарования и подсказывает истинный и, по-видимому, главный мотив, которым он руководствовался.
Теперь о личностном смысле. Выше говорилось, что личностный смысл — другая форма проявления мотивов в сознании. Что же такое личностный смысл?
Это переживание повышенной субъективной значимости предмета, действия или события, оказавшегося в поле действия ведущего мотива. Здесь важно подчеркнуть, что в смыслообразующей функции выступает лишь ведущий мотив. Второстепенные мотивы, мотивы-стимулы, которые, как я уже говорила, играют роль дополнительных побудителей, порождают только эмоции, но не смыслы.
Феномен личностного смысла хорошо обнаруживается на «переходных процессах», когда до того нейтральный объект неожиданно начинает переживаться как субъективно важный. Думаю, что случаи такого рода хорошо знакомы каждому из вас.
Например, скучные географические сведения становятся важными и значимыми, если вы планируете поход и выбираете для него маршрут. Дисциплина в группе начинает вас гораздо больше «задевать», если вы назначаетесь старостой.
Разрешите привести один литературный пример, в котором феномен личностного смысла выступает очень ярко. Это отрывок из «Письма незнакомки» С. Цвейга.
«Все существовало лишь постольку, поскольку имело отношение к тебе, все в моей жизни лишь в том случае приобретало смысл, если было связано с тобой. Ты изменил всю мою жизнь. До тех пор равнодушная и посредственная ученица, я неожиданно стала первой в классе; я читала сотни книг, читала до глубокой ночи, потому что знала, что ты любишь книги; к удивлению матери, я вдруг начала с неистовым усердием упражняться в игре на рояле, так как предполагала, что ты любишь музыку. Я чистила и чинила свои платья, чтобы не попасться тебе на глаза неряшливо одетой… А во время твоих отлучек… моя жизнь на долгие недели замирала и теряла всякий смысл» [128, с. 168—169].
Таким образом, чем интенсивнее мотив, тем больший круг предметов вовлекается в поле его действия, т. е. приобретает личностный смысл. Крайне сильный ведущий мотив способен «осветить» всю жизнь человека! Напротив, утрата такого мотива часто приводит к тяжелому переживанию потери смысла жизни.
Остановимся кратко на вопросе о связи мотивов и личности (мы будем говорить более подробно об этом позже).
Известно, что мотивы человека образуют иерархическую систему. Если сравнить мотивационную сферу человека со зданием, то «здание» это у разных людей будет иметь очень разную форму. В одних случаях оно будет подобно пирамиде с одной вершиной — одним ведущим мотивом, в других случаях вершин (т. е. смыслообразующих мотивов) может быть несколько. Все здание может покоиться на небольшом основании — узкоэгоистическом мотиве, — или опираться на широкий фундамент общественно значимых мотивов, которые включают в круг жизнедеятельности человека судьбы многих людей и событий. Здание это может быть высоким и низким, в зависимости от силы ведущего мотива и т. д.
Мотивационной сферой человека определяется масштаб и характер его личности. Например, маленький, узкий, единственный мотив гоголевского Акакия Акакиевича — страсть к переписыванию бумаг — создает картину убогой личности этого человека. Страсть Скупого рыцаря к наживе формирует личность, подобную высокой пирамиде с узким основанием. Заметьте, что мотив стяжательства у него легко подчиняет себе все другие мотивы: барон не только не испытывает сострадание к должникам, но и держит в нищете своего единственного сына.
Обычно иерархические отношения мотивов не осознаются в полной мере. Они проясняются в ситуациях конфликта мотивов. Не так уж редко жизнь сталкивает разные мотивы, требуя от человека сделать выбор в пользу одного из них: материальная выгода — или интересы дела, самосохранение — или честь, короче говоря, «Париж — или месса». И вот один человек жертвует своей «религией» ради «Парижа», другой — остается ей верен. Считайте, что они прошли тест на иерархию мотивов и одновременно на качество личности.
Остановлюсь на следующем очень важном вопросе: развитии мотивов. После всего сказанного для вас теперь должно быть ясно, что этот вопрос важен прежде всего с точки зрения воспитания и самовоспитания личности.
При анализе деятельности единственный путь движения — тот, который был проделан сегодня: от потребности к мотиву, затем к цели и действию (П — М — Ц — Д). В реальной же деятельности постоянно происходит обратный процесс: в ходе деятельности формируются новые мотивы и потребности (Д — М — П)*. Иначе и не может быть; например, ребенок рождается с ограниченным кругом потребностей, к тому же в основном биологических.
_____________
* Конечно, за деятельностью, которая помещена здесь на первом месте, стоят свои потребность и мотив, однако в данном анализе они как бы выносятся за скобки.
Как в ходе деятельности образуются новые мотивы? Этот вопрос очень сложен и еще недостаточно изучен. Однако в теории деятельности намечен один механизм образования мотивов, который получил название механизма сдвига мотива на цель (другой вариант его названия — механизм превращения цели в мотив).
Суть этого механизма состоит в том, что цель, ранее побуждаемая к ее осуществлению каким-то мотивом, со временем приобретает самостоятельную побудительную силу, т. е. сама становится мотивом.
Я вновь обращаюсь к вашему опыту. Вам, наверное, хорошо знакомы по школьной жизни такие случаи, когда ученик начинает охотно заниматься каким-нибудь предметом потому, что ему доставляет удовольствие общение с любимым учителем.
Но со временем оказывается, что интерес к данному предмету углубился и школьник продолжает заниматься этим предметом уже ради него самого и даже выбирает его в качестве своей будущей специальности.
Очень часто такие «превращения» происходят в научной работе. Известно ли вам, что И. П. Павлов получил Нобелевскую премию совсем не за те исследования высшей нервной деятельности, которые широко известны? До них Павлов занимался физиологией пищеварения и изобрел очень остроумный метод изучения работы желудка, за что и получил эту премию.
И вот в ходе своих работ он заметил явление, которое он назвал «психическим отделением слюны» (условно-рефлекторную реакцию слюноотделения), и задался целью выяснить природу этого явления. Вначале для Павлова это была цель, «освещенная» другим мотивом — понять механизмы пищеварения. Однако постепенно она превратилась в самостоятельный, ведущий мотив, который определил научную деятельность И. П. Павлова на протяжении всей остальной его жизни.
Каково внутреннее содержание этого таинственного и в то же время столь жизненно важного процесса — превращения цели в мотив?
Художественное описание его можно найти в известном эссе Стендаля «О любви», где автор обозначает его как процесс «кристаллизации» [104].
Стендаль сравнивает процесс зарождения чувства любви с тем, что происходит с предметом, когда тот попадает в перенасыщенный раствор соли (у Стендаля — это знаменитые зальцбургские копи). Если это, например, сухая ветка, то она покрывается кристаллами соли и через некоторое время, извлеченная из воды, приобретает вид драгоценности, сияющей алмазами. «То, что я называю кристаллизацией, есть особая деятельность ума, — пишет Стендаль, — который из всего, с чем он сталкивается, извлекает открытие, что любимый предмет обладает новыми совершенствами». Если перевести метафору Стендаля на язык научных понятий, то процесс кристаллизации можно представить себе как процесс «выпадения» положительных эмоций на предмет (или цель) деятельности. Если процесс накопления положительных эмоций вокруг данного предмета идет достаточно интенсивно, то наступает момент, когда он (этот предмет) превращается в мотив*.
____________
* Аналогичный процесс, но только с противоположным эмоциональным знаком и противоположным результатом («изживание» мотива) описан З.Фрейдом как «работа печали» [121, с. 204—205].
Если снова воспользоваться метафорой, то можно сказать, что сначала предмет «отражает свет» (положительные эмоции) от других мотивов, а с какого-то момента начинает «светиться» сам, т. е. сам становится мотивом.
Важно подчеркнуть, что превращение цели в мотив может произойти, только если накапливаются положительные эмоции: например, хорошо известно, что одними наказаниями и принуждениями любовь или интерес к делу привить невозможно.
Итак, предмет не может стать мотивом по заказу даже при очень горячем желании. Он должен пройти длительный период аккумуляции положительных эмоций. Последние выступают в роли своеобразных «мостиков», которые связывают данный предмет с системой существующих мотивов, пока новый мотив не войдет в эту систему на правах одного из них.
До сих пор нами обсуждалась в основном внешняя, практическая деятельность человека. С ее анализа и началась разработка теории деятельности. Но затем авторы теории обратились к внутренней деятельности. Что же такое «внутренняя деятельность»?
Для начала представьте себе содержание той внутренней работы, которая называется «умственной» и которой человек занимается постоянно. Всегда ли это собственно мыслительный процесс, т. е. решение интеллектуальных или научных задач? Нет, не всегда. Очень часто во время таких «размышлений» человек воспроизводит (как бы проигрывает) в уме предстоящие действия.
Например, Н. собирается повесить книжные полки и «прикидывает», где и как их расположить. Оценив один вариант, он от него отказывается, переходит к другому, третьему варианту, наконец выбирает наиболее подходящее, на его взгляд, место.
Причем за все время он ни разу «не пошевельнул пальцем», т. е. не произвел ни одного практического действия.
«Проигрывание» действий в уме входит и в обдумывание поступков. Что человек делает, когда размышляет, как поступить? Представляет какое-то действие свершившимся и затем смотрит на его следствия. По ним он и выбирает тот поступок, который кажется ему наиболее подходящим (если, конечно, он действует обдуманно).
Как часто человек, ожидая какое-нибудь радостное событие, опережает время и представляет это событие уже случившимся. В результате он находит себя сидящим со счастливой улыбкой. Или как часто мы в мыслях обращаемся к другу или близкому человеку, делясь с ним впечатлениями, представляя его реакцию или мнение, иногда ведя с ним длительный спор и даже выясняя отношения.
Представляют ли все описанные и подобные им случаи внутренней работы просто курьезные факты, которые сопровождают нашу реальную, практическую, деятельность, или они имеют какую-то функцию? Безусловно, имеют — и очень важную!
В чем эта функция состоит? В том, что внутренние действия подготавливают внешние действия. Они экономизируют человеческие усилия, давая возможность достаточно быстро выбрать нужное действие. Наконец, они дают человеку возможность избежать грубых, а иногда и роковых ошибок.
В отношении этих чрезвычайно важных форм активности выдвигаются два основных тезиса.
Во-первых, подобная активность есть деятельность, которая имеет принципиально то же строение, что и внешняя деятельность, и которая отличается от последней только формой протекания.
Во-вторых, внутренняя деятельность произошла из внешней путем процесса интериоризации. Под последним понимается перенос соответствующих действий в умственный план.
Что касается первого тезиса, то он означает, что внутренняя деятельность, как и внешняя, побуждается мотивами, сопровождается эмоциональными переживаниями (не менее, а часто и более острыми), имеет свой операционально-технический состав, т. е. состоит из последовательности действий и реализующих их операций. Разница только в том, что действия производятся не с материальными предметами, а с их образами, а вместо реального продукта получается мысленный результат.
В отношении второго тезиса можно добавить следующее. Во-первых, довольно очевидно, что для успешного воспроизведения какого-то действия «в уме» нужно обязательно освоить его в материальном плане и получить сначала реальный результат. Например, продумывание шахматного хода возможно лишь после того, как освоены реальные ходы фигур и восприняты их реальные следствия.
С другой стороны, столь же очевидно, что при интериоризации внешняя деятельность, хотя и не меняет своего принципиального строения, сильно трансформируется. Особенно это относится к ее операционально-технической части: отдельные действия или операции сокращаются, и некоторые из них выпадают вовсе; весь процесс протекает намного быстрее.
Хочу обратить ваше внимание на то, что теория деятельности через понятие внутренней деятельности в значительной мере приблизилась к описанию знаменитого «потока сознания» В. Джемса своими средствами. Правда, с помощью этого понятия удается представить не все содержание этого «потока». Чтобы охватить остальные «содержания сознания», необходимо сделать вслед за теорией деятельности еще один, последний, шаг — в направлении таких традиционных объектов психологической науки, как отдельные процессы, или психические функции: восприятие, внимание, память и т. п.
Могут ли эти процессы быть описаны в понятиях теории деятельности? Можно ли усмотреть и в них структурные особенности деятельности? Оказывается, можно! Более того, советская психология на протяжении нескольких десятилетий занималась разработкой как раз такого деятельностного подхода к названным процессам.
Для примера возьмем восприятие. Я уже говорила, что существует сенсорная функция, т. е. способность получать ощущения. В одной из предшествующих лекций в связи с «иллюзией окна» говорилось о перцептивных навыках и автоматизмах, т. е. о перцептивных операциях, — они тоже имеют место. А вот перцептивные действия, существуют ли они? Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо выяснить, а существуют ли перцептивные цели? Если да, то им будут соответствовать и перцептивные действия.
Итак, существуют ли перцептивные цели, перцептивные задачи? Существуют, конечно. Всем знакома задача различения двух сходных раздражителей — вкусов, запахов, звуковых тонов, цветов. В решении такой задачи упражняются, например, дегустаторы, настройщики, художники. Совсем другой тип перцептивной задачи — обнаружение цели (например, слабо светящейся точки на экране). В повседневной жизни часто приходится решать глазомерные задачи, задачи опознания (лиц, голосов, форм) и др.
Для решения всех этих задач производятся перцептивные действия, которые можно охарактеризовать соответственно как действия различения, обнаружения, измерения, опознания.
Представления о структуре деятельности применимы также к анализу всех остальных психических процессов, и с этим вы будете подробно знакомиться в специальных разделах курса общей психологии. Я только хочу указать на то, что теория деятельности дает возможность по-новому взглянуть на эти классические объекты психологического изучения. Она дает возможность осмыслить психические процессы как особые формы деятельности и применить к ним известные сведения — об общем строении деятельности, о ее иерархических уровнях, о формах ее протекания, о законах формирования, о связях с сознанием и т. п.
На этом я закончила изложение собственно теории деятельности. Мы имеем теперь возможность вновь обратиться к вопросу о предмете психологам, и наконец завершить его обсуждение, рассмотрев современное его решение.
Итак, какой ответ на вопрос о предмете психологии предлагает теория деятельности? Его можно найти в Большой советской энциклопедии в статье «Психология» (написанной А. Н. Леонтьевым и М. Г. Ярошевским). Психология в ней определяется как «наука о законах порождения и функционирования психического отражения индивидом объективной реальности в процессе деятельности человека и поведения животных» [88, с. 193].
Из этого определения видно, что «деятельность» принимается как исходная реальность, с которой имеет дело психология, а психика рассматривается как ее производная и одновременно как ее неотъемлемая сторона. Тем самым утверждается, что психика не может рассматриваться вне деятельности, равно как и наоборот: деятельность — без психики.
Предельно упрощая, можно сказать, что предметом психологии является психически управляемая деятельность*.
__________________
* Эта наиболее широкая трактовка предмета психологии с позиции деятельностного подхода (см., например, [30]) не является общепринятой. Более узкая точка зрения состоит в выделении в качестве предмета психологии ориентировочной деятельности, т. е. системы психического управления деятельностью [23].
Как же этот ответ непосредственно реализуется в практике психологических исследований?
Если проанализировать конкретные работы (теоретические и экспериментальные), выполненные в советской психологии на протяжении нескольких десятилетий, то можно видеть, что в них реализуются две самые общие стратегические линии. В русле одной из них деятельность выступает как предмет исследования, в русле другой — как объяснительный принцип.
Например, все уже известные вам представления — об уровневой структуре деятельности, о ее динамике, о формах деятельности (внутренней и внешней), о процессе интериоризации, об отражении структурных особенностей деятельности в сознании и т. п. — есть результат реализации первой стратегической линии. Применение же понятий и положений теории деятельности к анализу психических процессов, сознания, личности — есть результат реализации второй линии. Конечно, обе «линии» тесно переплетаются, и успехи в развитии первой создают основу для развития второй.
По существу, последующие лекции будут развернутыми иллюстрациями обеих стратегий, которые объединяются под общим названием деятельностного подхода в психологии. Надеюсь, что на материале различных тем нам удастся более содержательно рассмотреть основные положения теории деятельности и одновременно убедиться в ее объяснительных возможностях.
Лекция 9
ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ И ФИЗИОЛОГИЯ АКТИВНОСТИ
МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЙ ПО Н. А. БЕРНШТЕЙНУ: ПРИНЦИП СЕНСОРНЫХ КОРРЕКЦИЙ, СХЕМА РЕФЛЕКТОРНОГО КОЛЬЦА, ТЕОРИЯ УРОВНЕЙ
В этой и следующей лекциях вы познакомитесь с концепцией выдающегося советского ученого Н. А. Бернштейна. У нас есть целый ряд оснований обратиться к этой концепции.
В трудах Н. А. Бернштейна нашла блестящую разработку проблема механизмов организации движении и действий человека. Занимаясь этой проблемой, Н. А. Бернштейн обнаружил себя как очень психологично мыслящий физиолог (что бывает крайне редко). В результате его теория и выявленные им механизмы оказались органически сочетающимися с теорией деятельности, позволяя углубить наши представления о ее операционально-технических аспектах.
Но это далеко не все. Н. А. Бернштейн выступил в научной литературе как страстный защитник принципа активности — одного из тех принципов, на которых, как вы уже знаете, покоится психологическая теория деятельности. Мы разберем его идеи, высказанные в порядке защиты и развития этого принципа. Наконец, теория Н. А. Бернштейна окажется нам чрезвычайно полезной при обсуждении так называемой психофизической проблемы (лекция 13), где речь пойдет, в частности, о возможностях и ограничениях физиологического объяснения в психологии.
Николай Александрович Бернштейн (1896—1966) по образованию был врач-невропатолог, и в этом качестве он работал в госпиталях во время гражданской и Великой Отечественной войн. Но наиболее плодотворной оказалась его работа как экспериментатора и теоретика в целом ряде научных областей — физиологии, психофизиологии, биологии, кибернетике.
Это был человек очень разносторонних талантов: он увлекался математикой, музыкой, лингвистикой, инженерным делом. Однако все свои знания и способности он сконцентрировал на решении главной проблемы своей жизни — изучении движений человека и животных. Так, математические знания позволили ему стать основоположником современной биомеханики, в частности биомеханики спорта. Практика врача-невропатолога снабдила его огромным фактическим материалом, касающимся расстройств движений при различных заболеваниях и травмах центральной нервной системы. Занятия музыкой дали возможность подвергнуть тончайшему анализу движения пианиста и скрипача: он экспериментировал в том числе и на себе, наблюдая за прогрессом собственной фортепианной техники. Инженерные знания и навыки помогли Н. А. Бернштейну усовершенствовать методы регистрации движений — он создал ряд новых техник регистрации сложных движений. Наконец, лингвистические интересы, несомненно, сказались на стиле, которым написаны его научные труды: тексты Н. А. Бернштейна — одни из самых поэтичных образцов научной литературы. Его язык отличается сжатостью, четкостью и в то же время необыкновенной живостью и образностью. Конечно, все эти качества языка отражали и качества его мышления.
В 1947 г. вышла одна из основных книг Н. А. Бернштейна «О построении движения», которая была удостоена Государственной премии. На титуле книги стояло посвящение: «Светлой, неугасающей памяти товарищей, отдавших свою жизнь в борьбе за Советскую Родину».
В этой книге были отражены итоги почти тридцатилетней работы автора и его сотрудников в области экспериментальных, клинических и теоретических исследований движений и высказан ряд совершенно новых идей.
Одна из них состояла в опровержении принципа рефлекторной дуги как механизма организации движений и замене его принципом рефлекторного кольца, о чем я буду говорить более подробно. Этот пункт концепции Н. А. Бернштейна содержал, таким образом, критику господствовавшей в то время в физиологии высшей нервной деятельности точки зрения на механизм условного рефлекса как на универсальный принцип анализа высшей нервной деятельности.
Вскоре для Н. А. Бернштейна настали трудные годы. На организованных дискуссиях подчас некорректно и некомпетентно выступали коллеги и даже некоторые бывшие ученики Н. А. Бернштейна с критикой его новых идей. В этот тяжелый для себя период Николай Александрович не отказался ни от одной своей идеи, заплатив за это, как потом выяснилось, потерей навсегда возможности вести экспериментально-исследовательскую работу.
Последний период жизни Н. А. Бернштейн был занят особой деятельностью. К нему домой шли ученые и научные работники разных профессий: врачи, физиологи, математики, кибернетики, музыканты, лингвисты — для научных бесед. Они искали у него советов, оценок, консультаций, новых точек зрения. (Об этом вы можете подробно прочесть в статье В. Л. Найдина «Чудо, которое всегда с тобой» [79].) Другую половину дня Н. А. Бернштейн был занят собственной научной, теоретической работой — он подводил итоги и снова осмысливал результаты, полученные в предыдущие периоды своей жизни.
Уже после его смерти многие узнали, что за два года до кончины Н. А. Бернштейн сам поставил себе диагноз — рак печени, после чего снялся с учета из всех поликлиник и строго расписал оставшийся срок жизни, который он тоже определил с точностью до месяца. Он успел закончить и даже просмотреть гранки своей последней книги «Очерки по физиологии движений и физиологии активности» [15].
Известный русский психиатр П. Б. Ганнушкин, характеризуя один из типов человеческих личностей, писал: «Здесь можно найти людей, занимающих позиции на тех вершинах царства идей, в разреженном воздухе которого трудно дышать обыкновенному человеку. Сюда относятся: уточненные художники-эстеты… глубокомысленные метафизики, наконец, талантливые ученые-схематики и гениальные революционеры в науке, благодаря своей способности к неожиданным сопоставлениям с бестрепетной отвагой преображающие, иногда до неузнаваемости, лицо той дисциплины, в которой они работают» [25, с. 386]. Читая эти строки, сразу вспоминаешь Н. А. Бернштейна: именно талантливый ученый-революционер, именно преобразивший до неузнаваемости дисциплину и именно «с бестрепетной отвагой»!
А теперь рассмотрим содержательно некоторые основные положения концепции Н. А. Бернштейна.
Залог успеха работ Бернштейна состоял в том, что он отказался от традиционных методов исследования движений. До него движения, как правило, загонялись в прокрустово ложе лабораторных процедур и установок; при их исследовании часто производилась перерезка нервов, разрушение центров, внешнее обездвижение животного (за исключением той части тела, которая интересовала экспериментатора), лягушек обезглавливали, собак привязывали к станку и т. п.
Объектом изучения Н. А. Бернштейн сделал естественные движения нормального, неповрежденного организма, и в основном движения человека. Таким образом, сразу определился контингент движений, которыми он занимался; это были движения трудовые, спортивные, бытовые. Конечно, потребовалась разработка специальных методов регистрации движений, что с успехом осуществил Бернштейн.
До работ Н. А. Бернштейна в физиологии бытовало мнение (которое излагалось и в учебниках), что двигательный акт организуется следующим образом: на этапе обучения движению в двигательных центрах формируется и фиксируется его программа; затем в результате действия какого-то стимула она возбуждается, в мышцы идут моторные командные импульсы, и движение реализуется. Таким образом, в самом общем виде механизм движения описывался схемой рефлекторной дуги: стимул — процесс его центральной переработки (возбуждение программ) — двигательная реакция.
Первый вывод, к которому пришел Н. А. Бернштейн, состоял в том, что так не может осуществляться сколько-нибудь сложное движение. Вообще говоря, очень простое движение, например коленный рефлекс или отдергивание руки от огня, может произойти в результате прямого проведения моторных команд от центра к периферии. Но сложные двигательные акты, которые призваны решить какую-то задачу, достичь какого-то результата, так строиться не могут. Главная причина состоит в том, что результат любого сложного движения зависит не только от собственно управляющих сигналов, но и от целого ряда дополнительных факторов. Какие это факторы, я скажу несколько позже, а сейчас отмечу только их общее свойство: все они вносят отклонения в запланированный ход движения, сами же не поддаются предварительному учету. В результате окончательная цель движения может быть достигнута, только если в него будут постоянно вноситься поправки, или коррекции. А для этого ЦНС должна знать, какова реальная судьба текущего движения. Иными словами, в ЦНС должны непрерывно поступать афферентные сигналы, содержащие информацию о реальном ходе движения, а затем перерабатываться в сигналы коррекции.
Таким образом, Н. А. Бернштейном был предложен совершенно новый принцип управления движениями. Он назвал его принципом сенсорных коррекций, имея в виду коррекции, вносимые в моторные импульсы на основе сенсорной информации о ходе движения.
А теперь познакомимся с дополнительными факторами, которые, помимо моторных команд, влияют на ход движения.
Во-первых, это реактивные силы. Если вы сильно взмахнете рукой, то в других частях тела разовьются реактивные силы, которые изменят их положение и тонус.
Это хорошо видно в тех случаях, когда у вас под ногами нетвердая опора. Неопытный человек, стоя на льду, рискует упасть, если слишком сильно ударит клюшкой по шайбе, хотя, конечно, это падение никак не запланировано в его моторных центрах. Если ребенок залезает на диван и начинает с него бросать мяч, то мать тут же спускает его вниз; она знает, что бросив мяч, он может сам полететь с дивана; виной опять будут реактивные силы.
Во-вторых, это инерционные силы. Если вы резко поднимете руку, то она взлетает не только за счет тех моторных импульсов, которые посланы в мышцы, но с какого-то момента движется по инерции. Влияние инерционных сил особенно велико в тех случаях, когда человек работает тяжелым орудием — топором, молотом и т. п. Но они имеют место и в любом другом движении. Например, при беге значительная часть движения выносимой вперед ноги происходит за счет этих сил.
В-третьих, это внешние силы. Если движение направлено на объект, то оно обязательно встречается с его сопротивлением, причем это сопротивление далеко не всегда предсказуемо. Представьте себе, что вы натираете пол, производя скользящие движения ногой. Сопротивление пола в каждый момент может отличаться от предыдущего, и заранее знать его вы никак не можете. То же самое при работе резцом, рубанком, отверткой. Во всех этих и многих других случаях нельзя заложить в моторные программы учет меняющихся внешних сил.
Наконец, последний непланируемый фактор — исходное состояние мышцы.
Состояние мышцы меняется по ходу движения вместе с изменением ее длины, а также в результате утомления. Поэтому один и тот же управляющий импульс, придя к мышце, может дать совершенно разный моторный эффект.
Итак, действие всех перечисленных факторов обусловливает необходимость непрерывного учета информации о состоянии двигательного аппарата и о непосредственном ходе движения. Эта информация получила название «сигналов обратной связи». Кстати, роль сигналов обратной связи в управлении движениями, как и в задачах управления вообще, Н. А. Бернштейн описал задолго до появления аналогичных идей в кибернетике*.
____________
* Примерно в то же время, т. е. в середине 30-х годов, наличие сигналов обратной связи в контуре управления физиологическими актами было описано другим советским физиологом, П. К.Анохиным, под названием «санкционирующая афферентация» [7].
Тезис о том, что без учета информации о движении последнее не может осуществляться, имеет веские фактические подтверждения.
Рассмотрим два примера. Первый я беру из монографии Н. А. Бернштейна [14].
Есть такое заболевание — сухотка спинного мозга, при котором поражаются проводящие пути проприоцептивной, т. е. мышечной и суставной, а также кожной чувствительности. При этом больной имеет совершенно сохранную моторную систему: моторные центры целы, моторные проводящие пути в спинном мозге сохранны, его мышцы находятся в нормальном состоянии. Нет только афферентных сигналов от опорно-двигательного аппарата. И в результате движения оказываются полностью расстроены. Так, если больной закрывает глаза, то он не может ходить; также с закрытыми глазами он не может удержать стакан — тот у него выскальзывает из рук. Все это происходит потому, что субъект не знает, в каком положении находятся, например, его ноги, руки или другие части тела, движутся они или нет, каков тонус и состояние мышц и т. п. Но если такой пациент открывает глаза и если ему еще на полу чертят полоски, по которым он должен пройти (т. е. организуют зрительную информацию о его собственных движениях), то он идет более или менее успешно. То же происходит с различными ручными движениями.
Другой пример я беру из относительно новых экспериментальных исследований организации речевых движений.
Когда человек говорит, то он получает сигналы обратной связи о работе своего артикуляционного аппарата в двух формах: в форме тех же проприоцептивных сигналов (мы имеем чувствительные «датчики» в мышцах гортани языка, всей ротовой полости) и в форме слуховых сигналов.
Вообще сигналы обратной связи от движений часто запараллелены, т. е. они поступают одновременно по нескольким каналам. Например, когда человек идет, то ощущает свои шаги с помощью мышечного чувства и одновременно может их видеть и слышать. Так же и в обсуждаемом случае: воспринимая проприоцептивные сигналы от своих речевых движений, человек одновременно отчетливо слышит звуки своей речи. Я сейчас докажу, что и те и другие сигналы используются для организации речевых движений. Современная лабораторная техника позволяет поставить человека в совершенно необычные условия. Испытуемому предлагают произносить какой-нибудь текст, например знакомое стихотворение. Этот текст через микрофон подают ему в наушники, но с некоторым запаздыванием; таким образом, испытуемый слышит то, что он говорил несколько секунд назад, а то, что говорит в данный момент, он не слышит. Оказывается, что в этих условиях речь человека полностью расстраивается; он оказывается неспособным вообще что-либо говорить!
|
В чем здесь дело? Нельзя сказать, что в описанных опытах испытуемый лишен сигналов обратной связи: оба чувствительных канала — мышечный и слуховой — функционируют. Дело все в том, что по ним поступает несогласованная, противоречивая информация. Так что на основании одной информации следовало бы производить одно речевое движение, а на основании другой — другое движение. В результате испытуемый не может произвести никакого движения. Замечу, что описанный прием «сшибки» сигналов обратной связи используют для выявления лиц, симулирующих глухоту: если человек действительно не слышит, то задержка сигналов обратной связи по слуховому каналу не вызывает у него никакого расстройства речи; если же он только притворяется неслышащим, то этот прием действует безотказно.
Перейдем к следующему важному пункту теории Н. А. Бернштейна — к схеме рефлекторного кольца. Эта схема непосредственно вытекает из принципа сенсорных коррекций и служит его дальнейшим развитием.
Рассмотрим сначала упрощенный вариант этой схемы (рис. 6, а).
Имеется моторный центр (М), из которого поступают эффекторные команды в мышцу. Изобразим ее блоком внизу, имея в виду также рабочую точку движущегося органа (т). От рабочей точки идут сигналы обратной связи в сенсорный центр (S); это чувствительные, или афферентные, сигналы. В ЦНС происходит переработка поступившей информации, т. е. перешифровка ее на моторные сигналы коррекции. Эти сигналы снова поступают в мышцу. Получается кольцевой процесс управления.
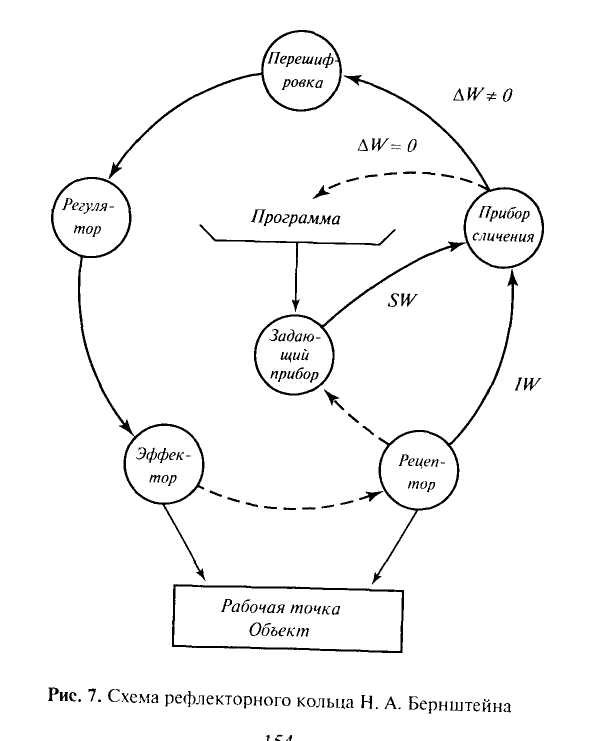
Данная схема станет более понятной, если ввести временную развертку процесса (рис. 6, б). Предположим, что только что сказанное относится к моменту t1; новые эффекторные сигналы приводят к перемещению рабочей точки по заданной траектории (момент t2), и т. д.
Как классическая схема рефлекторной дуги соотносится с таким «кольцом»? Можно сказать, что она представляет собой частный, притом «вырожденный», случай кольца: по схеме дуги совершаются жестко запрограммированные, элементарные кратковременные акты, которые не нуждаются в коррекциях. Я уже упоминала о них: это движения типа коленного рефлекса, мигания и т. п. Обратная афферентация в них теряет свое значение, и определяющую роль приобретает внешний пусковой сигнал (рис. 6, в). Для большинства же движений необходимо функционирование кольца.Данная схема станет более понятной, если ввести временную развертку процесса (рис. 6, б). Предположим, что только что сказанное относится к моменту t1; новые эффекторные сигналы приводят к перемещению рабочей точки по заданной траектории (момент t2), и т. д.
Теперь обратимся к более позднему варианту схемы «кольца» Н. А. Бернштейна; она более детализована и поэтому позволяет гораздо полнее представить процесс управления двигательными актами (рис. 7).
Имеются моторные «выходы» (эффектор), сенсорные «входы» (рецептор), рабочая точка или объект (если речь идет о предметном действии) и блок перешифровок. Новыми являются несколько центральных блоков — программа, задающий прибор и прибор сличения.
Кольцо функционирует следующим образом. В программе записаны последовательные этапы сложного движения. В каждый данный момент отрабатывается какой-то ее частный этап, или элемент, и соответствующая частная программа спускается в задающий прибор.
Из задающего прибора сигналы поступают на прибор сличения; Н. А. Бернштейн обозначает их двумя латинскими буквами SW (от нем. Soil Wert, что означает «то, что должно быть»). На тот же блок от рецептора приходят сигналы обратной связи, сообщающие о состоянии рабочей точки; они обозначены IW (от нем. Ist Wert, что означает «то, что есть»). В приборе сличения эти сигналы сравниваются, и на выходе из него получаются DH7, т. е. сигналы рассогласования между требуемым и фактическим положением вещей. Они попадают на блок перешифровки, откуда выходят сигналы коррекции; через промежуточные центральные инстанции (регулятор) они попадают на эффектор.
Разберем функционирование кольца управления на примере какого-нибудь реального движения.
Предположим, гимнаст работает на кольцах. Вся комбинация целиком содержится в его двигательной программе. В соответствии с программой ему нужно в какой-то момент сделать стойку на руках (кстати, труднейший элемент!).
Из программы спускается в задающий прибор соответствующий приказ, и в нем формируются сигналы SW, которые идут на прибор сличения. Эти сигналы будут сличаться с афферентными сигналами (IW). Значит, сами они должны иметь сенсорно-перцептивную природу, т. е. представлять собой образ движения. Такой образ обеспечивается прежде всего сигналами проприоцептивной и зрительной модальностей; это «картина» стойки и с точки зрения ее общего вида, и с точки зрения ее двигательно-технического состава — положения, частей тела, центра тяжести, распределения тонуса различных мышц и т. п.
Итак, в прибор сличения поступают и образ движения, и информация от всех рецепторов о реализованном движении.
Предположим, что, выходя на стойку, спортсмен сделал слишком сильный мах и его начало клонить назад, — возникает опасность опрокинуться. Что тогда происходит? С прибора сличения поступили на блок перешифровки сигналы об излишней тяге назад. Эти сигналы (DW) сообщают, что не все в порядке, что нужно послать сигналы коррекции, выправляющие это положение. Такие сигналы поступают, поправка происходи! В следующем цикле кольца снова сличаются сигналы SW и IW. Может оказаться, что DW=0; это идеальный случай. Он означает, что данный элемент выполнен и можно перейти к реализации следующего пункта программы*.
_____________
* Для пояснения этого момента удобно дополнить схему Н. А. Бернштейна соответствующей стрелкой (DW = 0 на рис. 7).
На схеме Бернштейна можно видеть одну интересную стрелку, которая идет от рецептора на задающий прибор. Она означает следующее: по ходу движения случаются такие ситуации, когда экономичнее не давать коррекции к текущему движению, а просто перестроить его, пустить по другому руслу, т. е. изменить его частную программу. Тогда соответствующее решение принимается в микроинтервалы времени, и в этом обнаруживается двигательная находчивость организма. Таким образом, может иметь место не только спокойный «спуск» частных программ в задающее устройство, но и экстренная их перестройка. Я думаю, что подобные примеры вы легко найдете сами. Такое случается в условиях борьбы хищника и жертвы, встречи боксеров, в спортивных играх и т. п., где ситуация постоянно меняется.
Итак, были разобраны принцип сенсорных коррекций и вытекающая из этого принципа схема управления по рефлекторному кольцу.
Перейду к следующему крупному вкладу Н. А. Бернштейна — к теории уровней построения движений.
К этой теории можно перекинуть логический мост от рефлекторного кольца, если обратить специальное внимание на качество афферентных сигналов, поступающих от движения.
Специально исследуя этот вопрос на очень обширном материале с привлечением данных фило- и онтогенеза, патологии и экспериментальных исследований, Н. А. Бернштейн обнаружил следующее. В зависимости от того, какую информацию несут сигналы обратной связи: сообщают ли они о степени напряжения мышц, об относительном положении частей тела, о скорости или ускорении движения рабочей точки, о ее пространственном положении, о предметном результате движения, — афферентные сигналы приходят в разные чувствительные центры головного мозга и соответственно переключаются на моторные пути на разных уровнях.
Причем под уровнями следует понимать буквально морфологические «слои» в ЦНС. Так были выделены уровни спинного и продолговатого мозга, уровень подкорковых центров, уровни коры. Но я не буду сейчас вдаваться в анатомические подробности, поскольку они требуют специальных знаний. Остановлюсь лишь на краткой характеристике каждого из уровней, выделенных Н. А. Бернштейном, и проиллюстрирую их на примерах.
Надо сказать, что каждый уровень имеет специфические, свойственные только ему моторные проявления, каждому уровню соответствует свой класс движений.
Уровень А — самый низкий и филогенетически самый древний. У человека он не имеет самостоятельного значения, зато заведует очень важным аспектом любого движения — тонусом мышц. Он участвует в организации любого движения совместно с другими уровнями.
Правда, есть немногочисленные движения, которые регулируются уровнем А самостоятельно: это непроизвольная дрожь, стук зубами от холода и страха, быстрые вибрато (7-8 гц) в фортепианной игре, дрожания пальца скрипача, удержание позы в полетной фазе прыжка и др.
На этот уровень поступают сигналы от мышечных про-приорецепторов, которые сообщают о степени напряжения мышц, а также от органов равновесия.
Уровень В. Бернштейн называет его уровнем синергии. На этом уровне перерабатываются в основном сигналы от мышечно-суставных рецепторов, которые сообщают о взаимном положении и движении частей тела. Этот уровень, таким образом, оторван от внешнего пространства, но зато очень хорошо «осведомлен» о том, что делается «в пространстве тела».
Уровень В принимает большое участие в организации движений более высоких уровней, и там он берет на себя задачу внутренней координации сложных двигательных ансамблей. К собственным движениям этого уровня относятся такие, которые не требуют учета внешнего пространства: вольная гимнастика; потягивания, мимика и др.
Уровень С. Бернштейн называет его уровнем пространственного поля. На него поступают сигналы от зрения, слуха, осязания, т. е. вся информация о внешнем пространстве. Поэтому на нем строятся движения, приспособленные к пространственным свойствам объектов — к их форме, положению, длине, весу и пр. Среди них все переместительные движения: ходьба, лазанье, бег, прыжки, различные акробатические движения; упражнения на гимнастических снарядах; движения рук пианиста или машинистки; баллистические движения — метание фанаты, броски мяча, игра в теннис и городки; движения прицеливания — игра на бильярде, наводка подзорной трубы, стрельба из винтовки; броски вратаря на мяч.
Уровень D назван уровнем предметных действий. Это корковый уровень, который заведует организацией действий с предметами. Он практически монопольно принадлежит человеку. К нему относятся все орудийные действия, манипуляции с предметами. Примерами могут служить движения жонглера, фехтовальщика; все бытовые движения: шнуровка ботинок, завязывание галстука, чистка картошки; работа гравера, хирурга, часовщика; управление автомобилем и т. п.
Характерная особенность движений этого уровня в том, что они сообразуются с логикой предмета. Это уже не столько движения, сколько действия; в них совсем не фиксирован двигательный состав, или «узор», движения, а задан лишь конечный предметный результат. Для этого уровня безразличен способ выполнения действия, набор двигательных операций. Так, именно средствами данного уровня Н. Паганини мог играть на одной струне, когда у него лопались остальные. Более распространенный бытовой пример — разные способы открывания бутылки: вы можете прибегнуть к помощи штопора, ножа, выбить пробку ударом по дну, протолкнуть ее внутрь и т. п. Во всех случаях конкретные движения будут разные, но конечный результат действия — одинаковый. И в этом смысле к работе уровня D очень подходит пословица: «Не мытьем, так катаньем».
Наконец, последний, самый высокий — уровень Е. Это уровень интеллектуальных двигательных актов, в первую очередь речевых движений, движений письма, а также движения символической, или кодированной, речи — жестов глухонемых, азбуки Морзе. Движения этого уровня определяются не предметным, а отвлеченным, вербальным смыслом.
Теперь сделаю два важных замечания относительно функционирования уровней.
Первое: в организации сложных движений участвуют, как правило, сразу несколько уровней — тот, на котором строится данное движение (он называется ведущим), и все нижележащие уровни.
К примеру, письмо — это сложное движение, в котором участвуют все пять уровней. Проследим их, двигаясь снизу вверх.
Уровень А обеспечивает прежде всего тонус руки и пальцев.
Уровень В придает движениям письма плавную округлость, обеспечивая скоропись. Если переложить пишущую ручку в левую руку, то округлость и плавность движений исчезает: дело в том, что уровень В отличается фиксацией «штампов», которые выработались в результате тренировки и которые не переносятся на другие двигательные органы (интересно, что при потере плавности индивидуальные особенности почерка сохраняются и в левой руке, потому что они зависят от других, более высоких уровней). Так что этим способом можно вычленить вклад уровня В.
Далее, уровень С организует воспроизведение геометрической формы букв, ровное расположение строк на бумаге.
Уровень D обеспечивает правильное владение ручкой, наконец, уровень Е — смысловую сторону письма.
Развивая это положение о совместном функционировании уровней, Н. А. Бернштейн приходит к следующему важному правилу: в сознании человека представлены только те компоненты движения, которые строятся на ведущем уровне; работа нижележащих, или «фоновых», уровней, как правило, не осознается.
Когда субъект излагает на бумаге свои мысли, то он осознает смысл письма: ведущим уровнем, на котором строятся его графические движения, в этом случае является уровень Е. Что касается особенностей почерка, формы отдельных букв, прямолинейности строк и т. п., то все это в его сознании практически не присутствует.
Второе замечание: формально одно и то же движение может строиться на разных ведущих уровнях.
Проиллюстрирую это следующим примером, заимствуя его у Н. А. Бернштейна. Возьмем круговое движение руки; оно может быть получено на уровне А: например, при фортепианном вибрато кисть руки и суставы пальцев описывают маленькие круговые траектории. Круговое движение можно построить и на уровне В, например включив его в качестве элемента в вольную гимнастику.
На уровне С будет строиться круговое движение при обведении контура заданного круга. На уровне предметного действия D круговое движение может возникнуть при завязывании узла. Наконец, на уровне Е такое же движение организуется, например, при изображении лектором окружности на доске. Лектор не заботится, как заботился бы учитель рисования, о том, чтобы окружность была метрически правильной, для него достаточно воспроизведения смысловой схемы.
А теперь возникает вопрос: чем же определяется факт построения движения на том или другом уровне? Ответом будет очень важный вывод Н. А. Бернштейна, который дан выше: ведущий уровень построения движения определяется смыслом, или задачей, движения.
Яркая иллюстрация этого положения содержится в исследовании А. Н. Леонтьева и А. В. Запорожца [59]. Работая в годы Великой Отечественной войны над восстановлением движений руки раненых бойцов, авторы обнаружили следующий замечательный факт.
После периода лечебных упражнений с раненым проводилась проба для выяснения того, насколько функция руки восстановилась. Для этого ему давалась задача «поднять руку как можно выше». Выполняя ее, он поднимал руку только до определенного предела — диапазон движений был сильно ограничен. Но задача менялась: больного просили «поднять руку до указанной отметки на стене», и тогда оказывалось, что он в состоянии поднять руку на 10-15 см выше. Наконец, снова менялась задача: предлагалось «снять шляпу с крючка» — и рука поднималась еще выше!
В чем здесь дело? Дело в том, что во всех перечисленных случаях движение строилось на разных уровнях: первое движение («как можно выше») — в координатах тела, т. е. на уровне В; второе («до этой отметки») — на уровне С, т. е. в координатах внешнего пространства; наконец, третье («снимите шляпу») — на уровне D). Проявлялась смена уровней в том, что движение приобретало новые характеристики, в частности осуществлялось со все большей амплитудой.
Аналогичные факты известны теперь в большом количестве. Приведу еще один пример из наших собственных исследований, относящихся к движениям глаз [29].
Человеческие глаза, как известно, очень подвижны, и их движения очень разнообразны. Среди этих движений есть и такие, которые субъект не замечает; их нельзя заметить также, глядя в глаза другого человека со стороны; это — непроизвольные микродвижения глаз. Они происходят и тогда, когда человек, как ему кажется, неподвижно смотрит на точку, т. е. фиксирует ее взглядом. Для выявления этих движений приходится прибегать к очень тонким и точным методам регистрации.
С помощью таких методов давно было обнаружено, что при фиксации точки глаза совершают движения трех разных типов: тремор с очень большой частотой, дрейфы и скачки, которые обычно возвращают глаз, сместившийся в результате дрейфа, на фиксируемую точку. Каждый из этих типов движений имеет свои параметры: частоту, амплитуду, скорость и др.
Факт, который удалось установить нам, состоит в том, что при изменении задачи существенно меняются все параметры перечисленных движений глаз. Например, в одном случае испытуемому предлагалось «просто смотреть» на световую точку, в другом — «обнаруживать моменты, когда будет меняться ее цвет».
Заметьте, задача менялась, казалось бы, очень незначительно: во втором случае, как и в первом, испытуемый должен был фиксировать точку, чтобы не пропустить смену цвета. И, тем не менее, изменение цели (смысла) фиксации приводило к изменениям фиксационных движений: другим становился частотный спектр тремора, скорость дрейфов уменьшалась, скачки происходили реже и с меньшей амплитудой.
Подобные факты, как и общий вывод из них, замечательны тем, что показывают решающее влияние такой психологической категории, как задача, или цель, движения на организацию и протекание физиологических процессов.
Этот результат явился крупным научным вкладом Н. А. Бернштейна в физиологию движений.
Лекция 10
ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ И ФИЗИОЛОГИЯ АКТИВНОСТИ (продолжение)
ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО НАВЫКА. ПРИНЦИП АКТИВНОСТИ И ЕГО РАЗВИТИЕ Н. А. БЕРНШТЕЙНОМ: КОНКРЕТНО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ, ОБЩЕБИОЛОГИЧЕСКИЙ И ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТЫ
Переходим к следующей важной теме, совершенно по-новому раскрытой Н. А. Бернштейном, — механизмам формирования навыка. Эта проблема очень важна для психологии, так как формирование навыков составляет, как вы уже знаете, основу всякого обучения.
Процесс формирования навыка описан у Бернштейна очень подробно. Он выделил много частных фаз — порядка семи, которые объединяются в более общие периоды. Для первого знакомства достаточно будет разобрать эти периоды.
В первый период происходит первоначальное знакомство с движением и первоначальное овладение им. С чего начинается обучение движению, т. е. каковы «горячие точки» формирования навыка на первых порах?
Все начинается, конечно, с выявления его двигательного состава, т. е. того, что и как надо делать: какие элементы движения, в какой последовательности, в каких сочетаниях надо производить. Например, когда рука толкает ядро, то что в это время делает корпус?
Как происходит знакомство с двигательным составом действия? Конечно, путем рассказа, показа, разъяснения, наблюдения. В этот период идет ознакомление с тем, как движение выглядит снаружи. Часто, если его показывает опытный мастер, создается иллюзия необыкновенной простоты и легкости выполнения. Однако, как правило, новичка ждет разочарование: движение совершенно не получается.
Часто в такую «ловушку» видимой легкости движения попадают дети. Вам, наверное, приходилось наблюдать их наивные, неловкие попытки воспроизвести только что увиденный танец, спортивное движение или какое-нибудь орудийное действие.
В чем же причина подобных неудач? Причина в том, что, как только движение начинается, на субъекта обрушивается поток совершенно непривычных сенсорных сигналов о нем. Этот поток идет от всех частей тела, со всех рецепторных поверхностей, и человек не может в них разобраться. Таким образом, следующая фаза первого периода (она наиболее трудоемкая) уходит на бесконечные повторения с целью прояснения внутренней картины движения. Одновременно человек учится перешифровывать афферентные сигналы в эффекторные команды. Накопление «словаря перешифровок» — одно из самых важных событий этого периода. Большое количество повторений здесь необходимо потому, что перешифровки должны быть найдены в ответ на любые отклонения, на любые варианты движений. Как пишет Бернштейн, организм на этой фазе должен «наощущаться досыта», и каждая шишка или синяк — это болевой след от процесса накопления перешифровок.
Итак, если воспользоваться схемой рефлекторного кольца, то можно указать наиболее «горячие точки» первого периода. Ими будут события, происходящие в блоках: «программа», «задающий прибор» и «перешифровки», т. е. соответственно, прояснение внешнего двигательного состава, внутренней картины движения и отработка правильных коррекций.
Последнее чрезвычайно важное событие, которым кончается этот период, состоит из первоначальной росписи коррекций по нижележащим уровням. В этом процессе надо специально разобраться.
Напомню, что, обсуждая в лекции «Неосознаваемые процессы» формирование навыка, я подчеркивала, что первоначальная отработка всех элементов, составляющих навык, происходит на уровне сознания. Очень часто она строится на уровне D, поскольку этот уровень наиболее доступен осознанию.
Интересно, что к помощи уровня D интуитивно прибегают педагоги и тренеры, обучая движениям, которые относятся к нижележащим уровням. Приведу два примера.
При освоении прыжков на батуте очень важно с самого начала выработать правильную вертикальную стойку. Важная особенность этой стойки — максимальная вертикальная «растяжка» тела при взлете вверх с одновременным его раскрепощением. Последнее дается новичкам с трудом: они, как правило, «зажимают» корпус, напрягают плечи, наклоняют голову и т. п. Мне приходилось наблюдать, как опытный тренер подключал к отработке этою движения, по своему смыслу принадлежащего уровню В или даже А, уровень D через инструкцию: «Представьте себе, что из вашего затылка торчит шест и вы каждый раз, когда подлетаете вверх, стремитесь коснуться потолка его концом». Очевидно, что тем самым внимание ученика отвлекалось от позы тела на «предметную логику» положения и движения «шеста». Оказывалось, что, действуя в этой логике, обучающийся значительно легче достигал требуемой позы.
Другой пример относится к технике поворота на горных лыжах.
Одним из моментов, способствующих сохранению и даже увеличению скорости во время поворота, является довольно тонкое движение дополнительного «выталкивания» ступней ног вперед по ходу «выписывания» лыжами дуги. Уловить это движение помогает совет представить себя на качелях: раскачивание качелей достигается очень сходными движениями ног.
Подобные предметные образы помогают найти правильный внешний рисунок движения и отработать необходимые коррекции на уровне D. Однако по мере повторения начинают проясняться и осваиваться сигналы обратной связи на нижележащих уровнях. Как правило, они дают более тонкие и точные сведения о различных сторонах движения, недоступные вЕдению уровня D: вам уже известно, что уровень А хорошо «осведомлен» о тонусе и равновесии тела, уровень В — о положении частей тела и т. д.
Попробуем на схеме кольца изобразить этот процесс подключения нижележащих уровней.
К сожалению, Н. А. Бернштейн только вербально соединил основные части своей концепции — схему кольца управления и теорию уровней, указав, что совместно работающие уровни можно представить себе как иерархическую систему колец. Он, однако, не оставил соответствующей схемы.
Попробуем гипотетически восполнить этот пробел на свои страх и риск. На рис. 8 изображены два кольца: верхнее принадлежит ведущему уровню, а нижнее — одному из фоновых уровней. На самом деле система колец должна быть более сложной: содержать не два, а несколько этажей и в каждом уровне — не одно, а много колец.

Однако рассмотрим только два соподчиненных кольца, как представляющих отношения ведущего и любого из нижележащих уровней.
Кольцу ведущего уровня принадлежит общая программа движения, все остальные блоки дублируются в кольце фонового уровня. В частности, у него свой «рецептор», через который поступают сигналы об аспектах движения, адекватных данному уровню, и часто сигналы другой модальности, отличной от сигналов ведущего уровня. Эффектор же у обоих колец общий — это, условно говоря, мышца, на которую сходятся сигналы управления с разных уровней.Однако рассмотрим только два соподчиненных кольца, как представляющих отношения ведущего и любого из нижележащих уровней.
Теперь рассмотрим какой-нибудь простой пример процесса формирования навыка, в котором явно видно подключение нижележащего уровня.
Обычно вы входите в свою комнату и включаете свет, не глядя на руку. Это движение для вас слишком привычно, и вы о нем специально не заботитесь.
Однако раньше, только осваивая это движение, вы, конечно, зрительно контролировали его. Оно строилось у вас на уровне С как движение, учитывающее метрику внешнего пространства и нуждающееся в зрительном контроле. Если ваша рука двигалась не совсем точно по направлению к выключателю, зрительные сигналы о ее отклонении перешифровывались в сигналы коррекции.
Однако одновременно вы получали сигналы обратной связи от мышечных рецепторов проприоцептивной модальности. Вначале они не несли функциональной нагрузки. Однако постепенно, по мере повторения движения, происходило формирование мышечного чувства правильного движения. Это было прояснение «внутренней картины» движения, которое уже обсуждалось выше. На схеме оно означает формирование SW нижнего кольца, которое должно соответствовать SW кольца ведущего уровня. Теперь в нижнем кольце может начать функционировать прибор сличения и отрабатываться соответствующие перешифровки. Однако для этого в течение некоторого времени необходима полная задействованность ведущего уровня: он продолжает выполнять роль лесов для строящегося здания. В нашем примере это соответствует фазе, когда вы более уверенно и более точно протягиваете к выключателю руку, но все-таки вынуждены еще на нее посматривать.
Итак, события, которые завершают первый период, а именно прощупывание и роспись коррекций по фоновым уровням, на схеме изображаются подключением контуров управления нижележащих уровней.
Этот процесс непосредственно подходит ко второму периоду — автоматизации движения.
В течение этого периода происходит полная передача отдельных компонентов движения или всего движения целиком в ведение фоновых уровней. В результате ведущий уровень частично или полностью освобождается от заботы об этом движении.
Как образно пишет Н. А. Бернштейн, на этом этапе окрепшие фоновые уровни «отталкивают от себя руку ведущего уровня», как ребенок, научившийся плавать, отталкивает руку взрослого, до тех пор поддерживавшую его.
В этот же второй период происходят еще два важных процесса: во-первых, увязка деятельности всех низовых уровней, ведь, как уже говорилось, должна отдалиться сложная иерархическая система многих колец; во-вторых, «рекрутирование» готовых двигательных блоков.
Дело в том, что низовые уровни всякого организма, имеющего за плечами большую двигательную историю, не немы и не пусты. В них уже существуют функциональные системы (блоки), которые выработались по другим поводам. Если при освоении нового движения организм обнаруживает необходимость в определенного типа перешифровках, то он иногда ищет их в буквальном смысле, ищет и находит в своем готовом словаре. Этот словарь Н. А. Бернштейн называет «фонотекой», причем первую половину слова он предлагает понимать не как латинский корень, означающий «звук», а буквально как «фон». Каждый организм имеет свою «фонотеку», т. е. набор фонов, и от его объема зависят его двигательные возможности и даже способности.
Показательно, что рекрутируемый блок может быть извлечен из движения, которое совершенно не похоже на то движение, которое осваивается. Например, при обучении езде на двухколесном велосипеде, как показывает анализ, очень полезен оказывается навык бега на коньках, потому что в обоих типах движений имеются внутренне одинаковые элементы. Это перешифровки, обеспечивающие поддержание равновесия в условиях очень узкой опоры.
Именно рекрутированием готовых блоков объясняются те качественные скачки и «ага-реакции», которые иногда наблюдаются при овладении новым движением.
Наконец, последнее замечание, очень важное для характеристики этого периода. Вы уже знаете, что по мере автоматизации движения, последнее уходит из-под контроля сознания. Так вот субъект может и должен помочь этому процессу «ухода» из сознания. Если в течение первого периода человеку нужно максимально включаться в движение — вдумываться и вчувствоваться в него, пристально следить за каждым его элементом, то теперь следует делать прямо противоположное: перестать обращать внимание на движение. Используя метафору Н. А. Бернштейна, скажем так: необходимо помочь ребенку, который уже почти научился плавать, оттолкнуть руку взрослого.
С этой целью тренеры и педагоги используют целый ряд приемов. Например, предлагают ускорить темп движения или непрерывно повторять его много раз подряд. Но самый эффективный прием состоит в том, чтобы включить данное движение в более сложную двигательную задачу, т. е. сделать так, чтобы оно выступило уже не как самоцель, а как средство решения более общей задачи.
Наконец, в последний, третий, период происходит окончательная шлифовка навыка за счет стабилизации и стандартизации.
Что такое стабилизация? Это более или менее понятно: навык обретает такую прочность, что не разрушается ни при каких обстоятельствах. Если в период первоначальной автоматизации движение могло выполняться чисто, только находясь «под стеклянным колпаком», т. е. в стандартных условиях, то в этот период оно приобретает высокую помехоустойчивость. Например, футболист может играть при дожде на скользкой траве, теннисист — при ветре, слаломист может проходить трассу по ледяному склону или по буграм.
За счет чего приобретается такая помехоустойчивость? За счет того, что к этому моменту организм уже опробовал массу отклонений, которые вызывались внешними и внутренними помехами. Все они были отработаны, и теперь на каждый возможный случай у него имеется запас соответствующих коррекций.
Что касается стандартизации, то под ней имеется в виду приобретение навыков стереотипности. В этот период при многократном повторении движения получается серия абсолютно одинаковых копий, напоминающих, по образному выражению Н. А. Бернштейна, «гвардейцев в строю». Обеспечивает эту стереотипность помимо автоматизации еще один механизм, который тоже очень талантливо описал Бернштейн.
Он относится в основном к движениям темповым, высоко амплитудным, во время которых развиваются выраженные реактивные и инерционные силы.
Когда движение осуществляется с большой скоростью и большой амплитудой, то названные силы начинают существенно на него влиять. Влияние это может быть двояким: силы могут либо мешать движению, разрушать его, либо рационально использоваться и помогать ему. Так вот стереотипность навыков появляется благодаря тому, что организм научается эффективно использовать реактивные и инерционные силы. Достигается это за счет нахождения динамически устойчивой траектории. Динамически устойчивая траектория — это особая, уникальная линия, при движении по которой развиваются механические силы, способствующие продолжению движения в выбранном направлении. Благодаря им движение и приобретает легкость, непринужденность и стереотипность.
На этом мы заканчиваем обсуждение процесса формирования навыка.
В заключение я хочу остановиться на разработке Н. А. Бернштейном принципа активности. Все основные положения его концепции, как вы уже могли понять, взаимосвязаны. То же относится и к принципу активности: он является, по существу, обобщением и развитием основных представлений о механизмах организации движений. Соответственно к обобщенной формулировке этого принципа Н. А. Бернштейн пришел в последний период своей жизни.
Вы уже знаете, что суть принципа активности состоит в постулировании определяющей роли внутренней программы в актах жизнедеятельности организма. Принцип активности противопоставляется принципу реактивности, согласно которому тот или иной акт — движение, действие — определяется внешним стимулом.
Надо сказать, что принцип реактивности владел умами естествоиспытателей и философов материалистического направления в течение не одного века. Он был прочно связан с идеей детерминизма и имел прогрессивное значение. Он интенсивно разрабатывался в физиологии XIX и начала XX в., а также в психологии в эпоху бихевиоризма; следы его сохраняются и до сих пор.
Что касается принципа активности, то для материалистического естествознания он явился достаточно новым.
Рассмотрим, следуя за развитием идей Н. А. Бернштейна, несколько аспектов принципа активности: конкретно-физиологический, общебиологический и философский.
В конкретно-физиологическом плане принцип активности неразрывно связан с открытием принципа кольцевого управления движениями. Как только была осознана необходимость участия сигналов обратной связи в организации движений, прояснилась и решающая роль центральной программы: ведь сигналы обратной связи сличаются с сигналами, которые поступают из программы. Наличие программы — необходимое условие функционирования кольца; без программы и задающего устройства нет смысла в кольце управления, достаточно дуги. Но по механизму дуги, как мы теперь уже знаем, не может совершаться целесообразный акт.
Таким образом, принцип активности в конкретно-физиологическом выражении и механизм кольцевого управления движениями — это прочно связанные между собой теоретические постулаты.
Теперь на том же конкретно-физиологическом уровне обсудим некоторые трудные вопросы, которые ставят перед защитниками принципа активности его критики.
Один из них следующий: «А разве нет реактивных процессов — движений, построенных по типу реакции?»
Например, прозвенел звонок — я вошла в аудиторию; я вошла — вы встали; вы встали — я сказала: «Здравствуйте». Здесь наблюдается уже целая цепь реакций. А поскольку реакции как явления есть, надо корректно описать и их механизмы.
У Н. А. Бернштейна есть ответ на этот вопрос. Он предлагает расположить все движения, которые имеются у животного или человека, в ряд на некоторой воображаемой оси по степени определяемости его внешним стимулом. Тогда на одном конце этого ряда окажутся безусловные рефлексы типа чихательного, мигательного, коленного (они запрограммированы морфологически), а также сформированные при жизни условные рефлексы типа выделения слюны у собаки на звонок. Эти движения, или акты, действительно запускаются стимулом и определяются его содержанием.
Следующими в этом ряду окажутся движения, которые тоже включаются внешним стимулом, но уже не так жестко связаны с ним по содержанию. Например, когда я вошла, то вы встали не все — здесь уже нет ни безусловно ни условно-рефлекторного акта. Или, например, получив удар, человек может отреагировать различным образом: тоже ударить в ответ или «подставить другую щеку».
Итак, возможны вариации ответных движений; нет их жесткой запрограммированности, жесткой связанности со стимулом. Это акты, в которых стимул приводит не к движению, не к действию, а скорее к принятию решения о действии. В этих случаях он выполняет роль спускового крючка. Он «включает» одну из возможных альтернативных программ. Такого типа акты занимают промежуточное положение в нашем воображаемом ряду.
И наконец, на другом крайнем полюсе оказываются акты, для которых, как пишет Бернштейн, и инициатива начала и содержание, т. е. программа, задаются изнутри организма. Это так называемые произвольные акты.
Таким образом, на вопрос: «Как же быть с реакциями, существуют ли они?» — ответ однозначен: «Да, конечно, существуют, но они представляют собой частный, «вырожденный» случай активности», подобно тому как покой есть вырожденный случай движения — движения с нулевой скоростью. Безусловно-рефлекторные реакции — это акты с нулевой степенью активности, и они составляют очень небольшую часть всех актов жизнедеятельности. Многие жизненно важные действия относятся к промежуточному и крайне правому положению на только что описанной оси.
Теперь второй, более тонкий вопрос. Когда функционирует «кольцо», то блок сличения принимает два потока сигналов: от внешней среды и от программы. И эти два потока занимают как бы симметричное положение. Почему нужно отдавать предпочтение программным сигналам и считать, что определяют движение именно они, а не сигналы от внешней среды, которые действуют по реактивному принципу?
Вопрос этот звучит справедливо, если смотреть на процесс с точки зрения статической картины. А вот если обратиться к временной развертке процесса, то положение окажется не таким уж симметричным. Командные сигналы из блока программы опережают сигналы обратной связи. Они идут, так сказать, на полкорпуса впереди.
Как это можно показать? Воспользуюсь примером из Бернштейна. Я начну диктовать вам хорошо известное стихотворение: «Как ныне сбирается вещий…» — и специально задерживаюсь, чтобы вы почувствовали внутреннее звучание следующего слова — «Олег». Когда же вы декламируете текст стихотворения непрерывно, то можете заметить, что его текущая программа идет обычно на 2-3 слова впереди. Вы как бы слышите опережающий (планирующий) текст.
Вы можете заметить мне, что наличие опережающей программы — факт достаточно эфемерный: он основан на самонаблюдении, и никаких более осязаемых материальных доказательств его нет. Однако это не совсем так.
Например, когда человек читает вслух текст, можно одновременно записать его голос и положение его глаз. И вот оказывается, что существует достаточно заметное рассогласование между тем словом, на которое он сейчас смотрит, и тем словом, которое он произносит. Например, он произносит «вещий Олег», а глаза у него — уже на словах «неразумным хазарам», а может быть, и еще дальше. Это рассогласование называется глазо-голосовым объемом, оно отражает объем материала, который находится между программируемым и отрабатываемым текстом.
Или возьмем другой пример: описки и оговорки. С именем 3. Фрейда связан только один их вид — тот, который определяется скрытыми мотивами и намерениями. Но они могут возникать и по другой причине, а именно из-за преждевременного вторжения сигналов программы. Обычно этому способствуют утомление, волнение или спешка.
Приведу примеры. При подготовке данной лекции, когда я делала письменные заметки, судьба преподнесла мне несколько подобных описок. Приведу их, снабдив соответствующими исправлениями (рис. 9).
|
Итак, существуют доказательства (субъективные и объективные) того, что сигналы, исходящие из программы (т. е. «активные») и поступающие из внешней среды (т. с. «реактивные»), функционально несимметричны в том смысле, что первые опережают вторые.
Представьте себе: тишина — и вдруг резкий звонок будильника, это стимул-толчок. И вот применительно только к таким случаям можно рисовать стрелку, идущую от стимула на орган чувств. Обычно же бывает совершенно иначе.
Во-первых, обычно субъект или организм погружен в целое море внешних воздействий, которые без конца «бомбардируют» его; во-вторых, он выбирает стимулы, а не они его.
В связи с этим расскажу одну историю.
Однажды в частной беседе несколько психологов обсуждали противопоставление принципов активности и реактивности, разгорелась дискуссия. «А все-таки принцип реактивности очень хорош, — сказал один из коллег, — он прозрачен, ясен, правильно описывает события. Вот, например, лежит на столе ручка — я ее беру. Что произошло? Ручка подействовала на мои глаза, последовало мое движение, я ее взял».
Пример действительно прост и ясен, но он может быть обращен как раз против принципа реактивности. И вот каким образом.
Во-первых, спросим себя, почему участник дискуссии взял ручку? Потому, что ему нужно было привести пример реактивного акта. Значит, у него была задача — объяснить преимущества принципа реактивности. В связи с ней он искал подходящий стимул и нашел его. Не ручка его стимулировала, а он нашел ручку. Его задача (программа) была на уровне Е, это была смысловая задача. Она могла быть решена многими разными способами. То, что он проиллюстрировал свою мысль с помощью взятия ручки, означало приспособление к внешней среде второстепенных, технических компонентов действия. Но, еще раз повторю, инициатива этого акта, этого выбора шла изнутри. И еще следует отметить, что в течение всего предшествующего разговора ручка лежала на столе, но никакой двигательной реакции не вызывала. Она приобрела значение реально действующего стимула только благодаря задаче, которая была только что обсуждена.
Итак, нередко процесс идет от задающего прибора на рецептор (это можно было бы изобразить на схеме кольца соответствующей стрелкой). В результате из внешней среды выбирается стимул, который используется для организации движения. Таким образом, программой определяются не только командные эффекторные команды, но и действующие стимулы.
Вот так выбивается почва из-под реактологического способа мышления. Выясняется, что в наиболее типичных случаях жизнедеятельности программа решает все: не только то, что надо делать, но и то, на что «реагировать».
На этом я заканчиваю обсуждение конкретно-физиологического плана принципа активности и перехожу к общебиологическому плану.
Н. А. Бернштейн задает вопрос: нет ли на общебиологическом уровне свидетельств существования принципа активности? И отвечает на него положительно.
Действительно, процессы развития организма из зародышевой клетки могут быть осмыслены как процессы реализации генетической программы. Это в точности отвечает принципу активности. То же происходит с процессами регенерации утраченных органов или тканей.
Что же касается влияния внешней среды, которое, конечно, имеет место в этих процессах, то оно происходит по несущественным параметрам. Например, согласно генетической программе на дубе вырастает лист определенной формы, и под влиянием внешней среды он никогда не превратится в лист березы. Если он вырос в неблагоприятных условиях, то может оказаться мелким или содержать меньше зерен хлорофилла, но во всех случаях останется листом дуба. Таким образом, влияние внешней среды, т. е. реактивные процессы, имеют место, но они определяют вариацию несущественных признаков.
Другой пример, который относится уже к более высокому уровню жизнедеятельности. Что представляют собой инстинктивные формы поведения животных? Как показали исследования, они есть не что иное, как реализация поведенческих программ, заложенных в организме. Эти программы довольно жестки и в своих существенных чертах не изменяются под влиянием внешней среды.
Вот так, переходя от одного типа программ к другому, мы можем выстроить ряд внутренних программ, качественно отличающихся друг от друга и в то же время имеющих общие черты. Ряд этот начинается с генетического кода и кончается сознательными целями.
Общие черты таких программ следующие: каждая из них является моделью потребного будущего и детерминирует соответствующий процесс жизнедеятельности в его существенных чертах.
Как же с точки зрения принципа активности следует подойти к пониманию процесса жизнедеятельности организма в целом? В частности, правомерно ли утверждение, что жизнедеятельность есть процесс непрерывного приспособления к среде?
На этот вопрос следует ответить отрицательно. Главное, что составляет содержание процесса жизни. — это не приспособление к среде, а реализация внутренних программ. В ходе такой реализации организм неизбежно преодолевает среду. Приспособление тоже происходит, но это событие, так сказать, второго порядка значимости.
Приведу соответствующие слова Бернштейна, которые можно считать формулировкой принципа активности на общебиологическом уровне: «Процесс жизни есть не «уравновешивание с окружающей средой», как понимали мыслители периода классического механицизма, а преодолевание этой среды, направленное не на сохранение статуса или гомеостаза, а на движение в направлении родовой программы развития и самообеспечения» [15, с. 313-314].
Возникает серьезный вопрос: а не означает ли утверждение принципа активности уступку идеализму и телеологизму?
В самом деле, рефлекторная дуга представляет собой наиболее явную демонстрацию материалистического принципа детерминизма: материальная причина — материальный процесс — материальная реакция. И внедрение схемы рефлекторной дуги означало в свое время крупную победу материалистического мировоззрения в области естествознания, в частности в физиологии высшей нервной деятельности.
Теперь же, в соответствии с принципом активности, утверждается как будто, что нечто идеальное, например сознательная цель, вызывает материальный процесс (например, движение) и даже определяет физиологические структуры, которые его обеспечивают. Больше того, цель — это ведь то, что должно еще стать, она принадлежит будущему; как же будущее может определять и направлять ход процесса в настоящем? Думать так — значит впадать в телеологизм.
Н. А. Бернштейн убедительно отвечает на подобную критику. Дело в том, что любая внутренняя программа имеет в своей основе материальный код. Даже сознательная цель представлена в виде закодированных особым образом мозговых структур и процессов в них. Эти структуры и процессы — вполне материальные сущности. Поэтому материальные события определяются не идеальным началом и не тем, что появится только в будущем, а материальным началом, которое существует сейчас. Другое дело, что пока неизвестны материальные коды многих программ. Но непознанное не есть непознаваемое. Может быть, со временем и сознательные цели человека получат свою материальную расшифровку.
Таким образом, принцип активности не противоречит основным положениям и духу материалистической философии.
В заключение скажу о значении идей Н. А. Бернштейна для психологии. Оно велико и многопланово. Несмотря на общую физиологическую ориентацию, Н. А. Бернштейн внес большой вклад в несколько разделов психологии. Он обогатил представление о функциях рецепции, выделив особую функцию — контрольно-коррекционную (функция чувствительных сигналов обратной связи).
Он произвел, конечно, революцию в области психофизиологии движений: сегодня ни одно исследование движений человека невозможно без глубокого знания и учета всего того, что было сделано Бернштейном в этой области. Особенно важна для психологии его идея о решающей роли задачи в организации движений.
Трудно переоценить вклад Н. А. Бернштейна в проблему формирования навыка: он по-новому рассмотрел ее физиологические, психологические и педагогические аспекты.
Теория уровней Н. А. Бернштейна по своему значению выходит за рамки проблемы организации движений. Существуют многочисленные попытки применить положения этой теории к процессам восприятия, внимания, мышления и т. п.
Наконец, благодаря работам Н. А. Бернштейна психология получила доказательство справедливости принципа активности «снизу», т. е. со стороны физиологии.
Лекция 11
ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ В ФИЛОГЕНЕЗЕ
ОБЪЕКТИВНЫЙ КРИТЕРИЙ ПСИХИКИ. ГИПОТЕЗА А. Н. ЛЕОНТЬЕВА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА. АДАПТИВНАЯ РОЛЬ ПСИХИКИ В ЭВОЛЮЦИИ ЖИВОТНЫХ. РАЗВИТИЕ ПСИХИКИ В ФИЛОГЕНЕЗЕ: СТАДИИ И УРОВНИ. ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИКИ ЖИВОТНЫХ: ИНСТИНКТЫ, ИХ МЕХАНИЗМЫ;
СООТНОШЕНИЕ ИНСТИНКТА И НАУЧЕНИЯ;
ЯЗЫК И ОБЩЕНИЕ;
ОРУДИЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Эволюционно-биологическими аспектами психики занимается зоопсихология. Однако многие из изучаемых ею вопросов связаны с фундаментальными методологическими проблемами общей психологии.
В самом деле, для того чтобы понять природу психики вообще или специфику психики человека, необходимо дать ответы на такие вопросы, как, например: когда и почему в ходе биологической эволюции возникла психика? — или: как развивалась и усложнялась психика?
Углубление в филогенетическую историю психики неизбежно подводит к вопросу о ее объективном критерии.
Очевидно, что, обсуждая психику животных, нельзя пользоваться субъективным критерием: мы не знаем и, наверное, никогда не узнаем, что чувствует (переживает, ощущает) дождевой червь или муравей. Тем более немыслимо ставить такой вопрос в отношении каких-то существ, которые жили в далеком биологическом прошлом. Единственный путь здесь — найти объективный критерий психики, т. е. такой внешне наблюдаемый и регистрируемый признак, который позволяет утверждать, что у данного организма есть психика.
Таким образом, вновь приходится обращаться к проблеме объективного метода в психологии, о котором так много говорилось в первом разделе.
Понятно, что если будут найдены такие свойства внешнего поведения животного, которые связаны с психикой и именно с ней, то можно будет приблизительно сказать, где находится граница, которая разделяет непсихические (до-психические) и психические формы существования материи.
В истории естествознания существовали различные попытки «локализовать» психику в природе. Среди них можно назвать теорию «панпсихизма», согласно которой душой наделена вся природа, в том числе и неживая (например, камни). Теория «биопсихизма» приписывала психику всему живому, включая растения. Напротив, сильно сужала круг обладателей психики теория «антропопсихизма»: согласно ей психика существует только у человека, а животные, как и растения, только «живые автоматы». Концепция «нейропсихизма» относила психику только к существам, обладающим нервной системой.
Во всех этих представлениях критерии психического были внешними по отношению к форме существования организма (предмета). Психика приписывалась какому-либо существу не потому, что оно обнаруживало определенные свойства поведения, а просто потому, что оно принадлежало к определенному классу объектов; наличие же психики у данного класса постулировалось аксиоматически.
Другую группу теорий составляют те, которые исходят из внутренних, функциональных, критериев. Это более современные теории, и все они не опускаются в поисках психики ниже животного мира. Однако критерии, которые они выдвигают, приводят и здесь к разной локализации «порога» психического. Вот некоторые из них: способность к поисковому поведению, способность к «гибкому» (в отличие от жестко запрограммированного) приспособлению к среде, т. е. к индивидуальному обучению, способность к «проигрыванию» действия во внутреннем плане и др.
Нет необходимости сейчас разбирать все эти точки зрения, их сходства и различия. Замечу, что само их разнообразие говорит о том, что мы имеем дело здесь скорее с дискуссионными гипотезами, чем с хорошо разработанными теориями.
Однако среди таких гипотез есть одна, которая получила наибольшее развитие и признание. Она принадлежит А. И. Леонтьеву. Рассмотрим ее несколько более подробно. В качестве объективного критерия психики А. Н. Леонтьев [56] предлагает рассматривать способность живых организмов реагировать на биологически нейтральные воздействия. Биологически нейтральные (другой термин «абиотические») воздействия — это те виды энергии или свойства предметов, которые не участвуют непосредственно в обмене веществ. Сами по себе эти воздействия не полезны и не вредны; ими животное не питается, они не разрушают его организм.
Почему же оказывается полезным их отражать, или на них реагировать? Потому что они находятся в объективно устойчивой связи с биологически значимыми объектами и, следовательно, являются их потенциальными сигналами. Если живой организм приобретает способность как отражать биологически нейтральные свойства, так и устанавливать их связь с биологически существенными свойствами, то возможности его выживания оказываются несравненно более широкими.
Рассмотрим пример. Звуком не питается ни одно животное, равно как от звука обычной интенсивности животные не погибают. Но звуки в природе — важнейшие сигналы живой пищи или приближающейся опасности. Услышать их — значит иметь возможность пойти на сближение с пищей или избежать смертельного нападения.
Отражение биологически нейтральных свойств оказывается неразрывно связанным с качественно иной формой активности живых существ — поведением. До того процессы жизнедеятельности сводились к усвоению питательных веществ, выделению, росту, размножению и т. п. Теперь появляется как бы вставленная активность. Она «вставлена» между актуальной ситуацией и биологическим витальным актом — обменом веществ. Смысл этой активности состоит в том, чтобы обеспечить биологический результат там, где условия не позволяют реализоваться ему непосредственно, сразу.
Представьте себе на минуту, что такой активностью обладали бы растения. Тогда они должны были бы, например, разбегаться при приближающихся звуках шагов или едущей машины или перебираться к реке в засушливую погоду, а затем возвращаться на места с более плодородной почвой. Поскольку растения не «ведут» себя таким образом, мы говорим, что у них нет психики. Напротив, практически все животные обнаруживают сигнальное поведение, и на основании этого мы считаем, что у них есть психика*.
_________________
* Обсуждаемым критерием психического (отражение биологически нейтральных воздействий, сигнальное поведение) обладают уже простейшие одноклеточные организмы, например инфузории [56].
Теперь нужно ввести два фундаментальных понятия, которые связаны с предложенным критерием: это понятия «раздражимость» и «чувствительность».
Раздражимость — это способность живых организмов реагировать на биологически значимые воздействия. Корни растения раздражимы по отношению к питательным веществам, которые содержатся в почве: при соприкосновении с раствором этих веществ они начинают их всасывать.
Чувствительность — это способность организмов отражать воздействия, биологически нейтральные, но объективно связанные с биотическими свойствами.
Когда речь идет о чувствительности, «отражение», согласно гипотезе А. Н. Леонтьева, имеет два аспекта: объективный и субъективный. В объективном смысле «отражать» — значит реагировать, прежде всего двигательно, на данный агент. Субъективный аспект выражается во внутреннем переживании, ощущении, данного агента. Раздражимость же субъективного аспекта не имеет.
Предположение о том, что субъективная форма отражения впервые появляется вместе с реакциями на абиотические раздражители, является очень важной научной гипотезой. Ввиду этого сам автор счел необходимым организовать ее экспериментальную проверку.
Хотя гипотеза Леонтьева относится к происхождению ощущения у животных, проверку ее он мог организовать только на человеке, используя его способность давать отчет о своем субъективном опыте.
В одной из основных серий опытов у взрослых испытуемых вырабатывалась условная двигательная реакция на неощущаемый раздражитель. Главный вопрос состоял в следующем: появится ли вместе с реакцией на нейтральный раздражитель его ощущение?
Приведу некоторые подробности методики.
Испытуемый помещал палец правой руки на электрический ключ, через который он мог получать достаточно ощутимый удар током. Перед каждым ударом ладонная поверхность руки засвечивалась зеленым светом в течение 45 с; когда свет выключался, сразу давался ток. Испытуемому говорили, что перед ударом тока его ладонь будет подвергаться очень слабому воздействию; если он научится улавливать это воздействие, то сможет снимать палец с ключа до подачи тока. Чтобы испытуемый при этом не снимал руку без всякого повода, ему сообщали, что за каждую «ложную тревогу» он будет в следующей пробе наказываться током. Таким образом, принимались все меры к тому, чтобы побудить испытуемого активно «вчувствоваться» в слабые оптические воздействия, подаваемые на ладонь.
Главный объективный результат опытов состоял в том, что испытуемые научились заранее снимать руку с ключа в ответ на засвет ладони. Главное субъективное событие при этом заключалось в появлении неясных, недифференцированных, но все-таки достаточно заметных ощущений в ладони. По отчетам испытуемых, эти ощущения и были основанием для снятия руки с ключа*.
____________________
* Конечно, в опытах принимались все меры к тому, чтобы испытуемые не могли связать удар током ни с какими другими ощущаемыми воздействиями — зрительными, слуховыми, тепловыми и т. п.
В дополнительных сериях того же исследования были установлены по крайней мере еще два важных факта.
Во-первых, оказалось, что если испытуемый не предупреждался о предваряющих засветах и не пытался их «уловить», то не возникало ни объективного, ни субъективного результата: у него не вырабатывалась условная двигательная реакция (снятие руки с ключа) на засветы руки и не возникало ощущение этих воздействий. Иными словами, было доказано, что неизменным условием превращения неощущаемых воздействий в ощущаемые является состояние активного поиска организма (или субъекта).
Во-вторых, выяснилось, что описанные кожные ощущения возникали не вслед за выработкой условной двигательной реакции, а, наоборот, до нее; они являлись непременным условием такой выработки. Иными словами, ощущением засвета всегда опосредствовалось снятие руки.
Этот результат А. Н. Леонтьев связывает с одним из фундаментальных методологических положений марксистской психологии о том, что ощущение как элементарная форма психического — это не эпифеномен, т. е. не явление, которое надстраивается над условно-рефлекторными процессами и не имеет никакой функции. Наоборот, оно составляет необходимое звено условного приспособительного акта. Функция этого «звена» — ориентировать организм относительно значимых условий среды, опосредстовать его витальные приспособительные акты.
Перейду к вопросу об адаптивном значении психики.
Все сказанное выше подготовило ответ на вопрос, почему в ходе биологической эволюции возникла психика? Материалистическое естествознание отвечает на него так: потому что психика обеспечивает более эффективное приспособление к среде.
По существу, такой ответ означает, что возникновение и развитие психики в животном мире подчинялось действию общего закона эволюции, согласно которому закреплялось то, что было биологически полезно.
Развивая это представление, советский ученый А. Н. Северцов обратил внимание на два принципиально различных способа приспособления живых организмов к изменениям среды (1) путем изменения строения и функционирования органов и (2) путем изменения поведения без изменения организации [99, с. 297].
Первый способ был общим у растений и животных; второй имел место только у животных и был связан с развитием психики. Внутри второго (поведенческого или психического) способа приспособления А. Н. Северцов выделил, в свою очередь, два различных направления.
Одно из них состояло в медленных изменениях наследуемых форм поведения — инстинктов. Эволюция инстинктов происходила под влиянием медленно протекающих изменений внешней среды. Ее темпы совпадали с темпами изменения морфологической организации животных.
Другое направление состояло в развитии способности к индивидуальному научению, или, по терминологии А. Н. Северцова, способности к «разумным действиям».
«Разумные действия», по Северцову, — это быстрые изменения поведения, своего рода «изобретения» новых способов поведения в ответ на быстрые изменения среды, перед лицом которых инстинкт оказывается беспомощным. Эти действия не должны были фиксироваться, передаваться по наследству, ибо их преимуществом была их высокая пластичность. Поэтому по наследству передавалась лишь способность к ним. Последняя, по мысли Северцова, и определяет высоту психической организации животного.
Ниже я специально остановлюсь на современном состоянии проблемы инстинкта и научения. Многое теперь понимается иначе, чем во времена А. Н. Северцова. Однако его идея о двух различных механизмах развития поведения (путем изменения инстинкта и путем приобретения индивидуального опыта), равно как и самая общая оценка психики как важнейшего фактора эволюции, остаются важными и бесспорными теоретическими положениями.
Итак, еще раз: психика возникла потому, что она оказалась, «могучим средством приспособления животных к окружающей среде» [99, с. 298].
Значительно труднее ответить на вопрос: как возникла психика? И здесь мы снова попадаем в область только гипотез.
Согласно предположению А. Н. Леонтьева, толчком к появлению психического отражения (чувствительности) мог послужить переход от жизни в однородной, гомогенной среде к среде дискретных, вешно-оформленных объектов. Вот как он описывает главные события этого процесса.
Вполне вероятно, что простейшие живые организмы существовали в гомогенном растворе питательных веществ, с которыми они были в непосредственном контакте. Для усвоения этих веществ им достаточно было простой раздражимости.
Если биотических свойств, к которым были раздражимы организмы, было несколько, то витальная реакция на одно из них могла подготавливать (обусловливать) реакцию на другое. Иными словами, уже на стадии раздражимости какие-то свойства могли приобретать двоякую функцию: непосредственного участия в обмене веществ и сигнализации о другом жизненно важном воздействии.
Следующий шаг мог состоять в том, что из-за изменений среды некоторые воздействия перестали быть витально значимыми сами по себе. Однако организм продолжал на них реагировать как на сигналы биотических воздействий. Это и означало появление чувствительности.
Таким образом, чувствительность, вероятно, появилась на базе раздражимости. Вместе с тем она означала качественно новый тип отражения. Дело не только в появлении ее субъективного компонента: вместе с ней впервые появилась способность организма отражать объективные связи между свойствами среды.
Естественно, что появиться и получить дальнейшее развитие этот тип отражения мог лишь в условиях, где существовала устойчивая связь между объектами или их отдельными свойствами. Такую устойчивую связь и обеспечивала вещно-оформленная среда.
Теперь обратимся к крупному и очень сложному вопросу о процессе развития психики.
Здесь так же, как и в вопросе о происхождении психики, нет прямых свидетельств, поэтому мы вынуждены строить гипотезы, опираясь на общие соображения и доступный фактический материал.
Таким материалом могут служить, с одной стороны, данные палеонтологии. Однако они настолько скудны и отрывочны, что не позволяют восстановить эволюцию даже морфологических форм, не говоря уже об эволюции психики животных. С другой стороны, имеются данные сравнительной зоопсихологии. Они неизмеримо более ценны, поскольку реально наблюдаемы. Однако нужно помнить, что их значение для восстановления филогенеза психики ограничено.
Дело в том, что ни одно ныне живущее животное, даже самой примитивной организации, не может рассматриваться как прародитель более высокоорганизованных животных. Современная инфузория — такой же продукт длительной эволюции, как и современное высшее млекопитающее. Поэтому, «выстраивая» современных животных в некоторую последовательность на основе признаков усложнения психики и поведения, нельзя получить реального филогенетического ряда. Несмотря на это, главные тенденции развития психики этим методом могут быть выявлены.
В качестве таких основных тенденций отмечаются следующие:
усложнение форм поведения (форм двигательной активности);
совершенствование способности к индивидуальному научению;
усложнение форм психического отражения (одновременно как следствие и как фактор предыдущих тенденций).
Прежде чем перейти к краткой характеристике отдельных стадий эволюционного развития психики, остановимся на двух важных общих положениях.
Первое положение: как показал А. Н. Леонтьев, каждая новая ступень психического развития начинается с усложнения деятельности, практически связывающей животное с окружающим его миром. Новая же форма психического отражения возникает вслед за этим усложнением деятельности и, в свою очередь, делает возможным ее дальнейшее развитие.
Так, по мнению А. Н. Леонтьева, в период зарождения психики деятельность животных начала складываться в вещно-оформленной среде и должна была подчиняться объективным связям между различными свойствами вещей. Однако предметом отражения были не эти связи, а лишь отдельные, изолированные свойства (форма элементарных ощущений). На следующей ступени деятельность животных определялась уже отношениями между предметами, т. е. целыми ситуациями, обеспечивалась же она отражением отдельных предметов.
Итак, первое положение заключается в утверждении примата деятельности в развитии психического отражения.
Второе общее положение: имеет место несовпадение линий биологического и психического развития животных. Например, животное, стоящее на более высокой ступени биологического развития (согласно зоологической систематике), не обязательно обладает и более развитой психикой.
К. Э. Фабри объясняет это несовпадение в первую очередь неоднозначным соотношением между морфологией животных (на которой основана их зоологическая систематика) и образом их жизни. Пластичная приспособляемость поведения может привести к решению одной и той же биологической задачи за счет использования разных морфологических средств, и, наоборот, одни и те же морфологические органы могут выполнять весьма различные функции [118, с. 174]. Таким образом, уровень психического развития животного определяется сложным соотношением таких факторов, как его морфология, условия жизни (экология) и его поведенческая активность. Остановимся кратко на периодизации эволюционного развития психики. Наша цель будет состоять не столько в характеристике отдельных стадий (это сделано в работе А. Н. Леонтьева [56] и особенно подробно, на новом материале, в книге К. Э. Фабри [118]), сколько в иллюстрации основных принципов периодизации, а также общих положений относительно направлений и факторов развития психики.
А. Н. Леонтьев выделяет в эволюционном развитии психики три стадии: (1) стадию элементарной сенсорной психики, (2) стадию перцептивной психики, (3) стадию интеллекта.
К. Э. Фабри сохраняет лишь первые две стадии, растворяя стадию интеллекта в стадии перцептивной психики по причине трудности разделения «интеллектуальных» и «неинтеллектуальных» форм поведения высших млекопитающих. Затем К. Э. Фабри вводит разделение каждой стадии по крайней мере на два уровня: высший и низший, допуская возможность существования также и промежуточных уровней.
Как уже говорилось, животные на стадии элементарной сенсорной психики способны отражать лишь отдельные свойства внешних воздействий.
Большой интерес представляют существа, которые находятся на низшем уровне этой стадии, т. е. обладают лишь зачатками психики. К таким животным относятся многие простейшие. Вот краткий «портрет» их поведения, как его можно резюмировать по описанию К. Э. Фабри [118].
Простейшие способны к достаточно сложным перемещениям в пространстве: в толще воды, по поверхности находящихся в воде предметов или по дну водоемов. Некоторые виды обитают в почве или паразитируют в организмах других животных. Их движения совершаются в сторону благоприятных условий среды (положительные таксисы) или же в сторону от неблагоприятных условий (отрицательные таксисы). Такие реакции наблюдаются в отношении многообразных компонентов среды; соответственно у них описаны термо-, хемо-, гальвано-, гео-, фото-, тигмо-таксисы.
Пример отрицательного термотаксиса — уход простейших из зоны повышенной (иногда пониженной) температуры. Очень интересно описание поведения туфельки при столкновении с твердой преградой. Если столкновение происходит под углом, меньшим 90°, то животное останавливается, ощупывает поверхность ресничками, отплывает назад, меняет угол и плывет снова вперед. Если снова происходит столкновение, то процедура повторяется, и так до тех пор, пока инфузория не минует преграду.
При встрече с мягкой поверхностью инфузория не отплывает, а, наоборот, прикладывается к ней возможно большей поверхностью тела.
У тех же простейших обнаружены элементарные формы индивидуального научения. Оно проявляется в основном в эффектах привыкания. Так, парамеции, заключенные в квадратный (или треугольный) сосуд и привыкшие плавать вдоль его стенок, сохраняют некоторое время квадратную (соответственно треугольную) форму траектории, будучи перемещены в круглый сосуд (опыты Ф. Бромштедта).
Некоторые данные заставляют предположить, что простейшие способны также к ассоциативному научению, т. е. к выработке условных реакций. В ряде опытов освещение (или затемнение) части сосуда, в котором находились туфельки, сочеталось с «наказанием» (повышенная температура, электрический ток). В результате животные, ранее безразличные к характеру освещения, начинали предпочитать безопасную часть сосуда даже в отсутствие отрицательных подкреплений, ориентируясь только на ее освещение.
Таким образом, поведение простейших иллюстрирует ряд рассмотренных выше общих положений.
Мы видим, во-первых, что простейшие реагируют на абиотические воздействия среды, и притом на отдельные ее свойства (признаки психики вообще и ее элементарной сенсорной формы в частности).
Во-вторых, отчетливо выступает приспособительная функция психики: здесь она выражается в ориентировании поведения (положительные и отрицательные таксисы), а также, хотя и в самых элементарных формах, в изменении поведения в результате индивидуального опыта.
Далее, у некоторых простейших можно наблюдать преемственную связь между раздражимостью и чувствительностью (см. приведенное выше предположение А. Н. Леонтьева). Так, эвглена зеленая, будучи хищным животным, в отсутствие животной пищи ведет себя как растение — питается с помощью хлорофилла. Таким образом, свет для нее выступает и как биотический раздражитель.
Наконец, как показали специальные исследования, высшие представители простейших превосходят по сложности своего поведения некоторых примитивных многоклеточных животных, подтверждая положение об отсутствии соответствия между уровнями биологического и психического развития.
Чтобы представить себе, насколько сложным может оказаться поведение на стадии элементарной сенсорной психики, перечислим наиболее удивительные способности представителей уже высшего уровня этой стадии [118, с. 190-206].
К таким представителям относятся, в частности, кольчатые черви. Морские кольчатые черви-полихеты строят домики-трубки из частиц, которые они собирают на дне. Если в такой домик заползает чужак, хозяин вступает с ним в бой.
При образовании брачных пар самцы полижет становятся агрессивными по отношению к другим самцам (но не самкам).
У виноградной улитки наблюдаются «брачные игры», которые могут длиться несколько часов до фактического спаривания.
Многощетинковые черви и даже полипы научаются после нескольких проб дифференцировать по побочным физическим признакам кусочки настоящей пиши и «подделки» в виде комков бумаги, смоченных соком жертвы.
Перейдем к стадии перцептивной психики.
Представители этой стации отражают внешнюю действительность в форме не отдельных ощущений, а целостных образов вещей.
На данной стадии находятся наиболее знакомые нам животные, прежде всего позвоночные, начиная с рыб и кончая млекопитающими, в том числе приматами; к ней же принадлежат практически все членистоногие, в том числе насекомые, а также головоногие моллюски [118].
Понятно, что на этой стадии мы встречаемся с труднообозримым разнообразием форм и проявлений психики, а также градаций ее сложности.
Пожалуй, самое общее, что объединяет это разнообразие, заключается в чрезвычайном разрастании и усложнении «промежуточных» или «предваряющих», форм поведения на пути к конечным биологическим целям. Если на самом раннем этапе психика проявлялась в реакциях приближения — ухода, то теперь такие «реакции» превращаются часто в развернутую многозвенную цепь действий. Благодаря этим действиям конечные акты питания, самосохранения, размножения как бы отодвигаются во времени и в пространстве и одновременно эффективно обеспечиваются. Достаточно вспомнить многие совершенные способы добывания пищи, защиты от нападения, строительства жилищ, не говоря уже о сложном ориентировочно-исследовательском поведении высших животных.
Более сложное строение деятельности у представителей перцептивной психики А. Н. Леонтьев выражает через идею выделения операций.
Операции — это относительно самостоятельные акты, содержание которых отвечает не самому предмету потребности, а условиям, в которых он находится [56, с. 231]. Выделение операций возможно только при отражении целостных предметов и ситуаций и, в свою очередь, стимулирует развитие такого отражения.
Следуя этой мысли А. Н. Леонтьева, можно сказать, что для дождевого червя (представителя сенсорной психики), который освоил в лабиринте путь к пище, образ пищи (предмет потребности) и путь к ней (условия) еще слиты в единый нерасчлененный образ — комплекс свойств. В ходе обучения он своими движениями прилаживается к траектории пути, но не отражает ее как таковую; при изменении пути он снова должен пройти период обучения (переучивания) новой траектории.
В отличие от этого собака способна воспринять как независимые предметы пищу и преграду на пути к ней. В своих действиях она сообразуется со свойствами этой преграды — ее формой, протяженностью, высотой, и если преграда окажется другой, то животное с места изменит способ ее преодоления.
Таким образом, можно сказать, что в деятельности собаки способ, с помощью которого она достигает цели, вычленился из ее общего движения к цели и приобрел относительную самостоятельность. Этот способ (т. е. операция) обеспечивается отражением отдельно пищи и отдельно преграды как целостных предметов.
Мы не будем специально останавливаться на характеристике различных уровней стадии перцептивной психики.
Вместо этого воспользуемся богатейшим материалом стадии перцептивной психики для рассмотрения самого общего вопроса — об основных особенностях психики животных, имея в виду ее отличия от психики человека.
Основу всех без исключения форм поведения животных составляют инстинкты, точнее, инстинктивные действия, т. е. генетически фиксированные, наследуемые элементы поведения. Как и морфологические признаки, они воспроизводятся в каждой особи данного вида в относительно неизменной форме.
Видотипичность инстинктивных действий позволяет даже использовать их в качестве классификационных признаков при определении таксонов животных наряду с морфологическими признаками.
Например, для голубей характерен особый способ питья. Все птицы, как известно, пьют, запрокидывая голову, и только голуби втягивают воду клювом с опущенной головой.
Как и морфологическая организация, инстинкты животных, по словам В. А. Вагнера, формировались «под диктовку среды и под контролем естественного отбора» [цит. по: 118, с. 36]. Это привело к удивительной приспособленности инстинктивного поведения во всех сферах жизни животного — в способах добывания пищи, защите от нападения, строительстве жилищ, заботе о потомстве и т. п.
Приведу лишь один пример, взяв его из классического труда Ж. А. Фабра [117].
Оса-сфекс до откладки яиц обеспечивает будущую личику кормом — «законсервированным» кузнечиком. Сфекс нападает на кузнечика, парализует его, нанося точно рассчитанные уколы в три нервных узла, управляющих движениями его конечностей. Затем она втаскивает кузнечика в заранее приготовленную камеру и аккуратно откладывает яичко на его груди (кузнечик при этом лежит на спине).
В этой серии инстинктивных актов все очень целесообразно. Во-первых, парализация жертвы: мертвый кузнечик разложился бы раньше, чем выведется личинка, оставленный же в активном состоянии кузнечик сам легко убил бы личинку. Во-вторых, удивительная точность каждого укола сфекса в нервные ганглии насекомого. Наконец, аккуратность размещения яичка именно на груди кузнечика: это единственно безопасное место, с которого личинка не может упасть или быть сброшенной, ибо все еще живой кузнечик шевелит брюшком, челюстями и усиками. Оказавшись же на земле, слабая, беспомощная личинка неминуемо погибла бы.
Высокая целесообразность инстинктов издавна порождала теории об их «разумности». Однако со временем эти теории уступили место прямо противоположным оценкам. Стали говорить о «слепоте», «машинообразности» инстинктов. Поводом послужили опыты, в которых человек вмешивался в естественный ход жизни животных.
Так, в своих наблюдениях Фабр, а затем многие его последователи обнаружили следующий общий факт: если лишить смысла какое-то инстинктивное действие насекомого, оно все равно завершает его и переходит к следующему.
Например, уже описанный сфекс, отложив яичко на груди кузнечика, тщательно заделывает норку, несмотря на то, что ученый только что вынул из нее кузнечика; при этом сфекс предварительно заходит в норку и, казалось бы, не может не видеть, что она пуста.
Очень впечатляют своей «неразумностью» действия насекомых в другом опыте Фабра.
Гусеницы соснового шелкопряда обычно в поисках пищи движутся длинными колоннами друг за другом, руководствуясь шелковистой нитью, которую оставляет первая из них — «вожак». По этой же нити они возвращаются «домой». В отличие от остальных «вожак» движется медленно, совершая поисковые, ощупывающие движения в разных направлениях. Если нить почему-либо прерывается, «вожаком» становится любая гусеница, оказавшаяся впереди.
Фабр дает возможность вползти длинной колонне гусениц на верхний край кадки из-под цветов. Первая гусеница, достигнув этого края, начинает ползти по нему, описывая окружность; остальные движутся за ней. Когда первая проходит полный круг и натыкается на очередную гусеницу, выползающую на борт, Фабр сметает всех остальных гусениц с боковой стенки кадки и щеточкой тщательно стирает нить, оставленную на ней гусеницами.
Теперь «вожак», обнаружив нить, смело следует за последней гусеницей. Колонна гусениц замыкается в круг и начинает бесконечно кружить по краю кадки. Они не могут найти пищу, которая лежит рядом, не могут вернуться «домой». По существу, гусеницы обречены на голодную смерть. Фабр наблюдал их кружение в течение 7 суток!
Хотя на основе подобных фактов и напрашивается вывод о «слепоте» инстинктов, такой вывод некорректен, как некорректен был и обсуждавшийся вывод об их «разумности». Вместо «разумности» следует говорить о биологической целесообразности инстинктов, а вместо «слепоты» — об их фиксированное, или ригидности.
Нужно иметь в виду, что ригидность инстинкта тоже целесообразна: она отражает приспособленность животного к постоянству определенных условий его обитания. Экспериментальные вмешательства исследователя представляют собой маловероятные, а чаще всего невозможные в природе события, искажения естественных условий обитания.
Полезно сравнить «ошибки» инстинкта с «ошибками», или иллюзиями, восприятия. Эти явления имеют много общего.
Несмотря на то, что перцептивные операции у человека формируются прижизненно и, казалось бы, должны быть менее жестки, чем врожденные механизмы инстинктов, они, по уже известному нам выражению Г. Гельмгольца, «непреодолимы». На примере иллюзии окна Эймса мы видели, что знание о действительном способе вращения окна никоим образом не влияет на переживание иллюзии.
Такая же непреодолимость и даже «принудительность» инстинктивных действий отмечалась многими исследователями. К. Лоренц описывает яркий эпизод из жизни его ручной галки Джока.
Эта галка воспитывалась Лоренцом с раннею возраста и была ему беспредельно предана. Будучи птенцом, она летала за своим хозяином по пятам, издавая крики отчаяния, когда теряла его. Однажды Лоренц взял в руки в присутствии уже взрослого Джока маленького черного галчонка и тут же услышал за спиной характерный скрежещущий звук — звук агрессии и злобы, с которым галки нападают на врага. В одно мгновение птица спикировала на руку своего любимого хозяина и оставила в ней глубокую кровоточащую рану.
В другой раз Лоренц подвергся столь же жестокому нападению со стороны стаи галок, в остальное время дружески к нему расположенных, когда он неосторожно вынул из кармана в их присутствии черные плавки [66].
В обоих случаях действия птиц были чисто инстинктивными. Они спровоцировались видом «плененного» черного подвижного предмета. Нетрудно понять важный биологический смысл таких действий: это защита птенца или взрослого сородича, попавшего в беду. Примечательно, что птицы (как и другие животные) не вольны затормозить или преодолеть эти действия!
Итак, и «ошибки» инстинктов, и иллюзии восприятия возникают в результате автоматического срабатывания непроизвольных механизмов, причем механизмов правильных (т. е. таких, которые обеспечивают адекватное отражение или эффективное приспособление), оказавшихся в «неправильных», т. е. искусственных, а значит, и маловероятных или невозможных в природе ситуациях.
Каковы современные представления о механизмах инстинктов?
Согласно этологической теории, инстинкт обусловлен действием как внешних, так и внутренних факторов.
К внешним факторам относятся специальные раздражители, которые получили название «ключевых стимулов».
К настоящему времени изучено большое количество ключевых стимулов у многих видов животных. Как оказалась, в этой роли могут выступать сигналы любой модальности: цвета, запахи, звуки, зрительные формы, движения и т. п. В естественных условиях обычно действуют несколько признаков, объединяясь в «пусковую ситуацию».
Вот несколько примеров.
В брачный период ярко окрашенное брюшко самца колюшки — ключевой стимул. Демонстрируя его, он отпугивает от гнезда соперников-самцов и, напротив, привлекает самку.
У птенцов серебристой чайки ключевой стимул — красное пятно на желтом клюве родителей: вид его «включает» реакцию выпрашивания: птенец клюет в это пятно, и родитель отрыгивает ему пишу в рот.
Для новорожденных цыплят мелкие объемные предметы или пятна округлой формы — ключевые стимулы, которые вызывают реакцию клевания.
Темный объект любой формы, совершающий «танцующие» движения, заставляет самца бабочки-бархатницы в брачный период преследовать его.
Реакция следования возникает у гусят в первый день жизни на любой движущийся предмет: им может быть чучело птицы, воздушный шар, человек, лодка.
В ходе исследований было открыто интересное явление действия сверхстимулов, или сверхоптимальных стимулов.
Так, например, упомянутый самец бабочки-бархатницы особенно охотно преследует предметы, которые имеют более темную окраску, чем натуральный цвет самки, и в 3-4 раза превосходят ее размеры.
Чайка предпочитает «высиживать» макет яйца в 10 раз больший, чем ее собственное яйцо, оставляя последнее без внимания.
Сверхстимулы часто служат животным в естественных условиях. Примеры — огромные «глаза» на крыльях некоторых бабочек, отпугивающие пернатых хищников, или большой раскрытый клюв кукушонка, который заставляет певчую птичку кормить его более охотно, чем собственных птенцов.
К внутренним факторам относится эндогенная стимуляция центров инстинктивных действий, которая приводит к понижению порога их возбуждения.
Очень показательны в этом отношении факты расширения спектра раздражителей, вызывающих инстинктивные действия и особенно факты спонтанного возникновения последних.
Так, в одном из опытов изучалось действие токования у голубей; голуби на разное время изолировались от самок. Оказалось, что по мере увеличения времени изоляции все больший круг предметов вызывал токующие действия. Вначале это были только самки своего вида, через несколько дней — самки другого вида, которых раньше голубь не замечал, еще позже — чучело птицы, затем — скомканный платок. Наконец, через несколько недель голубь токовал, обратившись к пустому углу.
Согласно модели К. Лоренца, обычно, т. е. в отсутствие крайнего обострения потребности, эндогенная активность центров инстинктивных действий заторможена, или блокирована. Адекватные стимулы снимают эту блокировку, действуя наподобие ключа, который открывает замок. Поэтому такие стимулы и получили название ключевых.
В настоящее время значительно изменились взгляды и на важный, давно дискутируемый вопрос о соотношении инстинкта и научения.
Раньше формы поведения, основанные на инстинкте и на научении, противопоставлялись. Считалось, что инстинктные действия жестко запрограммированы, и животное способно к их реализации без всякой индивидуальной «доводки».
Согласно современным данным это далеко не так. Показано, что многие инстинктивные действия должны пройти период становления и тренировки в ходе индивидуального развития животного. Такая форма получила название облигатного (т. е. обязательного) научения.
Так, хотя клевательные движения цыпленка появляются сразу после вылупления, их точность невелика. В течение первых дней она значительно повышается. Это было убедительно показано в опытах Э. Гесса.
Э. Гесс одевал на глаза цыплят призмы, через которые они видели зерно смещенным в сторону на 7°. Соответственно цыплята клевали там, где видели зерно, т. е. пустое место. Разброс их ударов при этом был достаточно велик. Спустя несколько дней цыплята продолжали клевать видимое место зерна, однако зона разброса клевательных движений заметно сузилась. Знаменательно, что повышение точности движений не было результатом подкрепления, т. е. попадания или непопадания по зерну. Поэтому его справедливо оценивают как результат спонтанного совершенствования инстинктивного акта.
Другой пример облигатного научения представляют собой полеты птиц. Все птенцы сначала пытаются взмахивать крыльями и только некоторое время спустя поднимаются в воздух. Однако их полеты, и особенно приземления, на первых порах очень несовершенны. Например, молодые чайки при первых попытках приземления часто падают, если дует сильный попутный ветер.
Пение некоторых птиц — еще один пример облигатного научения. Зяблик, снегирь и ряд других птиц не в состоянии воспроизвести песню своего вида, если они выросли в изоляции или в обществе других птиц.
Итак, многие инстинктивные акты «достраиваются» в индивидуальном опыте животного, и можно сказать, что такая достройка тоже запрограммирована. Она обеспечивает прилаживание инстинктивного действия к условиям среды. Конечно, пластичность инстинктивного действия при этом ограничена и определяется генетически заданной «нормой реагирования».
Гораздо большую пластичность поведения обеспечивает факультативное научение. Этим термином обозначается процесс освоения новых, сугубо индивидуальных, форм поведения. Если при облигатном научении все особи вида совершенствуются в одних и тех же (видеотипичных) действиях, то при факультативном научении они овладевают индивидуально-особенными формами поведения, приспосабливающими их к конкретным условиям существования.
Широко известными примерами могут служить любые полезные привычки домашних животных или цирковая дрессировка животных. А. Н. Северцов приводит ряд ярких случаев индивидуального научения у диких животных.
Так, соколы, обнаруживая охотника в засаде у гнезда, научились бросать пишу птенцам с высоты, недоступной выстрелу. Песцы, на которых охотились, потягивая на пути к приманке шнурок и привязывая его к нацеленному ружью, стали прорывать к приманке ход в снегу [99, с. 303-304].
Описаны случаи передачи нового, «изобретенного» каким-нибудь животным способа поведения другим особям популяции, а затем и последующим поколениям. Это явление получило название поведенческой традиции. От видотипичного поведения действия «по традиции» отличаются тем, что присущи не всем особям вида, а только тем, которые живут на общей ограниченной территории.
Например, на одном из японских островов молодая обезьяна нашла способ «посолить» пищу — сладкий картофель, обмакнув ее в морскую воду. Это действие быстро распространилось среди всех обезьян острова, причем первыми его переняли молодые обезьяны и последними — старые обезьяны и вожак.
По существу, всякое действие животных представляет собой сложное переплетение видотипичных и приобретенных элементов поведения. По Фабри, на стадии перцептивной психики каждый поведенческий акт формируется в онтогенезе путем реализации генетически фиксированных компонентов видового опыта в процессе индивидуального научения.
Дело в том, что каждый поведенческий акт состоит из двух основных фаз: поисковой (или подготовительной) и завершающей.
Первая фаза обычно начинается с эндогенной активации и проявляется в общем беспокойстве и поисковых действиях животного — ненаправленных локомоциях, обследовании обстановки и т. п. Обычно в результате такой активности происходит встреча животного с ключевыми стимулами, которые включают собственно инстинктивное действие, а чаще целую цепь таких действий.
Например, пищевое поведение хищника начинается с хаотичного бега и обследования территории. Первые признаки добычи, а затем и конкретный вид ее ориентируют поведение — начинается преследование, подкрадывание; затем идет ряд таких инстинктивных действий, как бросок, умерщвление, расчленение туши, наконец, захват кусков мяса зубами и проглатывание. Только два последних акта — захват кусков и проглатывание — составляют завершающую фазу пищедобывательного действия. Все же предшествующее можно отнести к поисковой фазе, хотя в ней выделяются свои микроэтапы, каждый из которых имеет собственную поисковую и завершающую микрофазы. Например, многими хищниками умерщвление жертвы производится строго фиксированным способом: это инстинктивный акт, завершающий определенный этап охоты.
Важнейший найденный факт состоит в том, что наибольшей пластичностью поведение обладает в поисковой фазе. Именно здесь животное находит и осваивает новые способы поведения. Напротив, чем ближе к завершающей фазе, тем более стереотипными становятся движения; в самой завершающей фазе они приобретают те свойства стереотипности и принудительности, о которых шла речь выше.
«Удельный вес» поисковой и завершающей фаз в различных поведенческих актах может быть различным даже у одного и того же животного. Но общее правило состоит в том, что чем выше психическая организация животного, тем более развернута и продолжительна поисковая фаза, тем более богатый и разнообразный индивидуальный опыт животное может приобрести.
Очень важно отметить, что такой опыт часто накапливается впрок.
Так, например, крысы в известных опытах Э. Толмена [111] с латентным научением осваивали «карту» лабиринта в условиях, исключавших завершающую фазу пищедобывательного действия. Этот результат достигался в поисковой фазе исключительно за счет познавательной активности.
Все сказанное до сих пор об инстинктах животных чрезвычайно важно для понимания биологической предыстории специфически человеческих форм поведения. К ним относятся прежде всего язык и общение животных, а также использование ими орудий.
Язык животных представляет собой сложные системы сигнализации. С помощью сигналов очень разных модальностей — звуков, движений, поз, запахов, цветов и др. — животные передают друг другу информацию о биологически значимых событиях и состояниях. Это сигналы тревоги, опасности, угрозы, покорности, «ухаживания» и многие другие.
Важнейшее отличие языка животных от языка человека состоит в отсутствии у него семантической функции. Это значит, что элементы языка животных не обозначают внешние предметы сами по себе, их абстрактные свойства и отношения. Они всегда связаны с конкретной биологической ситуацией и служат конкретным биологическим целям. Многие сигналы, выражая эмоциональные состояния животного, действуют по механизму эмоционального заражения.
Так, сигнал тревоги, который издает один из членов птичьей стаи, передает его возбуждение — тревогу — остальным членам стаи, что и заставляет их подняться в воздух.
Аналогичным образом действует химическая сигнализация опасности у пчел. Пчела, которая жалит врага, выделяет особое пахучее вещество; это вещество приводит в агрессивное состояние других пчел, которые устремляются к неприятелю и тоже его жалят. В результате интенсивность химического сигнала лавинообразно растет, а вместе с ним растет и количество нападающих пчел.
Другим отличием языка животных является его генетическая фиксированность. В результате он представляет собой закрытую систему, которая содержит ограниченный набор сигналов, хотя количество сигналов может быть довольно большим. Так, например, у кур расшифровано около 20 различных сигналов, у человекообразных обезьян — до 90.
Вполне можно сказать, что каждая особь в животном мире от рождения знает язык своего вида. Знание же языка человеком формируется прижизненно, в ходе общения его с другими людьми. В отличие от языка животных язык человека — открытая система: он непрерывно развивается, обогащаясь новыми понятиями и структурами.
Генетическая фиксированность языка животных выражается, в частности, в том, что его элементы — это ключевые стимулы, которые включают или тормозят соответствующие инстинктивные действия другой особи.
Так, в период вскармливания птенцов многие птицы решительно нападают на любое не слишком большое подвижное существо, которое оказывается вблизи гнезда (такими бывают, в частности, мелкие хищники, питающиеся птенцами). Возник вопрос, почему же они не трогают собственных птенцов? Оказалось, что птенцов охраняет их собственный писк. Это сигналы, которые тормозят агрессию их родителей и возбуждают родительское поведение.
В одном опыте в гнездо птицы на нитке спускали чучело птенца — и птица яростно его атаковала. Но стоило включить звукозапись писка птенца, как атака резко затормаживалась.
В другом опыте оглушенная индюшка сразу убивала своих птенцов.
Приведенные общие положения относительно языка животных хорошо иллюстрируются богатым материалом из языка поз и телодвижений.
Крупным научным событием явилась расшифровка «танцев» пчел — работа, за которую австрийский ученый К. Фриш получил Нобелевскую премию.
Пчела, обнаружившая нектар, по возвращении в улей совершает сложный комплекс движений, куда входят круговые пробеги по сотам, виляния брюшком и т. п. Характер этих движений, их ориентация и интенсивность находятся в точном соответствии с направлением и дальностью полета за пищей. Пчелы, ощупывая «танцующую» пчелу, получают, кроме того, по вкусовым и обонятельным каналам информацию о качественном составе корма. Способность к столь сложному кодированию и декодированию информации у пчел является врожденной.
Широкую известность приобрели описания «поз подчинения», с помощью которых более слабое животное останавливает агрессивные действия противника. Они особенно развиты среди хищных животных, способных нанести друг другу серьезные увечья.
Так, в драке двух волков побежденный волк застывает в невероятной для нашего восприятия позе: он отворачивает голову от соперника, подставляя ему незащищенную шею — то место, где проходит яремная вена! Но именно эта поза заставляет застыть разъяренного победителя на месте: в крайнем возбуждении он еще дрожит, щелкает зубами, но просто «не в силах» тронуть подставленную шею! Ее вид — ключевой стимул, который действует как мощный тормоз, блокирующий агрессивные действия животного. Но стоит жертве слегка изменить позу, как атака тут же возобновляется [66].
Общение с помощью языка поз и движений может принимать форму ритуалов.
Ритуалы у животных — это сложный набор инстинктивных действий, которые потеряли свою первоначальную функцию и вошли в другую сферу жизнедеятельности в качестве сигналов или символов.
Так, ритуал «приветствия» у волков, шакалов и собак включает толчки мордой в угол рта. Это действие явно происходит от таких же движений щенков, которые подобным образом выпрашивают пищу у родителей [67].
Широко распространен ритуал «кормления» брачного партнера. Многие певчие птицы действительно кормят друг друга в брачный период. У куриных это действие уже ритуализируется. Например, токующий петух может клевать пустую землю, перебирая ногами и издавая призывные звуки: самка подбегает и «клюет» рядом в отсутствие всякого корма.
У павлинов это действие приобрело еще более символическую форму: самец распускает хвост и просто указывает клювом в определенную точку на земле.
Среди птиц, а также ряда насекомых очень распространен ритуал «поднесения брачных подарков». У насекомых, а также у некоторых пауков он, по-видимому, возник из действий, обеспечивающих безопасность самца. Дело в том, что у некоторых представителей этих классов самки намного крупнее и сильнее самцов и спаривание с ними представляет угрозу для жизни брачного партнера. Так, самки богомола нередко поедают самца в момент оплодотворения. Поднося ей что-нибудь съедобное, самец отвлекает ее внимание.
У некоторых видов птиц подобные действия приобрели символическую форму и «подарок» стал несъедобным: в этой функции может выступать простой камешек или чаще веточка, которая, однако, может служить и гнездостроительным материалом.
При всем, иногда поразительном, внешнем сходстве ритуалов у животных и человека («поцелуи», «брачные подарки» и др.), природа их глубоко различна. У животных это всегда генетически запрограммированные, инстинктивные акты; у человека — действия, передаваемые через культурные традиции.
Особенно сложные формы общения наблюдаются у животных, живущих в сообществах. Жизнь стадами, стаями, семьями широко распространена в животном мире.
Характерная черта многих сообществ животных — иерархия его членов. Каждая особь обычно знает, кто сильнее и кто слабее ее. Иерархия устанавливается и поддерживается с помощью разнообразных актов общения — мелких стычек, ритуалов, турниров и пр. Более сильные особи получают преимущества в распределении пищи, выборе брачных партнеров. Особи более высоких рангов, и особенно вожак, имеют больший «авторитет»: им подчиняются, им подражают, за ними следуют.
Вожаком стаи или стада обычно становится наиболее сильный и опытный индивид. Это способствует воспроизведению полноценного потомства, а также передаче богатого индивидуального опыта.
В некоторых сообществах наблюдается четкое распределение функций между особями; основой служат половые, возрастные, ранговые признаки.
Распределение функций наиболее отчетливо представлено в репродуктивной сфере. У многих видов самцы добывают и приносят пишу самкам, которые высиживают яйца или остаются с детенышами. Правда, далеко не всегда выведение потомства и забота о нем ложится исключительно на самку. У многих птиц яйца высиживаются самцом и самкой по очереди.
У ряда рыб родители совместно выращивают мальков. А у рыбки-корюшки самец один выполняет всю работу по постройке гнезда, охране икринок и воспитанию молодняка.
Еще один пример распределения функций наблюдается в стае гиеновых собак. Там самцы на охоте заглатывают мясо жертвы кусками, а затем, приходя домой, отрыгивают их самкам и щенятам.
Особенно впечатляет сложность организации совместной жизни с четкой дифференциацией функций у общественных насекомых — пчел, муравьев.
Семья медоносной пчелы состоит из одной матки, многих сотен и даже тысяч рабочих пчел и в определенный период — трутней. Матка занята только кладкой яиц, рабочие пчелы полностью обслуживают ее и выполняют многочисленные работы по улью: строят и чистят соты, заботятся о пропитании личинок, собирают запасы мела, убирают и проветривают гнездо, защищают его от вторжения врагов. При этом и среди рабочих пчел наблюдается узкая специализация: есть пчелы — «воспитатели», «сборщицы», «сторожа». Трутни ни в каких работах не участвуют, они существуют только для того, чтобы оплодотворить самку. При наступлении осени их убивают или изгоняют из улья.
В стадах обезьян также имеется четкое распределение функций. Молодые самцы, наиболее подвижные и наиболее удаляющиеся от стада, выполняют роль часовых. Старый опытный вожак наблюдает за порядком в стаде и за внешней безопасностью. В случае приближения крупного хищника он выводит стадо в безопасную зону. При передвижении стада самки с детенышами окружаются сильными самцами: одни из них вместе с вожаком возглавляют шествие, другие его замыкают.
Обобщая изложенные факты, следует выделить то главное, что отличает групповое поведение животных от общественной жизни человека. — это подчиненность ее исключительно биологическим целям, законам и механизмам. Групповое поведение животных закреплялось естественным отбором; фиксировались только тс его формы, которые обеспечивали лучшее решение прямых биологических задач — питания, самосохранения и размножения.
Человеческое же общество возникло на совершенно другой основе — на основе совместной трудовой деятельности, неизвестной и недоступной животным. Как в своем индивидуальном развитии, так и в общественной жизни, человек вышел из-под власти биологических законов и с определенного момента антропогенеза стал подчиняться законам социальным.
Производительный труд стал возможным благодаря использованию орудий. По словам Ф. Энгельса, «труд начинается с изготовления орудий» [1, т. 20, с. 491]. Поэтому орудийная деятельность животных рассматривается как одна из биологических предпосылок антропогенеза, и эта проблема находится в центре внимания антропологов и сравнительных психологов.
Некоторое время тому назад предполагалось, что использование орудий доступно только человекообразным обезьянам, к тому же в условиях неволи. В последнее время обнаружены факты применения орудий у многих видов животных, включая низших обезьян, птиц и даже насекомых.
Широкую известность приобрели исследования Дж. Лавик-Гудолл жизни шимпанзе в естественных условиях [46]. По ее наблюдениям, шимпанзе используют соломинки или палочки для извлечения термитов; этими орудиями они протыкают отверстия в термитниках, заделанных мхом.
Разжевывая массу прошлогодних листьев, обезьяны делают своего рода «губки», с помощью которых достают воду из углублений в деревьях.
Знаменательно, что в обоих приведенных случаях животные не только используют, но и изготавливают или совершенствуют орудия: при использовании веточки обрывают с нее листья и боковые побеги; листья для «губки» пережевываются. Однако безусловным фактом остается неспособность животных изготавливать орудия с помощью другого орудия. Здесь проходит та грань, которая отделяет животных от человека.
Животные обрабатывают орудия с помощью естественных средств — собственных органов: зубов, рук и т. п. Первобытный же человек стал изготавливать свои орудия, воздействуя камнем на камень. Этот, на первый взгляд, незначительный сдвиг отразил фундаментальные прогрессивные изменения и в строении деятельности первобытного человека, и в его психике.
Изготовление орудия с помощью другого предмета означало отделение действия от биологического мотива и тем самым появление нового вида деятельности — труда. Изготовление орудия впрок предполагало наличие образа будущего действия, т. е. появление плана сознания. Оно предполагало далее разделение труда, т. е. установление социальных отношений на основе небиологической по своему содержанию деятельности. Наконец, оно означало материализацию опыта трудовых операций (в форме орудия) с возможностью хранения этого опыта и передачи его последующим поколениям.
Ничто из перечисленного не свойственно орудийной деятельности животных. Они прибегают к использованию орудия, только побуждаемые биологическими мотивами и только в конкретной ситуации. Они никогда не вступают в отношения между собой по поводу применения орудия, тем более по поводу его изготовления.
Все это позволило определить использование животными орудий как одну из форм биологической адаптации [118, с. 268]. Она имеет лишь внешнее сходство с трудовыми действиями человека.
В заключение перечислим главные особенности психической деятельности животных, отличающие ее от психики человека.
1. Вся активность животных определяется биологическими мотивами. Это хорошо выражено в часто цитируемых словах немецкого психолога А. Гельба: «Животное не может делать ничего бессмысленного. На это способен только человек» [цит. по: 68, с. 5].
2. Вся деятельность животных ограничена рамками наглядных конкретных ситуаций. Они не способны планировать своих действий, руководствоваться «идеально» представляемой целью. Это проявляется, например, в отсутствии у них изготовления орудий впрок.
3. Основу поведения животных во всех сферах жизни, включая язык и общение, составляют наследственные видовые программы. Научение у них ограничивается приобретением индивидуального опыта, благодаря которому видовые программы приспосабливаются к конкретным условиям существования индивида.
4. У животных отсутствуют закрепление, накопление и передача опыта поколений в материальной форме, т. е. в форме предметов материальной культуры.
Лекция 12
ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ В ОНТОГЕНЕЗЕ
ГИПОТЕЗА О ПРОИСХОЖДЕНИИ СОЗНАНИЯ: РОЛЬ ТРУДА И РЕЧИ. ВОПРОС О ПРИРОДЕ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Л. С. ВЫГОТСКОГО: ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА;
ЧЕЛОВЕК И ЕГО СОБСТВЕННАЯ ПСИХИКА. СТРОЕНИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ (ВПФ);
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, ПРЕВРАЩЕНИЕ ИНТЕРПСИХИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ИНТРАПСИХИЧЕСКИЕ;
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ;
РЕЗЮМЕ. УСВОЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА КАК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ ОНТОГЕНЕЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИНДИВИДА
Мы должны теперь более подробно рассмотреть качественные особенности психики человека, которые решительно выделили его из животного мира. Эти особенности возникли в процессе антропогенеза и культурной истории человечества и были непосредственно связаны с переходом человека с биологического на социальный путь развития. Главным событием здесь явилось возникновение сознания.
Классики марксизма неоднократно высказывали мысль о том, что ведущими факторами возникновения сознания были труд и язык: «Сначала труд, а затем и вместе с ним членораздельная речь явились двумя самыми главными стимулами, под влиянием которых мозг обезьяны постепенно превратился в человеческий мозг…» [I, т. 20, с. 490]; «…язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание…» [1, т. 3, с. 29].
Эти общие положения получили в работах советских психологов Л. С. Выготского, С. Я. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева и др. конкретно-психологическую разработку.
А. Н. Леонтьеву принадлежит гипотеза о происхождении сознания.
Согласно его определению сознательное отражение — это такое отражение предметной действительности, в котором выделяются ее «объективные устойчивые свойства», «вне зависимости от отношений к ней субъекта» [56, с. 261].
В этом определении подчеркивается «объективность», т. е. биологическая беспристрастность, сознательного отражения.
Для животного предмет отражается как имеющий прямое отношение к тому или иному биологическому мотиву. У человека же, по мысли А. Н. Леонтьева, с появлением сознания мир начинает отражаться как таковой, независимо от биологических целей, и в этом смысле «объективно». Как это стало возможным?
В соответствии с общим положением, согласно которому всякое изменение психического отражения происходит вслед за изменением практической деятельности, толчком к возникновению сознания послужило появление новой формы деятельности — коллективного труда.
Давайте вслед за А. Н. Леонтьевым проследим, как коллективный труд сделал возможным и одновременно необходимым возникновение сознания.
Всякий совместный труд предполагает разделение труда. Это значит, что разные члены коллектива начинают выполнять разные операции, причем разные в одном очень существенном отношении: одни операции сразу приводят к биологически полезному результату, другие же такого результата не дают, а выступают лишь как условие его достижения. Рассматриваемые сами по себе, такие операции представляются биологически бессмысленными.
Например, преследование и умерщвление дичи охотником прямо отвечает биологическому мотиву — получению пищи. В отличие от этого действия загонщика, который отгоняет дичь от себя, не только не имеют самостоятельного смысла, но и, казалось бы, прямо противоположны тому, что следовало бы делать. Тем не менее, они имеют реальный смысл в контексте коллективной деятельности — совместной охоты. То же самое можно сказать о действиях по изготовлению орудий.
Итак, в условиях коллективного труда впервые появляются такие операции, которые не направлены прямо на предмет потребности — биологический мотив, а имеют в виду лишь промежуточный результат.
В рамках же индивидуальной деятельности этот результат становится самостоятельной целью. Таким образом, для субъекта цель деятельности отделяется от ее мотива, соответственно в деятельности выделяется ее новая единица — действие.
В плане психического отражения это сопровождается переживанием смысла действия. Ведь чтобы человек побуждался совершить действие, которое приводит лишь к промежуточному результату, он должен понять связь этого результата с мотивом, т. е. «открыть» для себя его смысл. Смысл, по определению А. Н. Леонтьева, и есть отражение отношения цели действия к мотиву.
Для успешного выполнения действия необходимо развитие «беспристрастного» типа познания действительности. Ведь действия начинают направляться на все более и более широкий круг предметов, и познание «объективных устойчивых свойств» этих предметов оказывается жизненной необходимостью. Вот здесь и проявляется роль второго фактора развития сознания — речи и языка.
Скорее всего первые элементы человеческой речи появились в ходе выполнения совместных трудовых действий. Именно здесь, по словам Ф. Энгельса, у людей «появилась потребность что-то сказать друг другу» [11, т. 20, с. 489]. Можно предположить, что первые слова указывали на определенные действия, орудия, предметы; это были также «приказы», адресованные партнеру по совместным действиям. Но очень скоро язык перерос подобные «указательные» и «организующие» функции. Ведь всякое слово не только обозначает, но и обобщает. Закрепляясь за целым классом сходных действий, предметов или ситуаций, оно стало выделять их общие устойчивые свойства. Таким образом, в слове стали фиксироваться результаты познания.
Если учесть, что усложнение форм труда, вовлечение в сферу труда все более широкого круга предметов и орудий требовало постоянного расширения познаваемых, или осознаваемых, содержаний, то станет ясным, что процессы развития труда и языка шли параллельно, тесно переплетаясь друг с другом.
Уникальная особенность человеческого языка — его способность аккумулировать знания, добытые поколениями людей. Благодаря ей язык стал носителем общественного сознания. Важно вникнуть в этимологию слова «сознание». Ведь сознание — это совместное знание. Каждый человек в ходе индивидуального развития через овладение языком приобщается к «совместному знанию», и только благодаря этому формируется его индивидуальное сознание.
Таким образом, смыслы и языковые значения оказались, по А. Н. Леонтьеву, основными образующими человеческого сознания.
Обсуждение происхождения сознания непосредственно подводит к вопросу о природе человеческой психики в целом. Этот вопрос решался на протяжении веков далеко не однозначно и продолжает остро дискутироваться и по сей день. Крайние точки зрения выражаются вопросами: «Что такое человек: существо биологическое — или социальное?» — или в другой формулировке: «Какому «царству» принадлежит человек: природы — или духа?»
Вопросы эти чрезвычайно трудные, так как, вообще говоря, есть основания ответить утвердительно на каждую из этих альтернатив.
Конечно, человек — существо биологическое, поскольку он возник в ходе эволюции животного мира, продолжавшейся многие миллионы лет, и в определенном смысле является результатом этого процесса. С другой стороны, современный человек есть продукт культурно-исторического процесса, насчитывающего, по крайней мере, несколько сот тысяч лет. Иными словами, мы несем на себе печать обеих эволюции, и, казалось бы, на поставленные вопросы можно ответить по типу «и — и». Однако такой ответ никого не удовлетворяет, ибо все равно остается неясным, в чем и как проявляются биологическое и социальное (или духовное) начала, а главное, в каком соотношении они находятся.
В человеческой культуре, философии и в конкретных психологических теориях существует широкий спектр ответов на этот последний вопрос: от признания безусловного примата биологического начала в человеке до абсолютизации его духовной сущности.
Пример крайнего «биологического» полюса представляет собой взгляд на человека как на социализированное животное: оно лишь немного подправлено культурой, но суть его осталась той же.
В конце 60-х годов в Америке вышла нашумевшая книга Д. Морриса под названием «Голая обезьяна», в которой автор проводит именно эту точку зрения.
«За фасадами современной городской жизни, — пишет он, — та же старая голая обезьяна. Изменились только названия: вместо «охоты» мы говорим «работа», вместо «гнезда» — «дом», вместо «спаривания» — «женитьба», вместо «самки» — «жена». И несколько дальше: «…биологическая природа животного формирует социальную структуру цивилизации, а не наоборот» [с. 84].
Пожалуй, еще ближе к «биологическому» полюсу (насколько это вообще возможно) стоит точка зрения представителей так называемой социогенетики. Согласно этой концепции индивид — это лишь временная оболочка бессмертных генов. Главное назначение жизни каждого индивида, в том числе каждого человека, обеспечить сохранность генов и передачу их потомкам. Все достижения эволюции, а также все индивидуальные достижения, по существу, лишь средства наилучшего решения этой задачи.
Если в упомянутых концепциях биологический подход к человеку доведен почти до абсурда, то в других он менее однозначен и прямолинеен, как, например, в бихевиоризме или в психоанализе. Однако и там он сохраняет свои существенные черты: неразличение законов, управляющих поведением животных и человека, утверждение примата биологических потребностей и т. п.
Другую крайность составляют идеалистические точки зрения, указывающие на божественное происхождение человека. Согласно им цель жизни каждого человека — осуществить «замысел божий» (христианская религия), выразить собой часть «объективного духа» (Гегель) и т. п.
Мы знакомились также с вариантами дуалистического подхода. Например, как вы помните, по Платону, тело и душа — два разных начала, которые борются за руководство поведением человека.
Так что это, можно сказать, вечная проблема. Она не только чрезвычайно сложная, но и очень важная. Ее решение имеет много следствий — и собственно научных, и социальных, и практических, причем практических в очень широком и важном смысле.
В самом деле, то и другое решение поставленного вопроса имеет прямой выход в личную жизнь каждого человека. Каждый из нас рано или поздно спрашивает себя: как жить? К чему стремиться? Что в жизни самое главное?
Если полагать, что человек по преимуществу существо биологическое, то ответ будет примерно таким: надо прежде всего заботиться о физическом здоровье, о физическом благополучии и комфорте; может быть, даже потакать «страстям», культивировать инстинкты. Ведь все это будет «естественно», т. е. отвечать природе человека.
Если же считать, что человек по своей природе существо не биологическое, а социальное или духовное, то ответ будет совершенно другой: конечно, человек должен физически существовать, чтобы существовать вообще, но не ради этого он живет. Если он несет в себе качественно особое, социально-духовное начало и оно главное, то человек должен жить так, чтобы это начало получило свое полное развитие. Только тогда он будет жить соответственно своей природе, а значит, жить счастливо!
Еще одно важнейшее практическое следствие решения того же вопроса относится к воспитанию детей. Как воспитывать детей? О чем прежде всего заботиться? Заботиться о том, чтобы ребенок был накормлен, одет, здоров или чтобы в нем воспитывались истинно человеческие качества — чувства долга и справедливости, стремления к идеалам и т. п.? Вы скажете, почему «или — или», надо «и — и». В каком-то смысле это так; ребенок, конечно, должен быть здоров и накормлен. Но вот что интересно: в реальной жизни очень часто, если не на каждом шагу, сталкиваются эти «заботы» как альтернативы.
Об этом хорошо писал Я. Корчак. Приведу его слова. «Как часто, — пишет Я. Корчак, — от родителей приходится слышать: не ходи, не трогай, не залезай, остановись, ай, ушибешься, разобьешься, сгоришь, заболеешь, пропадешь. Мы находимся в вечном страхе перед смертью ребенка и тем лишаем его жизни. В конце концов, ребенок имеет право на смерть так же, как и на жизнь, но жизнь не куцую, трусливую, ограниченную, а самостоятельную, активную, развивающую и сохраняющую его чувство достоинства!» [42, с. 107]. Смотрите, обсуждается повседневная жизнь ребенка, его повседневное воспитание, а как остро ставит вопрос Я. Корчак; боязнью смерти, т. е. чрезмерной заботой о биологическом существовании ребенка, родители лишают его полноценной человеческой жизни!
Так что общефилософская, мировоззренческая проблема выливается в серию важнейших практических вопросов воспитания и самовоспитания.
Скажу несколько слов о том, как эта проблема оборачивается в собственно научном плане специально для психологии.
При «биологическом» взгляде на природу человека следует естественный вывод, что его психическую жизнь можно описывать с помощью тех же понятий, что и психическую жизнь животных. Например, законы высшей нервной деятельности одинаковы для животных и человека. Поскольку они объясняют и так называемые психические явления (недаром И. П. Павлов назвал условный слюнной рефлекс «психическим» отделением слюны), то физиология высшей нервной деятельности, или наука о мозге в целом, рано или поздно заменит психологию.
Но признавая психику человека, его сознание качественно новыми образованиями, необходимо вводить совсем другие понятия и искать совсем иные законы и механизмы, объясняющие его поведение.
Я перейду к изложению одной концепции, которая возникла в советской психологии на ранних этапах ее становления (конец 20-х — начало 30-х гг.) и наметила пути научного решения проблемы о природе психики человека. Ее автор, Л. С. Выготский, назвал ее культурно-исторической теорией психики человека. Как следует из названия, Л. С. Выготский решил намеченную выше проблему в пользу второго ответа. Он показал, что у человека возникает особый вид психических функций, названных им «высшими психическими функциями», которые полностью отсутствуют у животных. Эти функции составляют высший уровень психики человека, обобщенно называемый сознанием. Они формируются в ходе социальных взаимодействий и благодаря им. Иными словами, высшие психические функции имеют социальную природу. Ниже мы рассмотрим эти положения более подробно.
А сначала несколько слов о Л. С. Выготском. Годы жизни Льва Семеновича Выготского: 1896—1934. В науке и вообще в человеческой культуре часто бывает, что вклад выдающейся личности несоизмерим с длительностью ее жизни. К сожалению, Л. С. Выготский прожил очень мало, но оставил очень большое научное наследие.
По образованию Л. С. Выготский не был психологом: он получил смешанное образование — юридическое и филолого-историческое. В психологию он пришел относительно поздно. Считается, что первые научно-психологические работы Л. С. Выготского относятся к 1924 г., когда их автору было уже 28 лет. С 1924 по 1934 г. ему оставалось десять лет жизни, и все то, что он сделал в психологии, пришлось на это его последнее десятилетие!
Работал Л. С. Выготский в очень многих областях психологии. Он занимался историей психологии, сделал крупный вклад в решение ее методологических и теоретических проблем — он был одним из тех, кто ставил советскую психологию на фундамент марксистской философии. Он занимался исследованием сознания и отдельных психических процессов: памяти, внимания, эмоций; провел фундаментальное исследование мышления и речи; разработал ряд проблем развития ребенка — нормального и аномального, заложив, в частности, основы советской дефектологии. Наконец, он внес существенный вклад в психологию искусства.
Это был человек очень широкого гуманитарного образования и одновременно — неиссякаемого таланта. По воспоминаниям современников, Л. С. Выготский как магнит притягивал к себе учеников и сотрудников. Так, вокруг него создалась хотя и небольшая, но очень сплоченная группа психологов, имена которых стали впоследствии широко известны: это А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин, Л. И. Божович, Л. С. Славина. Эти непосредственные сотрудники и ученики Л. С. Выготского, а затем и их сотрудники и ученики сделали очень много для пропаганды и развития его идей.
Как я уже сказала, мы остановимся на той части наследия Л. С. Выготского, которая получила название культурно-исторической теории психики человека. Иногда ее называют теорией общественно-исторического происхождения высших психических функций человека.
Как вы сами понимаете, за десять лет работы в стольких различных направлениях трудно было создать что-либо законченное, и та концепция, с которой мы сегодня будем знакомиться, далеко не завершена и в чем-то несколько схематична. Но ее главные положения имеют непреходящее значение для нас сегодня. На дискуссионных пунктах этой теории мы остановимся позже. А сейчас я попытаюсь кратко изложить основные идеи и ход мысли Л. С. Выготского при обсуждении природы, строения и развития высших психических функций человека. Под последними он подразумевал произвольное внимание, произвольную память, логическое мышление и др.
В рассуждениях Л. С. Выготского на эту тему можно выделить три крупные логические части.
I. Первая часть может быть озаглавлена: « Человек и природа». Она относится к общефилософским предпосылкам теории. В этой части содержится два основных положения.
Первое положение опирается на мысль, неоднократно высказывавшуюся классиками марксизма о том, что при переходе от животных к человеку произошло кардинальное изменение взаимоотношений субъекта с окружающей средой.
На протяжении всего существования животного мира среда действовала на животное и видоизменяла его; животное приспосабливалось к среде, и это обусловило биологическую эволюции животного мира. С появлением же человека начался процесс противоположного смысла. Человек ознаменовал свое появление тем, что начал действовать на природу и видоизменять ее. Л. С. Выготский приводит следующее высказывание Ф. Энгельса: «…все планомерные действия всех животных не сумели наложить на природу печать их воли. Это мог сделать только человек» [1, т. 20, с. 495].
Итак, человек оказался способен к овладению природой. Это первое фундаментальное положение.
Второе. Человеку удалось сделать это, т. е. наложить на природу «печать своей воли», благодаря использованию орудий, а обобщенно говоря, благодаря развитию материального производства. Легко понять, что это действительно так, если представить себе, что именно материальное производство привело к эволюции средств воздействия на природу: от неотесанного камня или копья-палки до современных станков и атомных двигателей.
Итак, Л. С. Выготский подчеркивает измененное взаимоотношение человека и природы, во-первых, и механизм этого изменения через использование орудий, во-вторых.
II. Вторая часть может быть озаглавлена: «Человек и его собственная психика». Она содержит тоже два положения, которые звучат не только как точные аналоги обоих положений первой части, но и имеют с ними внутреннюю связь.
Первое. Способность к овладению природой не прошла бесследно для человека в одном очень важном отношении: он научился также овладевать собственной психикой. Появились произвольные формы деятельности, или высшие психические функции.
Этот тезис требует некоторых разъяснений. Вам уже известно, что самый низший этаж в структуре деятельности занимают психофизиологические функции: сенсорная функция, моторная, мнемическая и др. Л. С. Выготский называет их низшими, или натуральными, психическими функциями. Они есть и у животных.
У человека же появляются произвольные формы таких функций, которые Л. С. Выготский и называет высшими: человек может заставить себя запомнить некоторый материал, обратить внимание на какой-то предмет, организовать свою умственную деятельность.
Возникает вопрос: каким образом появление высших психических функций связано с овладением природой?
По мнению Л. С. Выготского, здесь имеет место двусторонняя связь: указанные изменения в психике человека выступают одновременно и как следствия его измененных отношений с природой, и как фактор, который обеспечивает эти изменения. Ведь если жизнедеятельность человека сводится не к приспособлению к природе, а к изменению ее, то его действия должны совершаться по какому-то плану, подчиняться каким-то целям. Так вот, ставя и реализуя внешние цели, человек с какого-то момента начинает ставить и осуществлять внутренние цели, т. е. научается управлять собой. Таким образом, первый процесс стимулирует второй. В то же время прогресс в самоорганизации помогает более эффективно решать внешние задачи.
Итак, овладение природой и овладение собственным поведением — параллельно идущие процессы, которые глубоко взаимосвязаны.
Второе положение. Подобно тому как человек овладевает природой с помощью орудий, он овладевает собственным поведением тоже с помощью орудий, но только орудий особого рода — психологических.
Что же такое психологические орудия? Краткий ответ Л. С. Выготского звучит так: это знаки. Но здесь также необходимы разъяснения.
Возьмем для примера произвольную память. Предположим, что перед субъектом стоит задача запомнить какое-то содержание, и он с помощью специального приема это делает. Человек запоминает иначе, чем животное. Животное запоминает непосредственно и непроизвольно. У человека же запоминание оказывается специально организованным действием. Из чего же состоит это действие?
Разберем вслед за Выготским такой распространенный прием, как завязывание узелка «на память». Человеку надо что-то вспомнить спустя некоторое время; он завязывает на платке узелок и, снова увидев его, вспоминает запланированное дело.
Этот пример настолько знаком и прост, что, кажется, ничего особенного в нем найти нельзя. А вот Л. С. Выготский увидел в нем принципиально новую структуру высших психических функций человека!
Но сначала о типичности этого примера. Анализ этнографического материала обнаруживает, что аналогичные способы запоминания широко практикуются у отсталых племен, не имеющих письменности. Исторические материалы показывают то же самое: у разных народов и племен в далеком прошлом подобным же образом использовались для запоминания разные средства. В одном случае это были зарубки на дереве — зарубки разных форм и сочетаний; в другом — узелковая знаковая система: на веревке завязывалась система узлов и таким образом «записывалась» информация; использовались и другие средства.
Л. С. Выготский приводит следующий яркий пример из рассказа В. К. Арсеньева.
Однажды Арсеньев посетил адыгейское селение, и при расставании жители попросили его передать начальству во Владивостоке, что китаец Тау Ку с ними жестоко обращается. Писатель согласился это сделать, и тогда из толпы вышел седой старик, дал ему коготь рыси и сказал: «Положи себе в карман этот коготь, и когда приедешь туда, пусть этот коготь напомнит тебе, что ты должен сказать о жестоком обращении китайца».
Итак, во всех перечисленных случаях для запоминания используют внешние средства — это знаки какого-то содержания. Иногда такие средства просты (узелок, коготь) и могут быть связаны с любым содержанием; иногда они более дифференцированы (система различных зарубок, узлов) и более тесно связаны с запоминаемым содержанием, представляя собой зачатки письменности. Но это различия, так сказать, второго порядка. Главное и общее состоит в том, что подобные средства-знаки фактом своего появления и использования порождают новую структуру запоминания как психического процесса.
 |
Эту новую структуру Л. С. Выготский изображает с помощью следующей простой схемы (рис. 10).
Имеется некий стимул «А» и на него требуется дать ответ «В». (Эти термины звучат несколько старомодно, но они были традиционны для того времени.)
Итак, в случае запоминания «А» — это содержание, которое надо запомнить; «В» — воспроизведение этого содержания через какой-то период времени и иногда в другом месте. Предположим, содержание «А» сложное, и моих непосредственных способностей недостаточно для его запоминания. Тогда я «кодирую» его с помощью каких-то средств, например зарубок. Последние обозначаются как «X». По Выготскому, «X» — это дополнительный стимул, который связан с содержанием стимула «Л», т. е. является его знаком. Затем я использую этот «X», чтобы дать ответ «В». Тем самым я опосредствую свой ответ с помощью знака «X». «X» выступает как средство и запоминания и воспроизведения, или как психологическое орудие, с помощью которого я овладеваю процессами собственной памяти.
Ничего подобного нельзя представить себе у животных. Собака, когда-то наказанная палкой, рычит, снова увидев палку. Вполне естественно сказать, что она вспомнила ранее нанесенные ей удары. Но запечатление это произошло непроизвольно, и воспоминание также «всплыло» само собой, по простому закону ассоциаций. Непосредственная связь «А—В» (палка — удар) описывает натуральную мнемическую функцию, единственную форму памяти, которая есть у животных. Здесь нет и следа произвольности, которая возможна только при использовании опосредствующего знака.
Кстати, на примере памяти легко просматривается ограниченность натуральных функций животных и широта, если не сказать безграничность, возможностей человека, которые приобретаются благодаря опосредствованной структуре высших психических функций. Память животных ограничена, во-первых, объемом естественно запечатлеваемого материала, во-вторых, безусловной зависимостью ее от актуальной ситуации: чтобы вспомнить, животное должно снова попасть в те же условия, например увидеть палку.
Человеческая же память благодаря многим приемам опосредствования может вбирать в себя огромное количество информации. Кроме того, она совершенно освобождена от необходимости повторения ситуации запоминания: нужное содержание человек может вспомнить в любых других условиях благодаря использованию стимулов-средств, или знаков.
Вернемся к схеме на рис. 10. Чтобы убедиться в ее общности, необходимо рассмотреть какую-нибудь другую произвольную функцию. Л. С. Выготский берет в качестве другого примера выбор решения.
Если вы очень затрудняетесь, какую из двух альтернатив предпочесть, то оказываетесь в положении «буриданова осла». Согласно легенде стоит осел между двумя одинаковыми стогами сена на равном расстоянии от обоих: и один стог притягивает его к себе, и другой — с той же самой силой. Вот он и не может двинуться ни к какому из них. Так, можно сказать, и умирает с голоду.
 |
Итак, у нас есть ситуация А — два стога. Непосредственно (по натуральным механизмам) она провоцирует два разных ответа: Bt и В2 (рис. II, а). Силы, побуждающие к этим ответам, одинаковы по величине и противоположны по направлению. Они нейтрализуют друг друга. В результате осел остается в бездействии, ибо других, ненатуральных, средств решения у него нет.
Что же делает человек в аналогичной ситуации? Если варианты совсем равнозначны и в результате выбор уж очень труден, то дело может кончиться бросанием жребия. Вы заранее устанавливаете связь: «орел» — ответ BI, «решка» — ответ В2, а затем бросаете монету. Предположим, выпадает «решка», и вы делаете выбор В2 (рис. 11,6).
Бросание монеты есть «X»; это средство, с помощью которого вы овладеваете своим поведением, т. е. производите выбор. Вы, конечно, можете возразить, что подобный способ принимать решения не очень похвальный. Более достойно было бы обсудить варианты, взвесить их, привлечь моральные соображения и т. п. Это все так, но и в этом случае мы снова сталкиваемся со средствами, только средствами особого рода. Жребий — это простое, редуцированное средство; рассуждения и соображения — сложные, включающие интеллект, мораль и пр. Но функции этих «средств» в обоих случаях одинаковы: обеспечить (опосредствовать) выбор решения. Одинакова и структура процесса принятия решения (схема на рис. 10).
Итак, в разобранных примерах мы видим одни и те же характерные черты особой структуры произвольных психических актов: человек сам вводит дополнительный стимул, который не имеет органической связи с ситуацией и потому представляет собой искусственное средство-знак; с помощью этого знака он овладевает поведением — запоминает, делает выбор и т. п.
III. Третью часть концепции Л. С. Выготского можно озаглавить «Генетические аспекты». Сделать логический переход от второй части к третьей позволяет вопрос: «А откуда берутся средства-знаки?»
Рассмотрим сначала культурно-историческое развитие человека, а потом онтогенез, развитие ребенка. Эти два процесса имеют принципиальное сходство.
Как вам уже известно, труд создал человека, общение в процессе труда породило речь. Первые слова обеспечивали организацию совместных действий. Это были слова-приказы, обращенные к другому и направляющие его действия: «сделай то», «возьми это», «пойди туда» и т. п. А что произошло потом?
Потом произошло принципиально важное событие: человек стал обращать слова-приказы на самого себя! Из внешне-командной функции слова родилась его внутренне-организующая функция. Человек говорит себе «встань» — и встает; он говорит себе «я должен это сделать» — и делает.
Итак, возможность приказывать себе рождалась в процессе культурного развития человека из внешних отношений приказа-подчинения. Сначала функции приказывающего и исполнителя были разделены, и весь процесс, по выражению Л. С. Выготского, был интерпсихологическим, т. е. межличностным. Затем эти же отношения превратились в отношения с самим собой, т. е. в интрапсихологические.
Превращение интерпсихологических отношений в интрапсихологические Выготский назвал процессом интериоризации. В ходе него происходит превращение внешних средств-знаков (зарубки, коготь, жребий, громко произнесенное слово) во внутренние (образ, элемент внутренней речи).
Идея интериоризации — второе рассмотренное нами фундаментальное положение теории Л. С. Выготского. Первое — опосредствованная структура высших психических функций (наш II п.) и второе — интериоризация отношений управления и средств-знаков (наш III п.).
В онтогенезе наблюдается принципиально то же самое. Л. С. Выготский выделяет здесь следующие стадии интериоризации. Первая: взрослый действует словом на ребенка, побуждая его что-то сделать. Вторая: ребенок перенимает от взрослого способ обращения и начинает воздействовать словом на взрослого. И третья: ребенок начинает воздействовать словом на самого себя.
У Выготского есть очень интересное исследование одной из форм детской речи, которую впервые описал Ж. Пиаже. Пиаже назвал эту речь «эгоцентрической». Наблюдается эта речь в возрасте 3—5 лет и к концу дошкольного возраста исчезает. Состоит она в том, что дети говорят вслух, как будто ни к кому не обращаясь.
Вот несколько детей находятся в одной комнате, они рисуют и разговаривают между собой. Ж. Пиаже протоколирует их речь. Затем он подсчитывает количество высказываний или вопросов, в которых дети прямо обращались к кому-нибудь и получали ответ, и количество предложений, высказанных «в воздух», т. е. оставшихся без ответа. Интересно, что, не получив ответа, ребенок чувствовал себя вполне спокойно. Количество вторых высказываний оказалось довольно большим, порядка одной трети. Исследование показало, что с возрастом процент таких высказываний сокращается, доходя к 6—7 годам до нуля [85].
Пиаже предположил, что эгоцентрическая речь — это специальная детская форма речи, которая постепенно отмирает. Однако Л. С. Выготский подошел к ней иначе. Он показал, что эгоцентрическая речь есть промежуточный этап между речью, обращенной к другому, и речью, обращенной к себе.
Вот пример из исследования, организованного Л. С. Выготским. Ребенок-дошкольник рисует один в комнате и время от времени озвучивает свою деятельность. «Где карандаш, —говорит он, — мне нужен синий карандаш» (но карандаша нет). «Ничего, — продолжает ребенок, — я вместо этого нарисую красным и смочу водой, это потемнеет и будет как синее». Рисует у трамвая колесо, карандаш ломается, когда нарисована только половина колеса. «Оно сломано», — говорит он, меняя на ходу сюжет рисунка [22, т. 2, с. 48-49].
По наблюдениям Л. С. Выготского, подобное «озвучивание» процесса собственной работы возникает у ребенка особенно часто при затруднениях, т. е. в моменты, когда повышаются требования к организации его собственных действий.
Эти и другие факты служат доказательством того, что речь — главное средство саморегуляции. Эгоцентрическая речь отражает уже продвинутую стадию интериоризации этого средства.
Разберу несколько более подробно и на другом примере идею Л. С. Выготского о превращении в ходе онтогенеза внешних средств во внутренние. Сделаю это на материале его исследования произвольного внимания.
О произвольном внимании говорят, когда человек специально направляет и удерживает свое внимание на предмете деятельности. В наиболее чистой форме этот вид внимания возникает в условиях, когда сам предмет непривлекателен, т. е. «не бросается» в глаза (в противном случае включаются также механизмы непроизвольного внимания).
Л. С. Выготский проводил опыты с детьми 3-4 лет. Они проходили в форме следующей игры. Перед ребенком ставились две одинаковые чашки с крышками; на крышках были наклеены небольшие прямоугольники, которые различались оттенками серого цвета: один был светло-серый, другой — темно-серый. Как сами прямоугольники, так и различия в их оттенках были не слишком заметны, т. е. они не обращали на себя особого внимания детей. Загородив чашки, экспериментатор помещал в одну из них орех, закрывал чашки крышками и затем предлагал ребенку отгадать, в какой чашечке находится орех. При этом соблюдалось следующее правило: орех всегда находился в чашке с темно-серым прямоугольником.
Описанная ситуация напоминала условия выработки условно-дифференцировочной реакции: темно-серый прямоугольник — положительный сигнал, светло-серый — отрицательный. Только положительный сигнальный признак здесь был слабым. Это было сделано специально: ведь если бы на месте темно-серого прямоугольника был, скажем, ярко-красный, то он привлекал бы к себе непроизвольное внимание ребенка, т. е. естественную, «низшую» функцию, общую для человека и животных. А Выготский поставил цель изучить формирование именно произвольного, т. е. специфически человеческого, внимания.
Итак, расчет экспериментатора был направлен на то, чтобы средствами «натуральных» функций ребенок задачу решить не смог. Так и получалось.
Игра шла следующим образом: отгадал — орешек твой, ошибся — отдавай один из своих орешков назад. Вот проводится десять, двадцать, тридцать проб, игра идет с переменным успехом: ребенок то отгадывает и выигрывает, то проигрывает, однако «условной связи» не вырабатывается, хотя ребенок очень заинтересован игрой. Когда остается последний орешек, он его не отдает, плачет. Это означает, что у него возникла сильная мотивация, и не находит он решения не потому, что пассивен или ему неинтересно, а потому, что не может выделить «сигнальный признак» местонахождения орешка.
После того как ребенок терпит серию неудач, экспериментатор производит решающее действие: он кладет на глазах у ребенка орех в чашку, закрывает ее крышкой и пальцем указывает на темно-серый прямоугольник. Потом игра продолжается.
Уже в следующей пробе ребенок выбирает чашку с темно-серым прямоугольником. Очень скоро он говорит: «Теперь я знаю, как играть: орешек там, где темное пятно». С данного момента он начинает постоянно выигрывать.
Что же здесь произошло? Взрослый указательным жестом направил внимание ребенка на нужный предмет. Он «организовал» его внимание, и затем ребенок сам стал направлять свое внимание на решающий признак. Взрослый привлек внимание ребенка с помощью средства — указательного жеста, а потом этот жест трансформировался в правило, которое ребенок сформулировал для себя примерно следующими словами: «Надо смотреть на пятнышки и выбирать то, которое темное».
Таким образом, произошли два важнейших события: рождение средства-знака в процессе общения и превращение его из внешней формы во внутреннюю, т. е. его интериоризация. В результате стал возможен акт произвольного внимания.
Описанный эксперимент — простая и прозрачная модель того, что постоянно происходит в воспитании ребенка. Мы, взрослые, фактически непрерывно руководим его вниманием, направляем его на все новые и новые предметы, признаки, события.
Понаблюдайте, как ведет себя мать, когда гуляет с ребенком. «Посмотри, — говорит она, — вон, собачка бежит. А какие у собачки ушки, а какой у нее хвостик! Вон, машина едет: машина большая! А как она гудит — у-у-у-у!». И ребенок переводит свои полные удивления глаза с собаки на машину, с машины на маму.
А позже он начинает слышать такие фразы: «Это невежливо…» или «Так поступать нечестно…», т. е. уже используются абстрактные понятия. Эти понятия тоже «знаковые средства», и служат они для того, чтобы направить внимание ребенка на достаточно сложные стороны социальной жизни. Без таких средств эти стороны не смогли бы быть выделены ребенком!
Итак, высшие психические функции основаны на использовании внутренних, преимущественно вербальных, средств, которые первоначально отрабатываются в общении.
Из рассмотренных положений теории Л. С. Выготского следует множество практических выводов, важных прежде всего для практики воспитания детей.
Возьмем для примера проблему послушания ребенка. Многие родители считают, что ребенок не слушается потому, что упрямится или ленится. А вот Л. С. Выготский подошел к этому совершенно иначе. По его мнению, неверно думать, что ребенок через послушание овладевает собственным поведением. Наоборот, послушание становится возможным после того, как ребенок научится овладевать своим поведением. А для этого взрослый должен снабдить его средствами, да еще убедиться, что ребенок может использовать их самостоятельно, т. е. что они хотя бы частично интериоризовались.
Чтобы проиллюстрировать эту мысль Л. С. Выготского, приведу пример из собственных наблюдений.
Ребенку уже шесть лет, и, по справедливому требованию родителей, он должен сам одеваться, когда идет гулять. На улице зима, и нужно надеть на себя много разных вещей, соблюдая при этом определенную последовательность. И вот он регулярно не справляется с этой задачей, постоянно, что называется, «буксует»: то наденет только носики — и сядет в прострации, не зная, что делать дальше, то, надев шубу и шапку, пытается выйти на улицу в домашних тапочках. Родители приписывают все неудачи ребенка его лености и невнимательности. Они упрекают, понукают ребенка. Однако в лучшем случае он наденет еще какую-нибудь вещь — и снова остановится. В общем, конфликты на этой почве продолжаются изо дня в день.
К счастью, в семье появляется психолог, вооруженный теорией Выготского, и предлагает для поправки дела провести следующий «эксперимент». Он составляет список вещей, которые ребенок должен одеть, выписывает их столбиком и нумерует по порядку. Оказывается, что список получается довольно длинный — целых девять пунктов! Ребенок уже умеет читать, но все равно около каждого названия изобретательный психолог еще дополнительно рисует картинку каждой вещи — и список с картинками вешается на стену.
Ситуация резко меняется. В семье наступает тишина и спокойствие, прекращаются конфликты, а ребенок оказывается чрезвычайно занят. Он вполне старательный и послушный, и дело у него не шло не потому, что он не хотел, а потому, что просто не мог справиться с возложенной на него задачей.
Если пользоваться терминологией Л. С. Выготского, то ребенок не мог самостоятельно овладеть требуемым поведением. А здесь в виде списка и картинок ему было дано внешнее средство. Что же теперь делает ребенок? Он водит пальцем по списку, отыскивает нужную вещь, бежит надевать ее; снова бежит к списку, находит следующую вещь и т. д. Легко предсказать, что будет дальше — через месяц, полгода, год. Список «перейдет во внутренний план», станет просто хорошо известным набором вещей, примерно таким, какой мы держим в уме, когда собираемся на работу или в университет на занятия.
Резюмируем основные положения теории развития высших психических функций Л. С. Выготского.
Принципиальное отличие человека от животных состоит в том, что он овладел природой с помощью орудий. Это наложило отпечаток на его психику: он научился овладевать собственными психическими функциями. Для этого он также использует орудия, но орудия особые, психологические. В качестве таких орудий выступают знаки, или знаковые средства. Они имеют культурное происхождение. Наиболее типичной и универсальной системой знаков является речь.
Первоначально — в фило- и онтогенезе — психологические орудия выступают во внешней, материальной форме и используются в общении как средства воздействия на другого человека. Со временем человек начинает обращать их на себя, свою собственную психику. Интериндивидуальные отношения превращаются в интраиндивидуальные акты самоуправления. При этом психологические орудия из внешней формы переходят во внутреннюю, т. е. становятся умственными средствами.
Таким образом, высшие психические функции человека отличаются от низших, или естественных, психических функций животных по своим свойствам, строению, происхождению: они произвольны, опосредованны, социальны.
Переходя к оценке основных идей теории Л. С. Выготского, сначала упомянем некоторые критические замечания, которые делались и могут быть сделаны с современных позиций в ее адрес. Среди них упрек в слишком резком и как бы механическом разделении психических функций человека на «низшие», «натуральные», и «высшие», «культурные». Теперь преобладает мнение, что все психические процессы человека являются культурными или по крайней мере несут на себе отпечаток социальности.
Отмечалась также переоценка и даже абсолютизация Л. С. Выготским роли знака в формировании человеческого сознания. Фактор практической деятельности при этом оставался в тени.
Можно далее заметить, что некоторые положения теории и особенно терминология Л. С. Выготского несут на себе следы реактологической концепции, господствовавшей в то время как вариант «материалистической психологии». Например, тезис о том, что «психические процессы суть не что иное, как реакции на вызывающие их стимулы», Л. С. Выготский называл «основным психологическим законом» [22, т. 3, с. 47].
Конечно, для описания человеческого поведения Л. С. Выготский сделал принципиально новый шаг, разъединив знаменитую связку бихевиоризма S—R и поместив между ее членами «X» — совершенно особое образование, орудие-знак. Однако и этот знак он назвал «стимулом».
Когда в качестве такого «стимула» выступает узелок, этот термин звучит еще довольно естественно: узелок действует на человека как любой другой внешний объект, вызывая воспоминания. Но сам Л. С. Выготский справедливо расширяет список «знаков», относя к ним язык, математическую символику; произведения искусства, различные схемы. Все это уже гораздо менее адекватно называть «стимулами», не говоря уже о таких «опосредствующих образованиях», как рассуждения, оценки, нравственные нормы и т. п.
Эти и другие замечания связаны, как уже говорилось, с незавершенностью теории Л. С. Выготского, с особенностями исторического и научного фона, на котором она создавалась, с ее ближайшими целями — как видел их сам автор.
Какое влияние оказала культурно-историческая теория Л. С. Выготского на дальнейшее развитие советской психологии? По крайней мере два фундаментальных положения теории сохраняют непреходящее значение и в настоящее время. Это положение об опосредствованном характере высших психических функций, или произвольных форм поведения человека, и положение об интериоризации как процессе их формирования. Правда, в ходе последующих десятилетий менялось терминологическое оформление этих главных идей, смещались некоторые акценты, но общий смысл их сохранялся и развивался.
Например, развитие личности понимается как развитие прежде всего способности к опосредствованному поведению. Однако «средствами» здесь оказываются не столько «стимулы» или «знаки», сколько такие сложные образования, как социальные нормы, ценности и т. п.
Идея Выготского об интериоризации психологических орудий и способов их употребления в дальнейшем была распространена на формирование умственных действий (П. Я. Гальперин). Она составила основу понимания природы внутренней деятельности как производной от внешней, практической, деятельности с сохранением принципиально того же строения (А. Н. Леонтьев). Она выразилась в понимании личности как структуры, образующейся путем интериоризации социальных отношений.
Наконец, применение культурно-исторического подхода позволило развить представления о качественной специфике человеческого онтогенеза в целом (в отличие от индивидуального развития животных). Теоретическое обобщение этого вопроса было сделано А. Н. Леонтьевым в публикациях конца 50-х — начала 60-х гг.
Хорошим эпиграфом к указанному вопросу могут служить слова Л. С. Выготского о том, что разработанный им метод «…изучает ребенка не только развивающегося, но и воспитуемого, видя в этом существенное отличие истории человеческого детеныша». И далее: «Воспитывание же может быть определено как искусственное развитие ребенка» [22, т. 1,с. 107].
Если посмотреть в целом на ситуации индивидуального развития детеныша животного и ребенка, то можно увидеть их существенные различия по целому ряду параметров.
Будущее поведение животного в своих главных чертах генетически запрограммировано. Индивидуальное научение (облигатное и факультативное) обеспечивает лишь адаптацию генетических программ к конкретным условиям обитания. В отличие от этого, человеческое поведение генетически не предопределено. Так, выросший вне социальной среды ребенок не только не научается говорить, но даже не осваивает прямохождение. Ребенок в момент рождения, по меткому выражению А. Пьерона, не человек, а только «кандидат в человека» [цит. по: 56, с. 187].
Это связано с одним важнейшим обстоятельством: видовой опыт человека зафиксирован во внешней, «экзотерической» (по выражению К. Маркса) форме — во всей совокупности предметов материальной и духовной культуры. И каждый человек может стать представителем своего вида — вида homo sapiens, только если он усвоит (в определенном объеме) и воспроизведет в себе этот опыт.
Таким образом, усвоение, или присвоение, общественно-исторического опыта есть специфически человеческий путь онтогенеза, полностью отсутствующий у животного. Отсюда обучение и воспитание — это общественно выработанные способы передачи человеческого опыта, способы, которые обеспечивают «искусственное развитие ребенка».
Разберем все сказанное с помощью схем на рис. 12. Слева (а) изобразим индивида животного, справа — человеческого индивида (б). В верхней части каждой схемы (1) обозначим наследственные предпосылки поведения. В нижней части — индивидуальный опыт, приобретенный в результате онтогенетического развития (2).
В случае животного к п. 1 следует отнести безусловно-рефлекторные механизмы, инстинкты. В ходе индивидуального развития они созревают, формируются, приспосабливаются к изменчивым элементам внешней среды. В целом это процесс «развертывания» наследственного опыта (А. Н. Леонтьев). На схеме он изображен стрелками 3.
В случае человека наследственные органические предпосылки (1) имеют следующие отличительные особенности. Во-первых, они жестко не детерминируют будущее поведение: многие инстинкты у человека в результате общественной истории оказались расшатаны и стерты. По замечанию одного французского ученого, человечество освободилось от «деспотизма наследственности» [цит. по: 56, с. 400]. Во-вторых, в генетических структурах мозга не смог зафиксироваться относительно молодой собственно человеческий видовой опыт, т. е. достижения его культурной истории. В-третьих, мозг человека отличается чрезвычайной пластичностью, особой способностью к прижизненному формированию функциональных систем.
Все перечисленное в целом составляет условие для безграничного развития специфически человеческих способностей и функций. Но это лишь условия — потенциальная, биологически обеспеченная возможность (пунктирные стрелки 3).
Чтобы такая возможность реализовалась, необходимо усвоение общественно-исторического опыта, представленного во внешней форме. По своей функции блок 4 эквивалентен блоку 1 у животных, так как обозначает собой всю совокупность видового опыта человечества. Однако по способу фиксации и способу передачи он принципиально отличен. Фиксация опыта — это процесс «опредмечивания» человеческих деятельностей, а передача его — процесс «распредмечивания» опыта при усвоении индивидом. Процесс усвоения человеческого видового опыта (стрелки 5) происходит в индивидуальной жизни ребенка, в его практической деятельности, которая обязательно опосредствована взрослым (6). Двоякая направленность стрелок 5 отражает одновременно активность ребенка по отношению к осваиваемому миру и воспитательную активность общества (взрослого), направленную на ребенка. (Замечу, что все элементы схемы начиная с п. 4 отсутствуют в случае животного.)
Дальнейший путь формирования конкретных психологических функций и способностей человека уже известен по концепции Л. С. Выготского. Напомню его краткую обобщающую формулировку: «…всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка, как категория интрапсихическая» [22, т. 3,с. 1451.
Итак, не развертывание естественно заложенного, а присвоение искусственного, культурно созданного опыта — вот генеральный путь онтогенеза человека. Этот путь и определяет социальную природу его психики.
Лекция 13
ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ. ПРИНЦИПЫ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА: ДОВОДЫ «ЗА» И «ПРОТИВ». ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ: «D-МИР», «М-МИР» И «СИНДРОМ ПИГМАЛИОНА» (ПО Дж. СИНГУ);
ТОЧКА ЗРЕНИЯ «МАРСИАНИНА»;
СНЯТИЕ ПРОБЛЕМЫ. ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО СО СТОРОНЫ ФИЗИОЛОГИИ. СОБСТВЕННЫЕ ЕДИНИЦЫ АНАЛИЗА. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ
Материалистический взгляд на психику, зародившийся в представлениях древних философов, все более утверждался в научном и обыденном сознании и в настоящее время является аксиомой, поскольку вряд ли можно всерьез подвергать сомнению связь между «мозгом» и «психикой».
На изучение «физиологических основ» психики, или «физиологических механизмов» психики, направлены усилия представителей многих дисциплин: медицины, физиологии, психофизиологии, нейропсихологии и др. На этот счет накоплен уже Монблан фактов, и их число продолжает умножаться. Однако и в наши дни продолжает дискутироваться одна проблема, которая имеет не конкретно-научный, а методологический характер. В истории естествознания она получила название психофизической, а с конца XIX в. — психофизиологической проблемы. Эти два названия употребляются и сейчас как синонимы.
Вы должны познакомиться с этой проблемой, потому что она имеет отношение к решению ряда фундаментальных методологических вопросов, таких как предмет психологии, способы научного объяснения в психологии, проблема редукционизма в психологии и др.
Нужно сразу сказать, что до сих пор нет окончательного и общепринятого решения психофизиологической проблемы. Это связано с ее чрезвычайной сложностью.
В чем суть этой проблемы? Формально она может быть выражена в виде вопроса: как соотносятся физиологические и психические процессы? На этот вопрос предлагалось два основных варианта решения.
Первое получило название принципа психофизического взаимодействия. В наивной форме оно было изложено еще Р. Декартом. Он считал, что в головном мозге имеется шишковидная железа, через которую душа воздействует на животных духов, а животные духи — на душу.
Второе решение известно как принцип психофизического параллелизма. Суть ею состоит в утверждении невозможности причинного взаимодействия между психическими и физиологическими процессами.
На позициях психофизического параллелизма стояла психология сознания (В. Вундт), имевшая в качестве своего необходимого дополнения (дополнения, а не органической части) физиологическую психологию. Это была отрасль науки, занимавшаяся физиологическими процессами, которые сопровождают психические процессы, или сопутствуют им, но в которых психология не должна искать своих законов.
Рассмотрим доводы «за» и «против» каждого из этих решений.
Итак, согласно принципу, или теории, психофизического взаимодействия физиологические процессы непосредственно влияют на психические, а психические — на физиологические. И действительно, казалось бы, фактов взаимодействия психических и физиологических процессов более чем достаточно.
Приведу примеры очевидного влияния мозга на психику. Их сколько угодно: это любые нарушения психических процессов (памяти, мышления, речи) в результате мозговой патологии — мозговых травм, опухолей и др.; психические следствия различных фармакологических воздействий на мозг — алкоголя, наркотиков и др.; психические феномены (ощущения, образы воспоминаний, эмоциональные состояния), возникающие при непосредственном раздражении мозговых центров и т. п.
Фактов, как будто свидетельствующих об обратных влияниях — психики на физиологические процессы, не меньше. Это прежде всего все произвольные движения (захотел — и поднял руку); психосоматические заболевания (язвы желудка, инфаркты); все психотерапевтические эффекты —излечение болезней в результате внушения, собственно психотерапии и т. п.
Несмотря на кажущуюся очевидность фактов взаимодействия психических и физиологических процессов, теория взаимодействия наталкивается на серьезные возражения.
Одно из них заключается в обращении к фундаментальному закону природы — закону сохранения количества энергии. В самом деле, если бы материальные процессы вызывались идеальной, психической, причиной, то это означало бы возникновение энергии из ничего. Наоборот, превращение материального процесса в психический (нематериальный) означало бы исчезновение энергии.
Есть несколько способов ответить на это возражение или обойти его. Во-первых, пренебречь законом и сказать: «Ну, что же, тем хуже для закона, раз он не выдерживает очевидных фактов». Но почему-то в литературе такого хода нет или его можно встретить очень редко. Другой способ состоит в том, чтобы ввести особую форму энергии — «психическую энергию».
Наконец, третий, наиболее распространенный, способ состоит в отказе от полного отождествления психического и идеального. Согласно этой точке зрения, следует различать два плана анализа: онтологический и гносеологический. Онтологический план — это план бытия, объективного существования. Гносеологический план — план познания, отражения.
Если имеется объективно существующий предмет и его сознательный образ, то с гносеологической точки зрения этот образ — идеальная сущность: ведь в человеческой голове нет второго материального предмета, а есть лишь отражение первого, объективно существующего. Однако с онтологической точки зрения образ — это материальный процесс, т. е. процесс в мозговом веществе. Таким образом, во всех случаях, когда налицо влияние тела на психику и психики на тело, происходит взаимодействие не материального с идеальным, а материального с материальным же. Так, мое намерение поднять руку есть факт сознания и в то же время мозговой физиологический процесс. Этот процесс может, если я окончательно решусь поднять и опустить на кого-то руку, перейти в моторные центры, затем в мышцы и выразиться в физическом действии. Но, может быть, нравственные соображения заставят меня воздержаться от этого действия. Нравственные соображения — это тоже материальный мозговой процесс, который вступил во взаимодействие с первым и затормозил его.
Аналогичное рассуждение можно провести для любого психосоматического явления. Итак, с трудностями принципа психофизиологического взаимодействия мы обходимся относительно просто, заменяя его принципом материальных взаимодействий.
Казалось бы, проблема решена! Но почему-то она продолжает беспокоить. Беспокойство это можно выразить следующим рассуждением. Допустим, все процессы материальны, но они все равно выступают в двух резко разных качествах, или формах: в субъективной (прежде всего в виде явлений, или фактов, сознания) и в объективной (в виде биохимических, электрических и других процессов в мозговом веществе).
Все равно существует два рода явлений, или два непрерывных потока: поток сознания и поток физиологических процессов. Как же соотносятся эти «потоки» между собой ? Возобновив, таким образом, основной вопрос и имея в виду все высказанные выше соображения, вы, по-видимому, ответите более осторожно. Вы теперь не будете утверждать, что процессы из одного ряда переходят в другой ряд. Скорее, вы будете готовы сказать, что процессы в обоих рядах соответствуют друг другу.
Так вы сделаете шаг в направлении второго классического решения — психофизического параллелизма.
Вообще говоря, параллелистических решений существует несколько. Они различаются по некоторым, иногда важным, но все-таки дополнительным утверждениям.
Так, дуалистический параллелизм исходит из признания самостоятельной сущности духовного и материального начал. Монистический параллелизм видит в психических и физиологических процессах две стороны одного процесса.
Главное же, что объединяет все эти решения — это утверждение, что психические и физиологические процессы протекают параллельно и независимо друг от друга. То, что происходит в сознании, соответствует, но не зависит от того, что происходит в мозговом веществе, и, наоборот, процессы в мозге соответствуют, но не зависят от того, что происходит в сознании.
Нужно понять глубокие основания для этого главного «параллелистического» утверждения. Ведь пока что нет ни одного факта или соображения, которые хотя бы на шаг приблизили нас к пониманию того, как физиологический процесс превращается в факт сознания. Больше того, по словам одного из современных психологов, наука до сих пор не видит не только решения этого вопроса, но даже подступов к этому решению.
А если невозможно представить себе процесс перехода одного состояния (события) в другое, то как можно говорить об их взаимодействии?
Может быть, самым правильным будет утверждение параалельного протекания и независимого соответствия указанных процессов?
Но сразу же вслед за принятием такой, казалось бы, вполне приемлемой и обоснованной точки зрения начинаются недоумения и неприятности.
Главное из них состоит в отрицании функции психики.
Рассуждение здесь идет примерно следующим образом.
Имеется материальный мозговой процесс. Он чаще всего запускается толчком извне: внешняя энергия (световые лучи, звуковые волны, механические воздействия) трансформируется в физиологический процесс, который, преобразуясь в проводящих путях и центрах, облекается в форму реакций, действий, поведенческих актов. Наряду с ним, никак не влияя на него, развертываются события в плане сознания — образы, желания, намерения. Но материальному процессу, так сказать, все равно, существуют эти субъективные явления или нет. Независимо от существования и содержания плана сознания физиологический процесс идет своим ходом.
Психический процесс не может повлиять на физиологический, также как, по образному сравнению В. Джемса, мелодия, льющаяся со струн арфы, не может повлиять на частоту их колебаний или как тень пешехода — на скорость его движения. Психика — это эпифеномен, т. е. побочное явление, никак не влияющее на ход материального процесса.
Один из важнейших научно-практических или, точнее, научно-стратегических выводов из этого представления состоит в следующем. Если течение физиологических процессов не зависит от психических процессов, то всю жизнедеятельность человека можно описать средствами физиологии.
В прошлом эта точка зрения носила название теории автоматизма. В. Джемс иллюстрирует ее следующим примером.
«Согласно теории автоматизма, — пишет он, — если бы мы знали в совершенстве нервную систему Шекспира и абсолютно все условия окружавшей его среды, то мы могли бы показать, почему в известный период его жизни рука его исчертила какими-то неразборчивыми мелкими черными значками известное число листков, которые мы для краткости называем рукописью «Гамлета».
Мы могли бы объяснить причину каждой помарки и переделки: мы все бы это поняли, не предполагая при всем том в голове Шекспира решительно никакого сознания.
Подобным же образом теория автоматизма утверждает, что можно написать подробнейшую биографию тех 200 фунтов или около того тепловатой массы организованного вещества, которое называлось Мартин Лютер, не предполагая, что она когда-либо что-либо ощущала» [32, с. 203].
Таким образом, параллелистическое решение влечет за собой взгляд на психику как на эпифеномен, а этот взгляд, последовательно проведенный до конца, приводит к таким абсурдным утверждениям, будто можно понять творчество Шекспира, не предполагая у него вовсе каких-либо чувств, переживаний, мыслей, сознания вообще.
Но если даже найдутся горячие головы, которые скажут: «Да, в принципе физиология когда-нибудь (пусть очень не скоро) опишет и объяснит на своем языке течение чувств, мыслей и других сознательных явлений», останется еще критический вопрос: а зачем тогда возникло сознание?
Как замечает Ж. Пиаже, с эпифеноменалистической точки зрения сознание должно рассматриваться как результат случайной мутации. Но тогда становится необъяснимым неуклонное развитие психики в филогенезе и бурное развитие в онтогенезе, наконец прогресс сознательных форм отражения в историческом развитии человечества, который обнаруживается хотя бы в неуклонном развитии научных знаний. Таким образом, несмотря на самые оптимистические надежды физиологов, необходимость объяснения полезной функции психики остается.
Итак, подытожим трудности, на которые наталкиваются два основных решения психофизической проблемы.
Теория взаимодействия оказывается несостоятельной, во-первых, по «энергетическим» соображениям: если психический процесс понимается как нематериальный, то данная теория вынуждена признать возникновение материи из ничего и превращение материи в ничто. Во-вторых (если за психическими процессами признать материальную природу), остается принципиальная невозможность проследить последовательный переход психического процесса в физиологический и наоборот.
Перед лицом этих трудностей более приемлемым кажется параллелистическое решение в варианте материалистического монизма. Оно исходит из представления о существовании единого материального процесса, который имеет две стороны: физиологическую и психическую. Эти стороны просто соответствуют друг другу. Однако в таком случае психика оказывается в роли эпифеномена: физиологический процесс от начала до конца идет сам по себе и не нуждается в участии психики. Сознание оказывается безработным, пассивным созерцателем.
Признание же полезной функции сознания (и психики вообще) возвращает к идее взаимодействия. В самом деле, что значит утверждение о том, что сознание имеет полезную функцию? Это значит, что без него процессы жизнедеятельности в целом не могут осуществляться, что процессы сознания «вставлены» в процесс жизнедеятельности в качестве необходимого звена. А из этого и следует, что они оказываются причиной некоторых физических действий: например, «я испугался и поэтому побежал».
Так мы снова приходим к тому, с чего начали, т. е. как бы попадаем в заколдованный круг или заходим в тупик. А теперь попробуем выбраться из этого тупика.
Я хочу предложить вам решение психофизической проблемы, которое представляется мне наиболее удачным. Как вы увидите, оно включает в себя целый ряд идей, высказанных учеными разных специальностей в очень разное время, и является их оригинальным синтезом*.
____________
* Чрезвычайно ценные соображения были высказаны в ходе обсуждения этой проблемы А. Н. Рудаковым, который является фактическим соавтором последующего текста.
Оно начинается так же, как и монитический вариант параллелистического решения: имеется единый материальный процесс, и то, что называется физиологическим и психическим — это просто две различные стороны единого процесса.
Однако чтобы дальше размежеваться с параллелистическим решением, чтобы не впасть в его трудности и заблуждения, нужно более глубоко и более четко понять, что это за единый процесс и что представляют собой его различные стороны.
Для этого необходимо сделать отступление в некоторые более общие вопросы и вспомнить о существовании онтологической и гносеологической точек зрения.
Существуют внешний материальный мир — это одно; и существуют наши знания о нем — это, конечно, другое. Наши знания далеко неполны, неточны, часто неверны. Мир гораздо сложнее, разнообразнее, богаче наших представлений о нем — в этом мы убеждаемся на каждом шагу. Развитие наших знаний о мире представляет бесконечный процесс.
Если присмотреться к этому процессу, то можно обнаружить ряд интересных, не совсем обычных его свойств.
Прежде всего довольно очевидно, что мы подходим к познанию мира с разных сторон, выделяя в нем разные свойства, отношения, взаимосвязи.
И каждый тип отношений, связей становится достоянием отдельной науки — ее предметом. Это, повторяю, стало уже очевидным или довольно привычным представлением.
Но сделаем следующий шаг и присмотримся к тому, что происходит в пределах отдельной науки. Мы обнаруживаем, что в каждой науке вырабатывается система представлений о закономерностях мира именно с той стороны, которая выделена данной наукой. Эти представления составляют теории сегодняшнего дня.
Но далее выясняется и следующее: как в масштабах науки, так и в голове отдельных ученых происходит онтологизация тех представлений о мире, которые они в данный момент имеют, т. е. объект объявляется тем, что о нем сейчас думают. Если бы, например, физика прошлого века спросили, что есть любой предмет, то, вероятно, он ответил бы: совокупность далее неделимых атомов и ничто другое.
Современный математик Дж. Синг вводит для описания тенденции онтологизировать научные знания о мире специальные термины [101]. Он предлагает обозначать реально существующий мир «D-миром» (т. е. действительным миром), а наши представления, теории, о нем — «М-миром» (т. е. модельным миром). Процесс онтологизации он описывает как превращение «М-мира» в «D-мир», а ошибку, в которую при этом невольно впадают ученые, называет «синдромом Пигмалиона»*. Дж. Синг замечает далее, что с тех пор, как он открыл для себя существование этого синдрома, он стал просвечивать на него своих коллег-физиков, и его опасения в большинстве случаев оправдались: почти все они оказались в большей или меньшей степени зараженными этим синдромом.
______________________
*По греческой мифологии Пигмалион — скульптор, который создал настолько прекрасную статую девушки, что влюбился в нее.
Немного позже, после изложения теории относительности, которую Дж. Синг обозначает, как «М2-мир», отводя обозначение «М1-мир» для ньютоновской физики, он признается, что сам, по-видимому, безнадежно болен «синдромом Пигмалиона». К этому выводу его приводит попытка ответить на вопрос: «Что есть самое реальное, т. е. самое глубокое и фундаментальное, в мире, который его окружают?» «Вот я смотрю вокруг себя, — пишет Дж. Синг, — я вижу: стол, книги, пишущую машинку… Они, конечно, реальные вещи, но сказать это — слишком тривиально. Самое реальное и фундаментальное, что лежит в основе этих и всех других вещей, — это метрический тензор!»* [101, с. 85].
______________
* Функция от 10 переменных, с помощью которой в теории относительности описывается кривизна пространства, которая, в свою очередь, зависит от распределения масс.
Нужно признать, что онтологизация научных представлений и теорий (синдром Пигмалиона) — процесс естественный и необходимый в науке. Без него почва, на которой стоит ученый, стала бы слишком зыбкой, психологически неустойчивой. Нельзя оглядываться на каждом шагу, напоминая себе, что наше представление условно и верно только относительно. От этого все равно не изменятся локальные и конкретные шаги в науке.
Однако в критические периоды развития науки (в периоды смены теорий) или перед лицом критических проблем разграничение реальности и того, что мы представляем о ней, бывает полезным.
К таким критическим проблемам и относится психофизическая проблема.
Вернемся теперь к поставленным вопросам: (1) сторонами какого единого процесса является то, что называется физиологическим и психическим процессами? и (2) в каком смысле нужно понимать их лишь как стороны единого процесса?
На первый вопрос — вопрос о характере единого процесса — ответить очень трудно и, строго говоря, невозможно. Ведь для того чтобы описать какой-то процесс, нужно уже выбрать систему понятий, связанных и согласующихся между собой, т. е. уже выделить какой-то аспект или сторону процесса.
Но все же, чтобы хоть частично преодолеть эту трудность, примем возможно более общую и в то же время непривычную для человека точку зрения — точку зрения гипотетического «марсианина».
Предположим, что какой-то необычный космический житель смотрит в определенную точку пространства, где находится планета Земля, и обнаруживает там флуктуирующие тепловатые массы. Он обнаруживает, что эти массы (т. е. люди) существуют во времени и пространстве, что они имеют определенные границы, что они постоянно передвигаются, поддерживают постоянный обмен веществ со средой, взаимодействуют между собой и т. п.
Если бы марсианин спустился и подслушал, как называют весь этот процесс сами тепловатые массы, то он услышал бы слова вроде: «процесс жизнедеятельности», «процесс уравновешивания со средой», «борьба за реализацию потребного будущего» и т. д.
Но, вероятно, с его точки зрения, все эти слова были бы скудны и бедны для обозначения осуществляющегося процесса! Потому что, будучи необыкновенным существом, он имел бы необыкновенные «фильтры», через которые рассматривал бы этот процесс. И вот, взяв один фильтр, он обнаружил бы, что массы наполнены какими-то состояниями: гневом, радостью, ненавистью, восторгом — и что эти состояния распространяются на другие массы, заражают их, влияют на их функционирование. Взяв другой фильтр, он увидел бы совсем другое, например распределение информации: сгустки информации, каналы передачи информации и т. п. Он увидел бы, что плотность информации не соответствует плотности распределения самих масс, что информация скапливается и оседает в одних местах (например, в библиотеках), рождается в других (в головах ученых) и т. д. Через третий фильтр он увидел бы только биохимические процессы и больше ничего, а через четвертый — трансформацию метрических тензоров. И все это, повторяю, он увидел бы, наблюдая один и тот же процесс — существование в пространстве и времени сгустков высокоорганизованной материи. Что же, он мог бы назвать его процессом жизнедеятельности человека (или человечества), понимая, однако, необыкновенное богатство и разносторонность его.
Необходимо постараться принять точку зрения марсианина. И это не так уж трудно сделать, потому что в его «волшебных фильтрах» можно увидеть замечательную способность научного мышления выделять в одних и тех же объектах очень разные аспекты, стороны или отношения.
Образ марсианина просто помогает несколько раскрепостить наше мышление, избавиться от подстерегающего соблазна заключить мир в прокрустово ложе обыденных представлений. Он помогает осознать, что в процессе, который нас интересует, имеется гораздо больше сторон, чем это диктует хотя бы та же психофизическая проблема.
Дело обстоит не так, что существует мозговой физиологический процесс и в качестве его отсвета, или эпифеномена, психический процесс. И мозговые, и психические «процессы» (процессы в кавычках, ибо они не имеют самостоятельного существования) — это лишь две разные стороны из многих сторон, выделяемых нами, обобщенно говоря, в процессе жизнедеятельности.
«Фильтры», с помощью которых выделяются эти стороны, — это прежде всего методы познания: физиологическая сторона выявляется, например, методом погружения электродов в мозговое вещество, методами биохимии и т. д., психологическая сторона (пусть пока речь идет о сознательных процессах) — непосредственной констатацией внутреннего опыта, явлений сознания.
Итак, мы составили несколько более полное представление о том, что физиологические и психические процессы в действительности есть просто разные стороны одного и того же процесса. Главная опасность, которой следует избегать, — это онтологизация указанных сторон.
Теперь вернемся к основному вопросу: как же соотносятся физиологические и психические процессы? Из сказанного должно быть ясно, что названные процессы не могут ни взаимодействовать, ни прямо соотноситься друг с другом.
Так, например, не может взаимодействовать красота человеческого тела с подробностями устройства и функционирования его внутренних органов. То, что выделяет скульптор и физиолог, — это разные стороны одного объекта, человеческого тела, которые обнаруживаются благодаря разным точкам зрения на него.
Воспользуемся другим примером, заимствованным у Э. Титченера.
Он сравнивает то, что «видит» физиология мозга, и то, что открывается сознанию, с разными видами на один и тот же город — с запада и с востока. Очевидно, что вид города с запада не может взаимодействовать с видом города с востока. Первый не может быть также и причиной второго. Но если из-за общих условий изменится один, то изменится и другой. Например, вид города с запада при солнечном свете и при луне будет разным, город будет выглядеть различно при солнце и при луне также и со стороны востока.
Подставим в эту последнюю часть сравнения какой-нибудь пример. Предположим, картина города с запада при лунном свете — это течение мозговых процессов в нормальном состоянии, а вид с той же западной стороны при солнце — это течение мозговых процессов после принятия какого-нибудь возбуждающего средства, например кофеина. Тогда нормальное состояние психики можно сравнить с восточным видом города при луне, а состояние повышенного возбуждения психики — с видом с востока при солнечном освещении. На этом примере хорошо видно, как видимые случаи «взаимодействия души» и тела могут быть проинтерпретированы совершенно иначе — просто как два разных проявления одной общей причины, стоит только принять меры против онтологизации разных сторон одного процесса.
Итак, психофизическая проблема решается или, лучше сказать, снимается по крайней мере в той части, которая относится к вопросу о соотношении физиологических и психических процессов.
Вариант монистического параллелизма в решении этой проблемы очень часто связывается с другим ходом мысли, а именно с утверждением, что любой психический процесс может быть описан с физиологической стороны, и не только описан, но и объяснен! Надо сказать, что этого мнения (а иногда и убеждения) придерживаются многие физиологи и в наши дни.
Несколько лет тому назад в одной дискуссии на факультете психологии выступили два профессора. Один из них очень эмоционально говорил о том, что психология имеет свой предмет и должна искать свои законы. Другой профессор запальчиво возражал примерно так: «Что бы здесь ни говорили, а наука о мозге будет отвоевывать у психологии все большие и большие области. И этот процесс никто не остановит!»
Убеждение, что все психическое может быть, и действительно будет, объяснено с развитием «науки о мозге», обозначается как позиция физиологического редукционизма в психологии. Необходимо разобраться с этой позицией, понять ее правомерность или ошибочность.
Итак, действительно ли физиология рано или поздно сможет объяснить все психические явления и процессы? Я собираюсь показать, что подобные надежды или претензии физиологии несостоятельны. Она принципиально не сможет описать и тем более объяснить процессы психической деятельности только с одной своей стороны.
Для начала воспользуемся теперь уже знакомыми вам представлениями из области физиологии движений.
Зададим себе вопрос: описание уровней построения движения — это задача физиологии? Конечно, да. Для того чтобы описать уровни, на которых строится движение, нужно выявить рецепторные поверхности, с которых идут сигналы обратной связи, проводящие пути, моторные центры, мозговые структуры, где замыкаются кольца управления и т. п., т. е. описать ход процесса управления движением внутри организма. А что необходимо для всего этого?
Вы уже знаете (и в этом состоит одно из замечательных открытий Н. А. Бернштейна), что такое физиологическое описание не сможет состояться, если не привлечь одного фундаментального понятия — «задача»! Без него нельзя узнать, через какие центры пойдет управление движением, какие кинематические характеристики будет оно иметь, какими сигналами оно будет афферентироваться. Теперь я вас спрошу: а из какого арсенала взято это понятие — «задача»? Это физиологический термин? Нет. Вспомните, А. Н. Леонтьев замечает, что задача, по Н. А. Бернштейну, — это то же, что цель в его терминологии, т. е. сознательная цель. Таким образом, двигательная задача — это самая настоящая психологическая категория.
Итак, чтобы решить сугубо физиологический вопрос, необходимо привлечь эту категорию.
.Но тут физиолог может возразить. «Подождите, — скажет он, — вы же сами говорили, что всякая цель закодирована в материальном процессе, что имеется мозговой код модели потребного будущего, значит, вашу «фундаментальную психологическую категорию» — сознательную цель — можно тоже переложить на физиологический язык!» И здесь я решительно отвечу: нет, нельзя. Что же из того, что за целью стоит материальный процесс? Да, стоит, но описать его своими средствами физиологи не смогут. Из первого — существования — вовсе не следует второе — возможность исчерпывающего описания! И вот почему.
Давайте задумаемся: физиолог собирается описать через процессы в мозговых клетках задачу, или цель, движения, притом любого движения.
Возьмем предметное действие уровня D. Что такое цель движения на этом уровне? Это представление о том, каким должен стать предмет (или предметная ситуация) в результате движения, правда? Значит, для того чтобы выразить эту цель через материальный мозговой процесс, что нужно закодировать? Нужно закодировать «потребное» состояние предмета! Вдумайтесь, речь идет уже не о состояниях организма (как, например, в случае акцептора действия акта чихания), а об описании на физиологическом языке состояния объекта, а для всей совокупности движений уровня D — всего предметного мира. Эта задача совершенно абсурдна, не говоря уже о том, что она просто невыполнима. О движениях уровня Е и о социальных целях можно уже и не говорить! Другое дело, если я опишу движения уровня А или В — улыбку, потягивание, координацию движений конечностей и т. д. Вот там цель движений будет представлена закодированными состояниями организма, будущим состоянием его двигательного аппарата. Такая задача уже вполне посильна для физиологии. Она, правда, далека еще от разрешения, но по крайней мере для описания состояний организма, процессов в нем физиологический язык как раз и предназначен.
Однако, повторяю, как только мы выходим за пределы организма и начинаем обсуждать, например, движения, соотнесенные с внешним пространством или тем более с предметным миром, так возможности физиологического языка кончаются!
Кстати, Н. А. Бернштейн это отлично понимал. Он писал, что, поднимаясь постепенно по лестнице уровней, мы неощутимо попадаем вместе с ними в область психологии. Таким образом, физиологическая концепция Н. А. Бернштейна убедительно демонстрирует ограниченные возможности собственно физиологических описаний (в духе классической физиологии) процессов деятельности человека, конкретно его движений.
Но обсуждение отношений психологии и физиологии можно продолжить.
Если открыть современные руководства по психофизиологии, то можно увидеть на каждой странице физиологическую интерпретацию психических явлений. Там можно прочесть, что такие-то физиологические процессы обеспечивают определенные психические процессы, что они реализуют психические процессы, что они лежат в основе психических процессов, составляют их механизмы.
Как относиться к этим словам: «обеспечивают», «реализуют», «лежат в основе»? Как все эти термины (которые в данном контексте употребляются как синонимы) соотносятся с термином «объясняют»? Можно ли, раскрывая физиологические механизмы, объяснить психические процессы? Одно ли это и то же? И если нет, то в чем разница?
Я начну ответ с примера, который заимствую у Сократа. В диалоге «Федон» Сократ среди прочих вопросов поднимает и тот, который нас сейчас интересует.
«Кто-нибудь, — говорит он, — принявшись обсуждать мои действия, мог бы сказать: «Сократ сейчас сидит здесь (это значит в афинской тюрьме), потому что его тело состоит из костей и сухожилий… Кости свободно ходят в своих суставах, сухожилия, растягиваясь и напрягаясь, позволяют Сократу сгибать руки и ноги. Вот по этой-то причине он и сидит теперь здесь, согнувшись» [87, т. 2, с. 68]. Говорить так, продолжает Сократ, значит «не различать между истинной причиной и тем, без чего причина не могла бы быть причиной» <…>, «без костей, сухожилий и всего прочего, чем я владею» <…>. «я бы не мог делать то. что считаю нужным» [87, т. 2, с. 69]. Нужным же Сократ считает принять наказание, которое ему назначило государство. Это действие он считает «более справедливым и более прекрасным», чем бежать из тюрьмы и скрываться, как
предлагали ему друзья.
Таким образом, истинная причина действий Сократа — это мотив гражданского долга, кстати вполне осознанный им.
Комментируя этот пример Сократа, Л. С. Выготский пишет, что вопрос: «Почему Сократ сидит в афинской темнице?» — прототип всех вопросов, поставленных перед современной психологией и требующих от психологии причинного объяснения.
К этому можно добавить, что критика Сократом псевдоответа на поставленный вопрос может служить образцом критики любых современных попыток объяснить целиком психологические факты физиологическими средствами (т. е. попыток редукционизма). Приведу еще один более близкий нам, т. е. более современный пример.
Когда вы через некоторое время будете более подробно знакомиться с процессами внимания, то в специальных руководствах прочтете, что феномен внимания физиологически объясняется активирующими влияниями на кору больших полушарий со стороны неспецифической системы мозга (ретикулярной формации). В коре создается очаг повышенного возбуждения, при оптимальном уровне которого обеспечивается ясность и четкость соответствующих воспринимаемых содержаний. Исходя из этих же представлений, избирательность внимания объясняется локальностью неспецифических влияний, а отвлечение внимания — возникновением другого очага возбуждения, вызванного новым стимулом.
Но наряду с этими сведениями вы получите и другие. Вы узнаете, что эффекты внимания непосредственно связаны со структурой и динамикой деятельности. Например, что в поле внимания всегда оказывается содержание, соответствующее цели действия. Так что, если вы хотите направить внимание на предмет, вы не должны «таращить» на него глаза, а стать деятельным в отношении него.
Вот вам два объяснения или две причины: внимательны потому, что в таком-то участке головного мозга у вас создался очаг возбуждения, — и внимательны потому, что в отношении данного содержания поставлена цель и вы начали действовать в направлении реализации этой цели.
Какая из этих двух причин более истинна? По-моему, вторая. Я отвечаю так не из-за пристрастного отношения к психологии и психологическому типу объяснения, а из того простого соображения, что только анализ деятельности может объяснить также и то, почему данный очаг возбуждения вообще возник и возник именно в данном участке мозга. Динамика «очага», рассматриваемая в пределах одного мозга будет оставаться непонятной и, что весьма существенно, недоступной управлению.
Итак, и к этому примеру вполне подходит мысль Сократа. Одно, т. е. структура и ход деятельности, — истинная причина; другое, т. е. физиологические механизмы, — то, без чего причина не могла бы быть причиной. И добавляю еще словами Сократа: «Это последнее толпа, как бы ощупью шаря в потемках, называет причиной — чуждым, как мне кажется именем» [87, с. 69].
Разберем еще один вопрос: ну а хоть какие-нибудь психологические факты физиология объясняет? Вот, например, у человека болит голова, он ничего не может понять. И не нужно высоких материй для объяснения: не спал ночь (допустим, к зачету готовился), вот клетки и отказывают!
Или возьмем более академический пример: человек посмотрел на яркую лампу, перевел глаза на стену и видит подвижное черное пятно — это так называемый последовательный образ. Психофизиологи очень хорошо объясняют этот феномен: под действием яркого света «утомились» соответствующие рецепторы сетчатки (явление «утомления» тоже может быть раскрыто через анализ определенных биохимических процессов), вот они и не реагируют на световые лучи, поступающие на них. А через некоторое время нормальное состояние рецепторов восстановится, и тогда последовательный образ исчезнет. Описали физиологическим языком эффект? Да, и вроде бы даже объяснили его в физиологических терминах.
Но давайте осознаем: что объяснено? Можно ответить: объяснен тот факт, что человек видит черное пятно. Тогда я попрошу ответить более аккуратно: удалось объяснить, что человек видит черное пятно или что он видит черное пятно! Придется ответить, что объяснено видение черного пятна, потому что сам процесс видения, видения вообще (как феномена превращения световой энергии в факт сознания), никто объяснять не собирался. Его просто «вынесли за скобки». И так обстоит дело с любым «объяснением» в современной психофизиологии: любой объясненный факт на сегодняшний день почти всегда оказывается лишь маленькой частностью невероятно сложного явления. Причем нередко частность выдается за главное, а о существовании всего явления в целом как бы вовсе забывается (в примере Сократа через устройство костей, суставов и жил можно было бы объяснить, почему он сидит здесь согнувшись, но не почему он сидит здесь вообще).
Итак, генеральный путь развития современной психофизиологии состоит в том, чтобы «перевести» на свой язык некоторые стороны психических процессов, те стороны, которые она может «перевести». Эту научную стратегию называют иногда эмпирическим параллелизмом. Последний следует отличать от философского параллелистического решения.
Эмпирический параллелизм выражается в непрекращающихся попытках описать одни и те же явления или процессы средствами двух наук: физиологии и психологии. И вот в ходе этих поисков происходит грандиозный эксперимент: нащупываются границы (именно нащупываются, так как они далеко не везде ясны), дальше которых не могут пойти физиологические описания (и объяснения), — и должны вступить в силу психологические категории. С одной такой границей мы уже познакомились благодаря работам Н. А. Бернштейна при анализе организации движений и действий.
Вы, конечно, понимаете, что обратной стороной этого процесса является очищение, отработка и прояснение психологических понятий и закономерностей.
В заключение поставлю еще одни вопрос: почему у психологической науки больше возможностей для объяснения поведения человека и почему они иные?
Дело в том, что психология имеет дело с другими единицами анализа, чем физиология, — с единицами (выражающимися, конечно, в ее понятиях) более крупными.
Вообще говоря, о том, что в системе разных наук мы имеем дело с единицами разного масштаба, или, как иногда говорят, единицами разных уровней описания, высказывались многие ученые, особенно те, которые интересовались методологическими проблемами науки.
Сошлюсь на еще одного современного ученого — физика Р. Фейнмана. В одной из своих лекций он проводит следующее рассуждение.
Можно заниматься атомным строением воды и рассматривать хаотическое движение атомов. С другой стороны, можно интересоваться поверхностным натяжением воды, которое заставляет воду сохраняться как целое. И когда мы будем думать о поверхностном натяжении воды, то, вообще говоря, можем вспомнить об ее атомном строении, но для определения того, почему вода существует как целое, об атомах вспоминать нет необходимости. Далее, можно перейти к волнам — и тогда и те и другие представления перестанут быть существенными. Наконец, от волн можно перейти к шторму. Шторм требует для своего описания многих разнообразных понятий. Однако если мы хотим проанализировать, в результате чего, например, потонул корабль, то нет нужды обращаться к отдельным волнам, к поверхностному натяжению и тем более к хаотическому движению атомов. Хотя они, конечно, имели место во время шторма.
Точно так же в психологии. Когда мы вводим такие понятия, как цель, мотив, субъект, «Я», волевой акт, развитие чувства и т. д., то нам не нужно обращаться к течению физиологических процессов', которые, конечно, при всем этом происходят. Мы должны начать с этих понятий и идти дальше, так сказать, вверх, а не вниз. Эти и подобные им понятия должны стать исходными.
Только тогда мы сможем понять и расшифровать такие механизмы, как механизм «кристаллизации» чувства, интериоризации действий, превращения цели в мотив; закон, согласно которому структура сознания зависит от структуры деятельности, и другие важнейшие механизмы и закономерности.
Итак, психология как наука имеет другие возможности потому, что пользуется понятиями, адекватными для другого уровня описания процесса жизнедеятельности. Заметьте, другого уровня описания единого процесса. Благодаря этим понятиям выделяются те аспекты существования человека, которые связаны с его взаимодействием с предметами, с людьми и с самим собой.
Подведем итог всей теме. Я не буду повторять отдельных рассмотренных положений, а только, пожалуй, подчеркну следующее.
Психофизическую проблему можно решить, если постараться избавиться от нескольких ложных ходов мысли. Я бы выделила два из них.
Первый: онтологизация стороны, которая выделяется в анализе, превращение ее в самостоятельный процесс, физиологические «процессы» и психические «процессы» — лишь две стороны сложного, многообразного, но единого процесса жизнедеятельности человека.
Второй: из того факта, что мозговой процесс сопровождает любые, даже самые сложные и тонкие «движения души», не следует, что эти «движения» могут быть адекватно описаны на физиологическом языке.
Самый общий вывод состоит в следующем: чем дальше будет развиваться физиология, тем более четко будут вычленяться задачи, решение которых более доступно только психологии с ее особым языком.
Раздел III
ИНДИВИД И ЛИЧНОСТЬ
Лекция 14
СПОСОБНОСТИ. ТЕМПЕРАМЕНТ
ПОНЯТИЯ «ИНДИВИД» И «ЛИЧНОСТЬ» СПОСОБНОСТИ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ. РЕЗЮМЕ.
ТЕМПЕРАМЕНТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СФЕРЫ ПРОЯВЛЕНИЯ;
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ВЕТВЬ УЧЕНИЯ О ТЕМПЕРАМЕНТЕ;
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ — «ПОРТРЕТЫ»;
УЧЕНИЕ О ТИПАХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА ТЕМПЕРАМЕНТ В ШКОЛЕ И. П. ПАВЛОВА. РАЗРАБОТКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ТЕМПЕРАМЕНТА В СОВЕТСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ (Б. М ТЕПЛОВЫМ, В. Д. НЕБЫЛИЦЫНЫМ И ДР.). ИТОГИ
Наиболее важные и интересные разделы общей психологии — те, в которых осуществляется целостный подход к человеку. В них человек рассматривается и со стороны присущих ему общечеловеческих свойств, и со стороны его неповторимой индивидуальности.
Главные понятия, которые здесь используются, — индивид и личность. Трактовка этих понятий в психологической литературе неоднозначна. Выберем лишь одну из них — ту, которая принадлежит А. Н. Леонтьеву [54].
Об индивиде говорят, когда рассматривают человека как представителя вида homo sapiens. В понятии «индивид» отражается по крайней мере два основных признака: во-первых, неделимость, или целостность, субъекта и, во-вторых, наличие у него особенных (индивидуальных) свойств, которые отличают его от других представителей того же вида.
Человек (или животное) рождается индивидом. Он имеет обусловленные природой особенности — генотип. Индивидуальные генотипичные свойства в процессе жизни развиваются и преобразуются, становятся фенотипическими. Как индивиды, люди отличаются друг от друга не только морфофизиологическими особенностями, такими как рост, телесная конституция, цвет глаз, тип нервной системы, но и психологическими свойствами — способностями, темпераментом, эмоциональностью.
Личность — это качественно новое образование. Оно формируется благодаря жизни человека в обществе. Поэтому личностью может быть только человек, и то достигший определенного возраста. В ходе деятельности человек вступает в отношения с другими людьми (общественные отношения), и эти отношения становятся «образующими» его личность. Со стороны самого человека формирование и жизнь его как личности выступают прежде всего как развитие, трансформация, подчинение и переподчинение его мотивов.
Это развиваемое А. Н. Леонтьевым представление о личности (назову его «понятием о личности в узком смысле») достаточно сложно и требует пояснений.
Прежде всего замечу, что оно не совпадает с более традиционной, расширенной трактовкой понятия «личность». Согласно этой трактовке в структуру личности входят и все психологические характеристики человека, и все морфо-физиологические особенности его организма вплоть до особенностей обмена веществ [см. 5; 94 и др.]. Популярность и стойкость такого расширенного понимания личности в психологической литературе объясняется, наверное, тем, что оно совпадает с общежитейским значением этого слова: для обыденного сознания личность — это конкретный человек со всеми его индивидуальными особенностями, все то, что, по меткому выражению А. Н. Леонтьева, «заключено под его кожей».
Однако научные понятия не всегда совпадают с житейскими по своим содержанию, объему, границам. Иногда они входят в противоречие с так называемым здравым смыслом и, несмотря на это, а может быть, и благодаря этому, становятся мощным орудием познания действительности.
Так обстоит дело с понятием «личность» в узком смысле слова. Оно позволяет вычленить очень важный аспект бытия человека, который связан с общественным характером его жизни. Человек как общественное существо приобретает новые (личностные) качества, которые отсутствуют у него, если его рассматривать как изолированного, несоциального индивида.
Чтобы лучше понять эти качества, рассмотрим их с точки зрения интересов и задач общества. Человеческое общество, чтобы существовать, должно заботиться о воспроизводстве своих членов, причем таких, которые способны поддерживать его устойчивость и развитие.
Но в лице каждого своего члена общество встречается с активным субъектом, деятельность которого определяется прежде всего его потребностями и мотивами. Отсюда главный путь действительного воспроизводства члена общества — это воспитание сто мотивов. Человек становится личностью в той мере, в какой система его мотивов оказывается сформированной требованиями общества. Конечно, «требования» эти могут быть очень разными. Они могут отражать интересы небольшой социальной группы, класса или человечества в целом («общечеловеческие идеалы»). От качества и масштаба тех ценностей, которые усваивает человек и к которым он приобщается, зависит качество и масштаб его личности. «Личность тем значительнее, — пишет С. Л. Рубинштейн, — чем больше в индивидуальном преломлении в ней представлено всеобщее» [95, с. 243].
Каждая личность с определенного момента начинает вносить более или менее ощутимый вклад в жизнь общества и отдельных людей. Вот почему рядом с понятиями «личность», «личностное» обязательно появляется другое понятие «общественно значимое». Конечно, «значимое» (т. е. имеющее значение) может быть как общественно приемлемым, так и общественно неприемлемым. И поэтому, например, преступление есть столь же личностный акт, что и подвиг, только в первом случае мы имеем дело с действиями преступной личности, во втором — героической.
Позже я более подробно остановлюсь на основных проблемах психологии личности. А в этой лекции рассмотрим такие комплексные индивидные характеристики человека, как способности, темперамент и характер.
Способности определяются как индивидуально-психологические особенности человека, которые выражают его готовность к овладению определенными видами деятельности и к их успешному осуществлению.
В этом определении следует обратить особенное внимание на слова: индивидуально-психологические, готовность и успешное осуществление деятельности.
Говоря об индивидуально-психологических особенностях, выделяют только такие способности, которые, во-первых, имеют психологическую природу, во-вторых, индивидуально варьируют. Все люди способны к прямохождению и освоению речи, однако к собственно способностям эти функции не относятся: первая — по причине непсихологичности, вторая — по причине общности.
Подчеркивая связь способностей с успешным осуществлением деятельности, мы ограничиваем круг индивидуально-варьирующих особенностей только теми, которые обеспечивают эффективный результат деятельности. Таким образом, в способности не попадают свойства темперамента или характера, хотя они являются и психологическими и индивидуально-варьирующими.
Наконец, слово готовность (к освоению и осуществлению деятельности) еще раз ограничивает круг обсуждаемых индивидуально-психологических свойств, оставляя за его пределами навыки, умения, знания. Так, человек может быть хорошо технически подготовлен и образован, но мало способен к какой-либо деятельности. Известны, например, феноменальные «счетчики» — лица, которые с чрезвычайной быстротой производят в уме сложные вычисления, но при этом обладают весьма средними математическими способностями.
Одна из самых сложных и волнующих тем — вопрос о происхождении способностей: они врожденны или формируются прижизненно?
Термины «врожденный», «прирожденный» (т. е. имеющийся к моменту рождения) обычно употребляют в смысле «полученный от природы», «переданный по наследству». Однако с научной точки зрения это нестрого: до рождения индивид проходит длительный путь внутриутробного развития, в течение которого он подвергается «средовым воздействиям». Поэтому термин «наследственный» более точен для выражения предполагаемого смысла.
Ответы, которые даются на поставленный вопрос, очень противоречивы и часто диаметрально противоположны. На одном полюсе можно найти высказывания типа: «музыкантом (математиком, поэтом) надо родиться», на другом — известный афоризм: «талант — это 1 % способностей и 99% пота». В пользу каждой альтернативы приводятся факты, соображения, доводы. Рассмотрим основные из них.
- Обычно считается, что доказательством врожденности (наследственности) способностей служит их раннее появление у ребенка. Известно. например, что у Моцарта обнаружились музыкальные способности в 3 года, у Гайдна — в 4 года; Рафаэль проявил себя как художник и 8 лет, Гаусс как чрезвычайно способный к математике — в 4 года и т. д.
- О врожденности способностей заключают также на основе повторения их у потомков выдающихся людей. Часто в связи с этим приводятся примеры одаренных семей и даже целых династий: Бахов. Даренной. Джемсов и др. К этой же категории относят данные специальных исследований.
Вот пример одной из старых работ этого рода.
Определилась музыкальность детей, у которых либо оба родителя были музыкальны, либо музыкален только один, либо оба родителя немузыкальны. Результаты оказались следующими (табл.2, привожу только для крайних случаев) [цит. по: 93, с. 247].
Таблица 2
Довольно очевидно, что подобные факты не являются строгими, поскольку не позволяют развеет действия наследственности и среды: при выраженных способностях родителей с большой вероятностью создаются благоприятные, а иногда и уникальные условия для развития тех же способностей у детей.
Вспоминаются в связи с этим яркие описания регулярных музыкальных праздников в семье Бахов. В их семейном хоре каждый участник, включая детей, получал свой «голос» и должен был вести его в сложной многоголосной фуге.
Итак, количественные данные только что приведенного типа, вообще говоря, любопытны. Однако они скорее отражают результаты совместного действия обоих факторов (генотипического и средового), чем говорят в пользу одного из них.
- Более строгие факты поставляют исследования с применением близнецового метода (хотя и он имеет свои ограничения [см. 901].
В ряде исследований сравнивались между собой показатели умственных способностей однояйцевых (монозиготных) близнецов и просто братьев и сестер (так называемых сибсов). Корреляция показателей внутри монозиготных пар оказалась очень высокой: 0,8-0,7; тогда как те же сравнения в парах сибсов дали коэффициенты порядка 0,4-0,5 [цит. по: 89].
- Впечатляющие результаты были получены также в экспериментальных исследованиях на животных с применением метода искусственной селекции.
 |
В одном исследовании крысы обучались находить путь в лабиринте. Из всех животных отбирались те, которые справлялись с задачей наиболее успешно, и те, которые, наоборот, были наименее успешными. Внутри каждой группы (успешных, или «умных», и неуспешных, или «глупых») производились скрещивания. В следующем поколении процедура повторялась: снова отбирались «умные» и «глупые» животные, и снова они скрещивались между собой внутри каждой группы. Так повторялось в течение шести поколений. На рис. 13 можно видеть результаты этих экспериментов. Они убедительно свидетельствуют о возможности накопления генетической предрасположенности к успешному обучению. Дивергенция животных по этому признаку к шестому поколению достигает внушительных размеров!
Таким образом, все-таки существуют доказательства в пользу генотипических предпосылок способностей. Но как велика их роль? Насколько успех в развитии способностей зависит от наследственных задатков?
Для обсуждения этого вопроса нужно рассмотреть противоположные факты — те, которые показывают действие внешних условий, а также воспитания и обучения на формирование способностей. Среди них есть также и менее, и более точные.
1. К менее точным, но достаточно впечатляющим, можно отнести результаты деятельности выдающихся педагогов. Известно много случаев, когда в различных областях деятельности (науки, искусства) вокруг одного учителя возникала большая группа талантливых учеников, по своей численности и уровню способностей необъяснимая с точки зрения простых законов статистики.
Некоторое время тому назад в Москве жил и работал учитель музыки М. П. Кравец. Он любил выбирать себе особенно неспособных в музыкальном отношении учеников и иногда доводил их до уровня учащихся Центральной музыкальной консерватории (уровня, как известно, самого высокого). Его увлекал сам процесс «производства способностей»; по его словам, неспособных детей вообще не бывает.
Мне довелось наблюдать работу М. П. Кравеца с начинающими учениками. Уроки всегда проходили в обстановке высокого эмоционального накала. Ребенок вовлекался в живое и разнообразное общение с учителем. Он пел, отгадывал музыкальные загадки, подбирал к звукам картинки, бил в бубен, ритмично двигался пол аккомпанемент. Все это сопровождалось радостным настроением и поощрениями учителя.
Урок обычно заканчивался хорошо знакомой мелодией, которую издавала музыкальная модель «спутника», а под ней ребенок находил открытку с большой красной «пятеркой». Следующий урок ожидался, конечно, с большим нетерпением.
2. Пожалуй, более точные доказательства представляют факты массового развития некоторых специальных способностей в условиях определенных культур. Пример такого развитая был обнаружен в исследовании звуковысотного слуха, которое проводилось О. В. Овчинниковой и мною под руководством А. П. Леонтьева [58].
Звуковысотный слух, или восприятие высоты звука, составляет основу музыкального слуха. Исследуя эту перцептивную способность с помощью специального метода, мы обнаружили сильную недоразвитость ее примерно у одной трети взрослых русскоязычных испытуемых. Как и следовало ожидать, эти же лица оказались крайне немузыкальны.
Применение того же метода к испытуемым-вьетнамцам дало резко отличные результаты: все они по показателю звукочастотного слуха оказались в группе лучших; по другим тестам эти испытуемые обнаружили также 100%-ную музыкальность.
Эти удивительные различия находят объяснение в особенностях русского и вьетнамскою языков: первый относится к «тембровым», второй — к «тональным» языкам. Во вьетнамском языке высота звука несет функцию смысло-различения, а в русском языке такой функции у высоты речевых звуков нет. В русском, как и во всех европейских языках, фонемы различаются по своему тембру. В результате все вьетнамцы, овладевая в раннем детстве родной речью, одновременно развивают свой музыкальный слух, чего не происходит с русскими или европейскими детьми.
Пример очень поучителен, так как показывает фундаментальный вклад условий среды и упражнения в формировании такой «классической» способности, какой всегда считался музыкальный слух.
3. Убедительные доказательства участия фактора среды были получены в экспериментальных исследованиях на животных, где применялся уже известный вам метод искусственной селекции.
На этот раз предварительно отобранное поколение «умных крыс» выращивалось в условиях обедненной среды, где они были лишены и разнообразных впечатлений и возможности активно действовать. В результате оказалось, что такие крысы при обучении в лабиринте действовали на уровне «глупых» животных, воспитанных в естественных условиях. Противоположный результат дали опыты с выращиванием «глупых» крыс в обогащенной среде: их показатели оказались приблизительно такими же, что и у «умных» крыс, выросших в нормальных условиях [цит. по:6].
Эти исследования не просто показывают значение условий воспитания для формирования способностей. Общий вывод, который можно сделать на их основании, более значителен: факторы среды обладают весом, соизмеримым с фактором наследственности, и могут иногда полностью компенсировать или, наоборот, нивелировать действие последнего.
Перед психологией очень остро стоит проблема выявления механизмов формирования и развития способностей. Тонкие механизмы такого процесса еще неизвестны. Однако некоторые сведения могут быть привлечены к обсуждению этого вопроса. Это, прежде всего, данные о сензитивных периодах формирования функций.
Каждый ребенок в своем развитии проходит периоды повышенной чувствительности к тем или иным воздействиям, к освоению того или иного вида деятельности. Известно, например, что у ребенка 2-3 лет интенсивно развивается устная речь, в 5-7 лет он наиболее готов к овладению чтением, в среднем и старшем дошкольном возрасте дети увлеченно играют в ролевые игры и обнаруживают чрезвычайную способность к перевоплощению и вживанию в роли. Важно отметить, что эти периоды особой готовности к овладению специальными видами деятельности рано или поздно кончаются, и если какая-то функция не получила своего развития в благоприятный период, то впоследствии ее развитие оказывается чрезвычайно затруднено, а то и вовсе невозможно. Например, в подростковом возрасте уже очень трудно научиться прямохождению и речи.
Исследования, проведенные, правда, в основном на животных, показали, что сензитивные периоды могут быть очень короткими и составлять недели и даже дни. Но зато формирование определенной функции может произойти почти «с места» — в результате одного-двух повторений. Именно так в детстве фиксируются, например, аффективные реакции.
Применяя все сказанное к специальным способностям, можно пока в виде самой обшей гипотезы предположить, что и их функциональные структуры имеют свои сензитивные периоды или отдельные моменты, в которые они получают (или не получают) своего рода толчки к развитию.
Часто приходится слышать такое рассуждение. В одной семье растут два ребенка; один проявляет явные способности к музыке, другой — нет. Значит, первый одарен «от природы», другому от природы «не дано» — ведь условия воспитания одни и те же.
Это рассуждение слишком огрубляет действительное положение вещей. Нужно различать макро- и микроусловия развития, и только последние можно принимать всерьез. Может быть, в жизни первого ребенка музыка прозвучала в тот момент, когда он был особенно готов к восприятию се, и она произвела на него глубокое впечатление. А другому ребенку пели, когда он был отвлечен, утомлен или болен.
Роль первых «толчков» в развитии способностей, по-видимому, очень велика, и они всегда связаны с яркими эмоциональными переживаниями.
Так, например, известно, что Чарли Чаплин впервые вышел на сцену в возрасте 5 лет. В тот день у его матери-актрисы сорвался голос. Ее освистали, и она ушла за кулисы. Возник неприятный разговор с директором театра, который боялся потерять денежный сбор. Но тут директору пришла в голову мысль вывести на сцену мальчика, который был здесь же с матерью за кулисами. Раньше ему доводилось видеть, как маленький Чарли пел и танцевал, подражая ей. Сказав несколько слов публике, директор ушел, оставив мальчика одного на ярко освещенной сцене. Тот начал петь, ему стали кидать деньги. Он воодушевился, и концерт продолжался с нарастающим успехом. В этот день Чарли испытал яркое эмоциональное потрясение; он понял, что сцена — его призвание.
Заметьте, что произошло это как раз в «артистический» сензитивный период, характерный для детей 5-6 лет. А у другого ребенка, может быть, тоже звучала «артистическая струнка», но подобных впечатлений и переживаний он не испытал, и она заглохла.
Мы, таким образом, подошли к еще одному вопросу, который непосредственно связан с развитием способностей, — к особенностям мотивации. В этом отношении очень яркий материал дает изучение одаренных детей [50].
Очень общий, неизменно повторяющийся факт состоит в том, что одаренные дети обнаруживают сильную тягу к занятиям той деятельностью, к которой они способны. Они могут буквально часами изо дня в день заниматься интересующим их делом, не уставая и как бы вовсе не напрягаясь. Это для них одновременно и труд и игра. Все их интересы, переживания, поиски, вопросы концентрируются вокруг этих занятий.
Мне пришлось наблюдать одного мальчика, у которого очень рано, в 3,5 года, пробудился интерес к числам. Едва с ними познакомившись, он провел много дней за пишущей машинкой, печатая последовательно числа натурального ряда от 1 до 2000. Очень скоро он освоил операции сложения и вычитания, практически не задерживаясь в пределах десятка. Больше всего его привлекало из окружения все то, что можно было измерить или выразить числом: возраст и годы рождения родственников, всевозможные веса, температуры, расстояния, количества страниц в книгах, цены, железнодорожные расписания. По всем этим поводам он активно спрашивал, переживал, размышлял. Персонажами его воображаемых игр были числа, многие из которых имели свой особый характер и поведение. Он сам «открыл» отрицательные числа, операцию умножения и т. п.
Легко понять, как много в результате подобной почти непрекращающейся деятельности успевает ребенок узнать, понять и усвоить, и как много потребовалось бы времени и усилий педагогу, чтобы специально всему этому его научить.
Трудно определить, как именно связаны высокие достижения способных детей и их эмоциональная увлеченность, что здесь причина, а что следствие. Справедливо считается, что оба эти фактора взаимосвязаны и один усиливает другой. Во всяком случае, повышенная мотивация и вызываемая ею напряженная активность являются и признаками и неотъемлемыми условиями развития любой способности.
После всего сказанного становится более или менее ясно, что ни один из полярных ответов на вопрос о происхождении способностей (их наследственности или приобретенное™) неверен.
Мнение о том, что способности генетически предопределены, по существу, содержит мысль о том, что они появляются «сами собой», без процесса развития. Очевидно, что при этом игнорируется факт напряженной деятельности, самообучения способных детей.
Противоположное мнение, что всему можно научить или научиться, если приложить старания, содержит ошибку неразличения труда, порождаемого сильной потребностью, увлекательного труда-игры и труда-обязанности. Нельзя научить человека, если отсутствуют его собственная активность, желание и увлеченность.
Резюмирую все сказанное о природе и развитии способностей.
Существуют природные предпосылки способностей — задачки. Еще нет точных сведений о том, в чем именно они состоят. Возможно, это некоторые свойства нервной системы — степень общей активности, повышенная чувствительность нервных структур и т. п. Возможно, это какая-то специальная предрасположенность, например, к восприятию звуков, красок, пространственных форм, к установлению связей и отношений, к обобщениям.
То, насколько проявится и оформится задаток, зависит от условий индивидуального развития. По результатам этого развития, т. е. по наличной способности, нельзя сказать, каков был «вклад» задатка. Нет пока способов определить меру участия генотипического фактора в развитии способностей.
Становление и развитие способностей, по-видимому, связано с прохождением ребенка через различные сензитивные периоды с возможным научением в эти периоды по типу «запечатления». У особо одаренных детей возможна синхронизация нескольких сензитивных периодов, обычно сменяющих друг друга. Тогда возможности развития их способностей многократно увеличиваются.
Неотъемлемый компонент способностей — повышенная мотивация. Она обеспечивает интенсивную и в то же время «естественно» организующуюся деятельность, необходимую для развития способностей.
Из всего сказанного становится ясно, что неблагоприятные условия для развития способностей могут быть различной природы. При высокой спонтанной активности ребенка это может быть нехватка соответствующих впечатлений — обедненная среда.
При неблагоприятных общих условиях воспитания, например, при частых психических травмах, энергия ребенка может тратиться на неконструктивные переживания и «откачиваться» от развивающихся способностей.
Наконец, неправильное обращение с мотивацией, например излишнее принуждение, может погасить спонтанную активность ребенка и «засушить» способность.
Темперамент — следующая индивидная характеристика человека. Учение о темпераменте имеет давнюю и сложную историю.
Под темпераментом понимают динамические характеристики психической деятельности. Выделяют три сферы проявления темперамента: общую активность, особенности моторной сферы и свойства эмоциональности.
Общая активность определяется интенсивностью и объемом взаимодействия человека с окружающей средой — физической и социальной. По этому параметру человек может быть инертным, пассивным, спокойным, инициативным, активным, стремительным.
Проявления темперамента в моторной сфере можно рассматривать как частные выражения общей активности. К ним относятся темп, быстрота, ритм и общее количество движений.
Когда говорят об эмоциональности как проявлении темперамента, то имеют в виду впечатлительность, чувствительность, импульсивность и т. п.
На протяжении длительной истории своего изучения темперамент всегда связывался с органическими основами, или физиологическими особенностями организма.
Корнями эта физиологическая ветвь учения о темпераменте уходит в античный период. Гиппократ (V в. до н. э.) описал четыре типа темперамента, исходя из физиологических представлений того времени. Считалось, что в организме человека имеется четыре основных жидкости, или «сока»: кровь, слизь, желтая желчь и черная желчь. Смешиваясь в каждом человеке в определенных пропорциях, они и составляют его темперамент (лат. temperamentum — «смесь», «соотношение»). Конкретное наименование каждый темперамент получил по названию той жидкости, которая якобы преобладает в организме. Соответственно были выделены следующие типы темперамента: сангвинический (от лат. sanguis — «кровь»), холерический (от греч. chole — «желчь»), флегматический (от греч. phlegma — «слизь») и меланхолический (от греч. melaina chole — «черная желчь»).
У Гиппократа был чисто физиологический подход к темпераменту. Он не связывал его с психической жизнью человека и говорил даже о темпераменте отдельных органов, например сердца или печени.
Но со временем появились умозаключения о том, какие психические свойства должны быть у человека, в организме которого преобладает кровь, желтая желчь и т. д. Отсюда и появились психологические описания — «портреты» различных темпераментов. Первая такая попытка принадлежит тоже античному врачу Галену (II в. н. э.). Много позднее, в конце XVIII в., психологические портреты четырех темпераментов дал И. Кант, который писал, что они составлены «по аналогии игры чувств и желания с телесными движущими причинами» [38, с. 148|.
Кантовские описания темпераментов были повторены потом во многих и многих источниках. Более того, представляя с самого начала полунаучные-полухудожественные образы, они довольно быстро перешли в общую культуру.
В качестве примера приведу отрывки из ярких описаний темпераментов, принадлежащих Стендалю.
Стендаль обращается к изображению темпераментов в своей работе «История живописи в Италии», считая, что каждый художник должен быть психологически образован, чтобы не делать ошибок в изображении персонажей — их общего облика, действий, настроений. Вот его «портреты» темпераментов (в сильно сокращенном виде) [104, т. 8, с. 209-226].
Сангвинический темперамент. Сангвиник — человек с ослепительным цветом лица, довольно полный, веселый, с широкой грудью, которая заключает в себе вместительные легкие и свидетельствует о деятельном сердце, следовательно, быстром кровообращении и высокой температуре.
Душевные свойства: приподнятое состояние духа, приятные и блестящие мысли, благожелательные и нежные чувства; но привычки отличаются непостоянством; есть что-то легковесное и изменчивое в душевных движениях; уму недостает глубины и силы. Сангвинику нельзя поручить защиту важной крепости, зато его следует пригласить на роль любезного царедворца. Подавляющая масса французов — сангвиники, и поэтому в их армии во время отступления из России не было никакого порядка.
Холерический темперамент. Желчь — один из самых своеобразных элементов в человеческом организме. В химическом отношении это вещество горючее, белковое, пенящееся. С точки зрения физиолога, это очень подвижная жидкость, сильно возбуждающая и действующая подобно дрожжам.
Душевные свойства: повышенная впечатлительность, движения резкие, порывистые. Пламя, пожирающее человека желчного темперамента, порождает мысли и влечения самодовлеющие и исключительные. Оно придает ему почти постоянное чувство тревоги. Без труда дающееся сангвинику чувство душевного благополучия ему совершенно незнакомо: он обретает покой только в самой напряженной деятельности. Человек холерического темперамента предназначен к великим делам своей телесной организацией. Холериками, по мнению Стендаля, были Юлий II, Карл V, Кромвель.
Флегматический темперамент присущ гораздо больше северным народам, например голландцам. Посетите Роттердам, и вы их увидите. Вот навстречу вам идет толстый, рослый блондин с необыкновенно широкой грудью. Вы можете заключить, что у него сильные легкие, большое сердце, хорошее кровообращение. Нет, эти объемистые легкие сдавлены излишним жиром. Они получают и перерабатывают лишь очень небольшое количество воздуха. Движения флегматика вялы и медлительны. В результате маленький и подвижный гасконец побивает огромного гренадера-голландца.
Душевные свойства: флегматику совершенно чужда тревога, из которой возникают великие дела, манящие холерика. Его обычное состояние — спокойное, тихое благополучие. Ему свойственна мягкость, медлительность, лень, тусклость существования.
Стендаль был участником войны 1812 г. и попал в Москву с армией Наполеона. Он выражает удивление по поводу того, что русские, живущие в стране с суровым климатом, обладают отнюдь не флегматичным темпераментом. В этом его убедила лихость московских извозчиков, а главное, тот факт, что Москва оказалась пустой. «Исход жителей из Смоленска, Гжатска и Москвы, которую в течение двух суток покинуло все население, представляет собой самое удивительное моральное явление в нашем столетии; я лично испытываю одно лишь чувство уважения <…> Исчезновение жителей Москвы до такой степени не соответствует флегматическому темпераменту, что подобное событие мне кажется невозможным даже во Франции», — заключает Стендаль [104, т. 8, с. 218].
И, наконец, меланхолический темперамент. Меланхолика отличают стесненность в движениях, колебания и осторожность в решениях. Чувства его лишены непосредственности. Когда он входит в гостиную, то пробирается вдоль стен. Самую простую вещь эти люди умудряются высказать с затаенной и мрачной страстностью. Любовь для них всегда дело серьезное. Один юноша-меланхолик пустил себе пулю в лоб из-за любви, но не потому, что она была несчастной, а потому, что он не нашел в себе сил признаться предмету своего чувства. И смерть показалась ему менее тягостной, чем это объяснение.
Описания Стендаля содержат все признаки общежитейского представления о темпераментах, которое мало изменилось и по настоящий день. Признаки эти следующие: во-первых, сохраняются четыре гиппократовских типа; во-вторых, обязательно предполагаются биологические основы обсуждаемых психических свойств (порой эти «основы» выглядят достаточно фантастично); в-третьих, что особенно следует подчеркнуть, в темперамент включается широкий спектр поведенческих свойств: от быстроты и резкости движений до способов объяснения в любви и манеры ведения войны.
Обратимся теперь к собственно научной судьбе «учения о темпераментах». Как уже говорилось, она развивалась по двум основным линиям: физиологической и психологической.
Дальнейшее развитие физиологической линии состояло в последовательной смене представлений об органических основах темпераментов. Перечислю несколько основных гипотез этого рода: химический состав крови (кровь — главная жидкость в организме); ширина и толщина кровеносных сосудов: особенности обмена веществ: деятельность желез внутренней секреции; тонус нервных и мышечных тканей и, наконец (последняя гипотеза), свойства нервной системы.
Наиболее серьезная попытка подвести физиологическую базу под темперамент связана с именем И. П. Павлова, а также с именами советских психологов Б. М. Теплова и В. Д. Небылицына, идеи которых продолжают разрабатывать их сотрудники и ученики и по сей день.
Первоначально эта физиологическая концепция получила в школе Павлова название учения о типах нервной системы, а позже она трансформировалась в «учение о свойствах нервной системы». Эту трансформацию мы и проследим.
И. П. Павлов и его сотрудники, проводя многочисленные эксперименты на собаках, в которых применялись условно-рефлекторные процедуры, обнаружили, что животные сильно различаются между собой по многим параметрам — по скорости и легкости выработки условных связей. по их устойчивости, по скорости и легкости выработки дифференцировок, по способности выдерживать смену положительных подкреплений стимулов па отрицательные и др.
Анализ соответствующих экспериментальных ситуаций показал, что каждая из них выявляет какое-либо основное свойство нервной системы. Таких основных свойств И. П. Павлов выделил три: силу, уравновешенность и подвижность.
Так, если собака могла выдержать действие очень сильного раздражителя, не впадая в запредельное торможение, она демонстрировала силу нервной системы. Если у нее очень быстро вырабатывались условные рефлексы с положительным подкреплением и очень плохо — с отрицательным, то ее нервная система отличалась неуравновешенностью с преобладанием процесса возбуждения и т. п.
Наряду с этим Павлов и его сотрудники наблюдали общую картину поведения животных. Одни и те же животные исследовались в течение многих лет, так что каждое животное становилось известным по типичной манере своего поведения. Так определились агрессивные животные, которые могли даже укусить хозяина, наоборот, трусливые собаки, которые чуть что — поджимали хвост и уши, спокойные, которые мало на что реагировали, подвижные, «как ртуть», и т. д.
И вот встал вопрос: а нельзя ли скоррелировать особенности поведения животных с теми находимыми в лабораторных испытаниях свойствами нервных процессов, которые оказывались также характерными для каждого индивида? Такая работа по коррелированию двух систем индивидуальных свойств — свойств нервной системы (или высшей нервной деятельности) и особенностей поведения — была проведена и привела к очень известной схеме, которую я воспроизведу, чтобы вам ее еще раз напомнить.
Схема типов высшей нервной деятельности (по И. П. Павлову)
 |
Эта схема представляет собой «дерево» свойств. Определенные сочетания этих свойств были зафиксированы как типы нервной системы, или, что то же самое, как типы высшей нервной деятельности.
Так были выделены следующие четыре типа: сильный — уравновешенный — подвижный; сильный — уравновешенный — инертный; сильный — неуравновешенный; слабый.
И. П. Павлов счел возможным приписать каждому из этих типов название соответствующего темперамента по Гиппократу (см. схему).
Эта очень известная схема И. П. Павлова до сих пор приводится в некоторых учебниках психологии (например, для педвузов) как последнее слово науки о темпераментах, хотя она уже давно устарела и преодолена дальнейшим развитием исследований как в школе Павлова, так и в советской дифференциальной психологии.
Рассмотрим основные положения, на которых строилась эта концепция Павлова и по которым шел ее критический пересмотр. Таких положений я бы выделила пять.
1. Ключ к пониманию индивидуальных особенностей поведения животных и человека следует искать в свойствах нервной системы, а не в чем-либо другом.
2. Эти свойства нервной системы могут или, лучше сказать, должны изучаться с помощью условно-рефлекторных процедур.
3. Таких основных свойств три: сила, уравновешенность, подвижность. Они общие и постоянные для данного животного.
4. Сочетания основных свойств образуют четыре основных типа нервной системы (НС), или высшей нервной деятельности (ВИД).
5. Эти основные типы НС соответствуют четырем классическим типам темперамента, т. е. представляют собой физиологическую основу психологических портретов, описанных в рамках учения о темпераментах.
Первым обнаружил свою несостоятельность тезис о том, что каждому типу НС соответствует свой стиль, или «картина», поведения (см. п. 5).
Уже при жизни И. П. Павлова стали выявляться и постепенно накапливаться факты следующего рода: по общей картине поведения животное следовало отнести к какому-либо одному темпераменту, а по лабораторным испытаниям — к другому. Иными словами, в опытах это животное показывало набор совсем других свойств НС, чем в поведении, иногда эти свойства по своему смыслу оказывались даже противоположными.
Вот пример с одной собакой. По поведению трусливое, покорное существо, при обращении к нему «стелется» по земле, взвизгивает, мочится. Таким образом, по всем признакам — слабый тип, меланхолик. Однако в станке (т. е. в лабораторных испытаниях) собака работает прекрасно, обнаруживает сильную уравновешенную нервную систему.
Наблюдались и противоположные случаи. Например, бодрые, оживленные и общительные животные оказывались по экспериментальным процедурам представителями слабого типа.
На основании подобных фактов И. П. Павлов окончательно отказался ориентироваться в определении типа НС на картину поведения и сделал вывод о том, что типы НС должны определяться только по лабораторным процедурам, выявляющим особенности условно-рефлекторной деятельности [84, II, с. 358-3591. Но тем самым, как вы понимаете, он отказался от того, чтобы рассматривать типы НС как физиологическую базу темпераментов, понимаемых как «картины поведения».
Более того, он изменил значение слова «темперамент», введя понятия «генотип» и «фенотип». Генотип Павлов определил как прирожденный тип нервной системы, фенотип — как склад высшей нервной деятельности, который образуется в результате комбинации врожденных особенностей и условий воспитания. Генотип Павлов связал с понятием «темперамент», а фенотип — с понятием «характер».
Это очень важный момент, поскольку тем самым Павлов, по сути, дал чисто физиологическую интерпретацию темперамента, отрешившись от его психологических аспектов. Психологические же аспекты темперамента он назвал характером.
Во всяком случае, последний тезис (п. 5) уже сам Павлов признал неверным: основные типы НС не соответствуют основным типам темперамента (в психологическом смысле).
Вскоре после этого был критически пересмотрен вопрос о количестве основных типов НС (п. 4). Возник вопрос: а почему именно названные типы следует считать основными? Разве только такие комбинации свойств возможны? Ведь теоретически можно говорить о сильном — неуравновешенном — подвижном типе, слабом — уравновешенном — подвижном, слабом — неуравновешенном — инертном и т. п. Да еще можно учитывать особенности отдельно тормозного и возбудительного процессов. Короче говоря, уже Павлов признавал, что различные комбинации свойств НС могут дать 24 разных типа. И действительно, позднее, при исследовании ВНД человека, оказалось, что стойких сочетаний основных свойств НС гораздо больше, чем четыре.
Почему же были выделены именно четыре типа, и именно такие четыре типа? Б. VI. Теплов считает, что на Павлова, по-видимому; повлияла гиппократовская классификация темпераментов. Других оснований у него не было.
Перехожу к следующему тезису (п. 3): было критически пересмотрено понятие «общие свойства НС». Это было очень неприятное открытие. Оно состояло в том, что по мере умножения экспериментальных процедур стали получаться противоречивые факты. По одной процедуре индивид обнаруживал одни свойства НС. а по другой — другие. Например, при болевом подкреплении НС оказывалась сильной, а при пищевом — слабой.
Далее выяснилось, что разные свойства НС обнаруживаются у одного и того же испытуемого и в том случае, если раздражители адресованы разным анализаторам. В лаборатории Те плова была проведена большая работа по вычислению коэффициентов корреляции между показателями, полученными на зрительных, слуховых, тактильных анализаторах при определении одного и того же свойства. Эти коэффициенты были, как правило, низкими, а иногда даже равны нулю.
В результате пришлось говорить не об общих, а о частных свойствах НС, имея в виду свойства отдельных анализаторных систем, и не об общих типах НС, а о парциальных типах, имея в виду различные подкрепления.
Кроме того, анализ свойств НС привел к необходимости пополнения их списка. К трем основным свойствам были добавлены еще два — динамичность и лабильность. Был поставлен вопрос о выделении среди них первичных и вторичных свойств. Таким образом, представления об основных свойствах НС (п. 3) продолжают меняться и уточняться.
Далее было поставлено под сомнение положение о том, что свойства нервной системы должны изучаться с помощью условно-рефлекторных процедур (п. 2). Так ли безусловно верно это утверждение?
Конечно, процессы в анализаторных отделах коры больших полушарий, которые изучаются с помощью условно-рефлекторных процедур, имеют прямое отношение к поведению человека, особенно к его сознательным формам. Но можно ли сбрасывать со счетов остальные отделы головного мозга, особенно когда речь идет об энергетических и эмоциональных экспектах поведения? Нет, ни в коем случае нельзя.
Последние данные нейрофизиологии показывают фундаментальную роль в активации поведения и в его эмоциональной регуляции подкорковых структур — ретикулярной формации, лимбических образований, лобных долей и др. Отсюда напрашивался естественный вывод: может быть, физиологические основы динамических особенностей поведения (т. е. темперамента) следует искать, так сказать, в другом месте?
Именно такой вывод был сделан. В частности, В. Д. Небылицын в конце рано оборвавшейся жизни возглавил поиски физиологических основ индивидуальности в свойствах лобно-ретикулярных структур головного мозга, которые определяют общую активность поведения и его регуляцию, и лобно-лимбических структур, которые заведуют эмоциональными аспектами поведения [80].
Так оказался пересмотрен второй записанный выше тезис.
Нам осталось рассмотреть последнее утверждение (п. 1). Пожалуй, только оно и сохраняет свое значение, да и то с важной оговоркой. Конечно, если существуют физиологические основы индивидуальных различий поведения, то их следует искать прежде всего в центральной нервной системе. Однако ЦНС не существует отдельно от организма. Ее особенности — частичное проявление своеобразия каждого организма вообще; оно обнаруживается также и в особенностях его морфологии, и в деятельности его эндокринных систем, и в общем гуморальном фоне.
Таким образом, имеют полный смысл поиски и обсуждение органических коррелятов индивидуальности в более широких биологических функциях человека. И такие поиски в настоящее время идут. Они уже были в истории науки и продолжаются в настоящее время.
Итак, подводя итог развитию «учения о темпераментах», можно констатировать следующее. Начало состояло в том, что Гиппократом были постулированы четыре типа темперамента, которые понимались в сугубо физиологическом смысле. Позже с ними были сопоставлены четыре психологических типа темперамента, что положило начало психологической линии. Дальнейшие поиски реальных органических основ темперамента все время соотносились с этими психологическими типами. Одна из последних попыток этого рода — учение о типах НС (или типах ВНД) Павлова. Типы НС некоторое время рассматривались как физиологическая основа темперамента. Однако развитие науки привело к тому, что и это представление стало достоянием истории. Что же осталось?
Некий «сухой остаток» состоит в следующем. Четыре типа темперамента уже нигде не фигурируют — ни в плане психологическом, ни в плане физиологическом. Выделяются «динамические аспекты» поведения, о которых говорилось вначале: это общая активность, включая ее моторные проявления, и эмоциональность. Темперамент (в психологическом смысле) — это совокупность соответствующих динамических свойств поведения, своеобразно сочетающихся в каждом индивиде.
Одновременно сохраняется уверенность, что такие свойства имеют «физиологическую базу», т. е. определяются некими особенностями функционирования физиологических структур. Каковы эти структуры и особенности? Этот вопрос находится «на переднем крае науки» и в настоящее время интенсивно исследуется психофизиологами.
Менее единодушно мнение о том, с какими именно особенностями организма следует связывать темперамент: наследственными или просто физиологическими, которые могут быть, конечно, результатом прижизненного формирования. Решение этой альтернативы натачкивается на одну принципиальную трудность. Дело в том, что до сих пор не удалось в полной мере установить, что в плане поведения есть проявление генотипа, т. е. является свойствами темперамента, а что — результат прижизненных «наслоений», т. е. относится к свойствам характера.
Одновременно сохраняется и развивается другой подход к темпераменту. Он характерен для работ собственно психологического направления. Их авторы идут от анализа только поведения. В этих работах при определении темперамента признак врожденных (или органических) основ, как правило, не фигурирует; главную нагрузку несет признак «формально-динамических свойств поведения», которые пытаются абстрагировать из целостных поведенческих актов.
Однако при таком подходе обнаруживается своя существенная трудность. Указанный признак также не позволяет однозначно решить вопрос о круге конкретных свойств, которые следует отнести к темпераменту. Среди них перечисляются и «предельно формальные» особенности поведения, такие как темп, ритм, впечатлительность, импульсивность, и более «содержательные» свойства, которые чаще относят к характеру, например инициативность, стойкость, ответственность, терпимость, кооперативность, и даже такие личностно-мотивационные особенности, как любовь к комфорту; стремление к господству и т. п. Тенденция расширять круг свойств темперамента особенно характерна для авторов так называемых факторных исследований личности [74]. Она приводит к смешению темперамента с характером и даже с личностью.
В качестве самого общего итога приходится констатировать, что, хотя темперамент и характер в психологии различаются, четкой границы между ними не проводится. В самом общем и приблизительном смысле темперамент продолжает пониматься либо как «природная основа», либо как «динамическая основа» характера.
Многое же из того, что составляло ранее психологическую часть представлений о темпераменте, ассимилировано характерологией.
Лекция 15
ХАРАКТЕР
ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ. РАЗЛИЧНЫЕ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ: ПСИХОПАТИИ, ИХ ПРИЗНАКИ, ПРИМЕРЫ;
АКЦЕНТУАЦИИ, ИХ ТИПЫ, ПОНЯТИЕ МЕСТА НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЖИЗНЕННОЕ ФОРМИРОВАНИЕ. ХАРАКТЕР И ЛИЧНОСТЬ. ПРОБЛЕМА «НОРМАЛЬНОГО» ХАРАКТЕРА
Как и полагается, следует начать с определения характера. Однако этого нельзя сделать без некоторых предварительных замечаний.
Дело в том, что «характер» трактуется в психологии далеко не однозначно. Выше уже обсуждались трудности различения характера и темперамента. Еще больше спорных вопросов возникает при попытке развести понятия «характер» и «личность».
В психологической литературе можно найти всевозможные варианты соотнесения этих двух понятий: характер и личность практически отождествляются, т. е. эти термины употребляются как синонимы; характер включается в личность и рассматривается как ее подструктура; наоборот, личность понимается как специфическая часть характера; личность и характер рассматриваются как «пересекающиеся» образования.
Избежать смешения понятий характера и личности можно, если придерживаться более узкого их толкования. Представление о личности в узком смысле было уже разобрано в начале предыдущей лекции. Более специальное понимание характера также существует, и я собираюсь вас с ним познакомить.
Характер в узком смысле слова определяется как совокупность устойчивых свойств индивида, в которых выражаются способы его поведения и способы эмоционального реагирования.
При таком определении характера его свойства, так же как и свойства темперамента, могут быть отнесены к формально-динамическим особенностям поведения. Однако в первом случае эти свойства, если можно так выразиться, предельно формальны, во втором же они несут признаки несколько большей содержательности, оформленности. Так, для двигательной сферы прилагательными, описывающими темперамент, будут «быстрый», «подвижный», «резкий», «вялый», а качествами характера — «собранный», «организованный», «аккуратный», «расхлябанный». Для характеристики эмоциональной сферы в случае темперамента применяют такие слова, как «живой», «импульсивный», «вспыльчивый», «чувствительный», а в случае характера — «добродушный», «замкнутый», «недоверчивый». Впрочем, как уже говорилось, граница, разделяющая темперамент и характер, достаточно условна. Гораздо важнее глубже понять различие между характером и личностью (в узком смысле).
Рассмотрим, как употребляются эти понятия в обыденной речи. Прежде всего обратим внимание на то, как сильно различаются наборы прилагательных, которые применяются для описания личности и характера. Говорят о личности «высокой», «выдающейся», «творческой», «серой», «преступной». В отношении характера используются такие прилагательные, как «тяжелый», «жестокий», «железный», «мягкий», «золотой». Ведь мы не говорим «высокий характер» или «мягкая личность».
Таким образом, анализ житейской терминологии показывает, что налицо разные образования. Но еще более убеждают в этом следующие соображения: когда даются оценки характера и личности одного и того же человека, то эти оценки могут не только совпадать, но и быть противоположными по знаку.
Вспомним для примера личности выдающихся людей. Возникает вопрос: известны ли истории великие люди с плохим характером? Да сколько угодно. Существует мнение, что тяжелым характером отличатся Ф. М. Достоевский, очень «крутой» характер был у И. П. Павлова. Однако это не помешало обоим стать выдающимися личностями. Значит, характер и личность далеко не одно и то же.
Интересно в связи с этим одно высказывание П. Б. Ганнушкина. Констатируя тот факт, что высокая одаренность часто сочетается с психопатией, он пишет, что для оценки творческих личностей недостатки их характера не имеют значения. «Историю, — пишет он, — интересует только творение и главным образом те его элементы, которые имеют не личный, индивидуальный, а общий, непреходящий характер» [25, с. 267].
Итак, «творение» человека есть по преимуществу выражение его личности. Потомки используют результаты деятельности личности, а не характера. А вот с характером человека сталкиваются не потомки, а непосредственно окружающие его люди: родные и близкие, друзья, коллеги. Они несут на себе бремя его характера. Для них, в отличие от потомков, характер человека может стать, и часто становится, более значимым, чем его личность.
Если попытаться совсем кратко выразить суть различий между характером и личностью, то можно сказать, что черты характера отражают то, как действует человек, а черты личности — то, ради чего он действует. При этом очевидно, что способы поведения и направленность личности относительно независимы: применяя одни и те же способы, можно добиваться разных целей и, наоборот, устремляться к одной и той же цели можно разными способами.
Теперь обратимся к описаниям характера и к обсуждению основных проблем, которые поднимались в связи с ними.
Наиболее интересные и жизненно правдивые описания характера (известные как «типологии характера») возникли в пограничной области, на стыке двух дисциплин: психологии и психиатрии. Они принадлежат талантливым клиницистам, которые в своих типологиях обобщили многолетний опыт работы с людьми — опыт наблюдения за их поведением, изучения их судеб, помощи им в жизненных трудностях. Здесь встречаются такие имена, как К. Юнг, Э. Кречмер, П. Б. Ганнушкин, К. Леонгард, А. Е. Личко и др.
Первые работы этого направления содержали небольшое число типов. Так, Юнг выделил два основных типа характерa: экстравертированный и интровертированный; Кречмер также описал всего два типа: циклоидный и шизоидный. Со временем же число типов увеличилось. У Ганнушкина мы находим уже порядка семи типов (или «групп») характеров; у Леонгарла и Личко — десять-одиннадцать.
Немного позже я познакомлю вас более подробно с одной из самых последних типологий, принадлежащих Л. Е. Личко [62; 63|. Я выбрала ее потому что, во-первых, в ней ассимилированы основные идеи предшествующих типологий, во-вторых, она самая дифференцированная, т. с. содержит наибольшее число типов, наконец, что очень важно, она заключает в себе описания также нормальных, а не только патологических характеров (как это имеет место, например, у Ганнушкина).
Однако сначала остановлюсь на вопросе о различной степени выраженности характера.
Практически все авторы подчеркивали, что характер может быть более или менее выражен. Представьте себе ось. на которой изображена интенсивность проявлений характеров. Тогда на ней обозначатся следующие три зоны (рис. 14): зона абсолютно «нормальных» характеров, зона выраженных характеров (они получили название акцентуаций) и зона сильных отклонений характеров, или психопатии. Первая и вторая зоны относятся к норме (в широком смысле), третья — к патологии характера. Соответственно, акцентуации характера рассматриваются как крайние варианты нормы. Они, в свою очередь, подразделяются на явные и скрытые акцентуации.
Различение между патологическими и нормальными характерами, включающими акцентуации, очень важно. По одну сторону черты, разделяющей вторую и третью зоны, оказываются индивиды, подлежащие ведению психологии, по другую — малой психиатрии. Конечно, «черта» эта размыта. Тем не менее существуют критерии, которые позволяют ее приблизительно локализовать на оси интенсивности характеров. Таких критериев три, и они известны как критерии психопатий Ганнушкина — Кербикова.
Характер можно считать патологическим, т. е. расценивать как психопатию, если он относительно стабилен во времени, т. е. мало меняется в течение жизни. Этот первый признак, по мнению А. Е. Личко, хорошо иллюстрируется поговоркой: «Каков в колыбельке, таков и в могилку».
Второй признак — тотальность проявлений характера: при психопатиях одни и те же черты характера обнаруживаются всюду: и дома, и на работе, и на отдыхе, и среди знакомых, и среди чужих, короче говоря, в любых обстоятельствах. Если же человек, предположим, дома один, а «на людях» — другой, то он не психопат.
Наконец, третий и, пожалуй, самый важный признак психопатий — это социальная дезадаптация. Последняя заключается в том, что у человека постоянно возникают жизненные трудности, причем эти трудности испытывает либо он сам, либо окружающие его люди, либо и тот и другие вместе. Вот такой простой житейский и в то же время вполне научный критерий.
С целью подробного знакомства со всеми типами патологических характеров я отсылаю вас к замечательной работе П. Б. Ганнушкина «Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика» (1933), которая явилась обобщением более чем тридцатилетнего его клинического опыта. Эту работу Ганнушкина, по-моему, должен прочесть каждый психолог, и чем раньше, тем лучше. Она очень обогатит вас и в профессиональном, и в житейском смысле.
Остановлюсь для примера на двух типах психопатий, описанных Ганнушкиным.
Первый тип принадлежит к астенической группе. Эта группа включает две разновидности (частные типы): неврастеников и психастеников. Их общие свойства — повышенная чувствительность и быстрая истощаемостъ. Они возбудимы и истощаемы в нервнопсихическом смысле.
В случае неврастении сюда добавляются еще некоторые соматические расстройства: человек жалуется на периодически возникающие неприятные ощущения, боли, покалывания, плохую работу кишечника, плохой сон, усиленное сердцебиение. Все эти неполадки в работе организма имеют психогенную природу, заметная органическая основа их, как правило, отсутствует. Они возникают по причине слишком повышенного внимания неврастеника к отправлениям своего организма. Тревожно вчувствываясь в них, он еще больше их расстраивает.
Теперь о трудностях в социальной жизни. Слабость и истощаемость астеников приводит к тому, что их деятельность, как правило, оказывается малоэффективной. Они плохо преуспевают в деле, не занимают высоких постов. Из-за частых неудач у них развивается низкая самооценка и болезненное самолюбие. Их притязания обычно выше, чем их возможности. Они тщеславны, самолюбивы и в то же время не могут достичь всего того, к чему стремятся. В результате у них образуются и усиливаются такие черты характера, как робость, неуверенность, мнительность.
У психастеников нет соматических расстройств, зато добавляется другое качество — боязливость, нерешительность, сомнения во всем. Они сомневаются относительно настоящего, будущего и прошлого. Часто их одолевают ложные опасения за свою жизнь и за жизнь близких. Им очень трудно начать какое-то дело: они принимают решение, потом отступают, снова собираются с силами. Им трудно принимать решения потому, что они сомневаются в успехе любого задуманного дела.
С другой стороны, если уж психастеник что-то решил, то должен осуществить это сразу; иными словами, он проявляет крайнюю нетерпеливость. Постоянные сомнения, нерешительность и нетерпеливость — вот такое парадоксальное сочетание свойств. Однако оно имеет свою логику: психастеник торопит события потому, что опасается, как бы что-нибудь не помешало совершить задуманное.
Иными словами, нетерпеливость происходит из той же неуверенности.
Таким образом, астеники в основном сами страдают от своего характера. Но у них есть некоторые особенности, которые заставляют страдать окружающих близких. Дело в том, что мелкие обиды, унижения и уколы самолюбия, которых много в жизни астеника, накапливаются и требуют выхода. И тогда они прорываются в виде гневных вспышек, приступов раздражения. Но это случается, как правило, не среди чужих людей — там астеник предпочитает сдерживаться, а дома, в кругу близких. В результате робкий астеник может стать настоящим тираном семьи. Впрочем, эмоциональные взрывы быстро сходят на нет и кончаются слезами и раскаянием.
П. Б. Ганнушкин не приводит примеров конкретных людей — носителей патологических характеров. Однако приобретать опыт в распознавании резко выраженных черт и типов характеров в их жизненных проявлениях очень важно. Поэтому в порядке упражнения разберем один образ из художественной литературы.
В романе Ф. М. Достоевского «Идиот» есть персонаж, который, как мне кажется, обнаруживает многие черты психастеника. Это Гавриил Ардалионович Иволгин, или просто Ганя, как его называют в романе.
Ганя — мелкий чиновник, он служит секретарем у генерала Епанчина. Уже с самого начала Достоевский дает нам почувствовать какое-то внутреннее напряжение, присущее этому герою. Так, при первом знакомстве с ним князю Мышкину показалось, что улыбка Гани слишком тонка, а взгляд — неестественен. «Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется», — подумал князь [35, т. 8, с. 21].
И действительно, внутренний мир Гани — клубок мелких страстей, противоречий, неудовлетворенных желаний. Он очень тщеславен, считает, что заслуживает положения гораздо более высокого, чем то, которое занимает. Ради этого он как будто соглашается жениться на Настасье Филипповне за крупную сумму денег, которую предлагает ему генерал. Однако решение это далеко неокончательное. Он весь в сомнениях. В мучительных колебаниях он проводит два месяца и в последний день, когда должен дать окончательный ответ, говорит генералу, что да, он согласен, генеральше — что нет, никогда этого не сделает, а Аглае пишет, что по первому ее слову он порвет этот договор окончательно.
Одновременно Ганя подозревает, что Настасье Филипповне известны его истинные мотивы, что она смеется над ним, презирает его и, более того, будто бы что-то против него замышляет.
В эти же два месяца ему рисуются и снятся мучительные сцены встречи Настасьи Филипповны с его матерью и сестрой. Заметим, что это сны по поводу предстоящего будущего. «Может быть, — замечает Достоевский, — он безмерно преувеличивал беду; но с тщеславными людьми всегда так бывает» [35, т. 8, с. 90].
В обществе генерала, членов его семьи, других лиц из высшего света Ганя сдержан, приличен, вежлив. Однако маска светских манер слетает с него, когда он остается один или в обществе князя, которого он ни во что не ставит. Так, получив презрительный ответ от Аглаи, он устраивает в присутствии князя гневную сцену: «А! Так вот как! — скрежетал он <…> — А! Она в торги не вступает! — так я вступлю! И увидим! <…> В бараний рог сверну! <…>
Он кривился, бледнел, пенился; грозил кулаком» [35, т. 8, с. 74].
В доме он деспот, не желающий считаться с чувствами, интересами и даже мольбами матери и сестры.
Однако острые сцены не для него. Дав князю пощечину, он тут же сникает, теряется, просит прощения. При словах князя о Рогожине, что такой, пожалуй, женится, а потом через неделю зарежет, он так вздрагивает, что князь отшатывается от него. Наконец, в одной из кульминационных сцен романа, когда Настасья Филипповна бросает погонь принесенные ей Рогожиным 100 тысяч, Ганя падает в обморок.
Итак, в образе Гани заключены многие черты, характерные для лиц астенического типа: болезненное самолюбие, тщеславие, сомнения, нерешительность, гневные вспышки в кругу близких и робость на людях, мнительность, тревога и мрачное фантазирование по поводу будущих событий, нервная слабость и истощаемость.
Рассмотрим еще один тип психопатий — эпилептоидный.
Характерные признаки лиц этого типа, по Ганнушкину, — крайняя раздражительность, доходящая до приступов ярости и гнева; периодические расстройства настроения с примесью тоски, страха, гнева и, наконец, определенные моральные дефекты.
Эта формула раскрывается П. Б. Ганнушкиным в следующих содержательных характеристиках. Эпилептоиды — люди, которые крайне эгоистичны, напряженно деятельны, настойчивы и очень аффективны. Это страстные любители острых ощущений. Они склонны к образованию сверхценных идей. Одновременно у них может наблюдаться скрупулезная мелочность, педантизм, скопидомство. Им свойственны также лицемерие и ханжество.
Во всех проявлениях эпилептоидов содержатся элементы раздражительности, озлобленности, гнева. Этот постоянный аккомпанемент их жизни делает их чрезвычайно тяжелыми для окружающих и близких. Они агрессивны, мелкообидчивы, придирчивы, готовы все критиковать и исправлять, крайне злопамятны и мстительны. Они также склонны к насильственным действиям, в результате чего оказываются иногда на скамье подсудимых.
Физиологическую основу эпилептоидного характера, по предположению Ганнушкина, составляют сила примитивных влечений, с одной стороны, и вязкость нервных процессов — с другой.
Разберем пример эпилептоидного характера из того же романа Ф. М. Достоевского. Им может служить образ Парфена Рогожина.
Рогожин в каком-то смысле антипод Гане. Это человек без колебаний и сомнений, без размышлений, человек одной страсти. Его страсть к Настасье Филипповне зарождается с первого взгляда. «Я тогда… через Невский перебегал, — рассказывает он князю, — а она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло» [35, т. 8, с. 11]. И дальше, на протяжении всего романа он добивается Настасьи Филипповны, сметая все на своем пути.
Что он делает на следующий день? Тратит 10 тысяч отцовских денег, чтобы купить ей серьги. Причем отец-скопидом держал своих детей «в смазанных сапогах, да на постных шах» и не только что за 10 тысяч, а за 10 целковых мог сжить со свету.
В острых ситуациях Рогожин как рыба в воле. Возьмем ту же сцену с горящими тысячами. Достоевский использует ее (и это его любимый прием) для прояснения характеров сразу многих персонажей.
Посмотрите, кто как ведет себя: астеник Ганя падает в обморок: Настасья Филипповна стоит с «раздувающимися ноздрями и мечет огненные взгляды»; Лебедев ползает на коленях, умоляя разрешить ему самому залезть в камин и положить седую голову на пачку денег; Птицын — бледный, дрожит, не в силах отвести взгляда от денег; князь наблюдает все в грустной задумчивости. Рогожин же обратился в один неподвижный взгляд, прикованный к Настасье Филипповне. Он упивался и был на седьмом небе: «Вот это так королева! — повторял он поминутно <…> — Вот это так по-нашему! <…> Ну кто из вас, мазурики, такую штуку сделает, а?» [35, т. 8, с. 146].
Рогожин крайне эгоистичен. Добиваясь Настасьи Филипповны, он не считается с ее чувствами, с ее растерзанным внутренним миром, с ее отчаянием. «Ты вот жалостью, говоришь, ее любишь, — замечает он князю. — Никакой такой во мне нет к ней жалости» [35, т. 8, с. 174]. Он знает, что выйти за него Настасье Филипповне все равно что в воду и даже хуже. И тем не менее упорно преследует ее.
Его страсть постоянно окрашивается злобой и гневом. Он сжимает кулаки на всех возможных или воображаемых соперников. Выслеживает князя — тот постоянно ловит его тяжелый, горячечный взгляд в толпе на вокзале, на улице, в парке.
«Я, — признается князю Рогожин, — как тебя нет перед мною, то тотчас же к тебе злобу и чувствую… Так бы тебя взял и отравил чем-нибудь!» [35, т. 8, с. 174].
Кончается тем, что Рогожин выходит на князя с ножом и только чудом тот остается жив. Эти насильственные действия распространяются и на Настасью Филипповну. Психологического насилия, о котором только что говорилось, ему недостаточно; в один прекрасный день он избивает ее, и в конце концов убивает.
Итак, в характере Рогожина выступают следующие «хрестоматийные» черты эпилептоида: склонность к образованию сверхценных идей; сила примитивных влечений; «воля, питаемая неистощимым аффектом»; крайний эгоизм; пренебрежение к чувствам и интересам окружающих; гневливость, злобность, мстительность, склонность к насильственным действиям, вплоть до «скамьи подсудимых».
Теперь перейдем к акцентуациям характера. Повторю еще раз, акцентуации — это крайние варианты нормальных характеров. В то же время отклонения акцентуаций от средней нормы также порождают для их носителей (хотя и не в столь сильной степени, как при психопатиях) некоторые проблемы и трудности. Вот почему как сам термин, так и первые исследования акцентуированных характеров появились в работах психиатров. Однако не в меньшей, а может быть, в большей мере проблема акцентуированных характеров относится к общей психологии. Достаточно сказать, что больше половины подростков, обучающихся в обычных средних школах, имеют акцентуированные характеры.
В чем же отличие акцентуаций характера от психопатий? Это важный вопрос, в котором следует разобраться, так как он связан с различием патологии и нормы.
В случае акцентуаций характера может не быть ни одного из перечисленных выше признаков психопатий, по крайней мере никогда не присутствуют все три признака сразу. Отсутствие первого признака выражается в том, что акцентуированный характер не проходит «красной нитью» через всю жизнь. Обычно он обостряется в подростковом возрасте, а с взрослением сглаживается. Второй признак — тотальность — также не обязателен: черты акцентуированных характеров проявляются не в любой обстановке, а только в особых условиях. Наконец, социальная дезадаптация при акцентуациях либо не наступает вовсе, либо бывает непродолжительной. При этом поводами для временных разладов с собой и с окружением являются не любые трудные условия (как при психопатиях), а условия, создающие нагрузку на место наименьшего сопротивления характера.
Введение понятия «места наименьшего сопротивления» (или «слабого звена») характера, а также описание этих «мест» применительно к каждому типу — важный вклад в психологическую теорию характера. Он имеет также неоценимое практическое значение. Слабые места каждого характера надо знать, чтобы избегать неправильных шагов, излишних нагрузок и осложнений в семье и на работе, при воспитании детей, организации собственной жизни.
Немного позже я приведу примеры «слабых мест» отдельных характеров. Но сначала перечислю типы акцентуаций. Они в основном совпадают с типами психопатий, хотя их список шире.
А. Е. Личко выделяет следующие типы акцентуаций: гипертимный, циклоидный, лабильный, астено-невротический, сензитивный, психастенический, шизоидный, эпилептоидный, истероидный, неустойчивый и конформный.
Как и в случае психопатий, различные типы могут сочетаться, или смешиваться, в одном человеке, хотя сочетания эти не любые.
Приведу краткие описания двух типов акцентуаций, заимствуя их из работы А. Е. Личко [62].
«Гипертимный тип. Отличается почти всегда хорошим, даже слегка приподнятым настроением, высоким жизненным тонусом, брызжущей энергией, неудержимой активностью. Постоянно стремление к лидерству, притом неформальному. Хорошее чувство нового сочетается с неустойчивостью интересов, а большая общительность — с неразборчивостью в выборе знакомств. Легко осваиваются в незнакомой обстановке <…> Присуши переоценка своих возможностей и чрезмерно оптимистические планы на будущее. Короткие вспышки раздражения бывают вызваны стремлением окружающих подавить их активность и лидерские тенденции» [62, с. 86].
«Шизоидный тип. Главными чертами являются замкнутость и недостаток интуиции в процессе общения. Трудно устанавливаются неформальные эмоциональные контакты, эта неспособность нередко тяжело переживается. Быстрая истощаемость в контакте побуждает к еще большему уходу в себя. Недостаток интуиции проявляется неумением понять чужие переживания, угадать желания других, догадаться о невысказанном вслух. К этому примыкает недостаток сопереживания. Внутренний мир почти всегда закрыт для других и заполнен увлечениями и фантазиями, которые предназначены только для самих себя и служат утешению честолюбия или носят эротический характер. Увлечения отличаются силой, постоянством и нередко необычностью, изысканностью. Богатые эротические фантазии сочетаются с внешней асексуальностью. Алкоголизация и диленквентное поведение встречаются довольно редко» [62, с. 87—88].
Для подробного знакомства с каждым типом отсылаю вас к монографии А. Е. Личко [63], а теперь о «слабых местах» характеров, также на примерах.
Какие ситуации тяжелы для гипертимов? Те, где строго регламентируется их поведение, где нет свободы для проявления инициативы, где есть монотонный труд или вынужденное бездействие. Во всех этих ситуациях гипертимы дают взрывы или срывы. Например, если у подростка такого типа слишком опекающие родители, которые контролируют каждый его шаг, то очень рано он начинает протестовать, давать острые негативные реакции вплоть до побегов из дома.
Для лиц с шизоидной акцентуацией труднее всего вступать в эмоциональные контакты с людьми. Поэтому они дезадаптируются там, где нужно неформально общаться (что как раз очень подходит гипертиму). Поэтому им не следует поручать, например, роль организатора нового дела: ведь это потребует от него установления многих связей с людьми, учета их настроений и отношений, тонкой ориентировки в социальной обстановке, гибкости поведения и т. п. Еще представители этого типа не переносят, когда им «лезут в душу», они особенно нуждаются в бережном отношении к их внутреннему миру.
Для истероидного акцентуанта труднее всего переносить невнимание к его особе. Он стремится к похвалам, славе, лидерству, но скоро в результате деловой незрелости теряет позиции, и тогда очень страдает. Оставить в покое шизоида или психастеника можно, а иногда даже и нужно; сделать то же с истероидом — значит создать ситуацию психологического дискомфорта и даже стресса.
Из приведенных примеров видно, насколько различны а иногда даже качественно противоположны «слабые звенья» разных типов характера, как, впрочем, и их сильные стороны. Знание этих слабых и сильных сторон совершенно необходимо для осуществления индивидуального подхода к человеку.
Перейдем к обсуждению некоторых теоретических проблем психологии характера. При этом сведения, заключенные в типологиях характера, послужат нам важной эмпирической основой.
В психологии давно стоит проблема биологических основ характера. Она обсуждается, условно говоря, в более слабой и в более сильной формах. В «слабом» варианте речь идет именно о биологических, или физиологических, основах характера; в более «сильном» варианте предполагаются генетические основы характера. Ведь, как вы уже знаете, все генотипическое есть одновременно и биологическое, но не все биологическое имеет генотипическую природу.
Рассмотрим эту проблему сразу в более сильной формулировке: существуют ли генетические основы характера?
Понимая характер в узком смысле, можно ответить: да, существуют. В качестве доказательства этого вывода в научной литературе приводятся следующие факты: сходство характеров, прослеженное в родословных линиях многими авторами; связь характера, особенно в его патологических формах, с телесной конституцией (Кречмер, Шелдон и др.); раннее появление и стабильность свойств аномальных характеров в течение жизни; наконец, результаты исследований нормальных характеров с применением близнецового метода.
В одном из таких исследований сопоставлялись некоторые черты характера однояйцевых близнецов, разлученных в раннем детстве и воспитанных врозь, и сиблингов, воспитывавшихся вместе. Результаты оказались следующими (см. табл. 3, цит. по [89]).
Таблица 3
Коэффициенты корреляции свойств характера внутри пар близнецов и сиблингов
Как видно, сиблинги показали удивительно низкую корреляцию, однояйцевые близнецы — достаточно высокую. Эту сильную разницу в результатах можно объяснить обшей генетической основой характера у однояйцевых близнецов.
Констатация генетических и даже просто биологических основ характера часто вызывает некорректную критику. Упреки обычно сводятся к двум пунктам: происходит якобы биологизация личности, и якобы утверждается генетическая предопределенность свойств личности и ее судьбы.
Рассмотрим оба эти пункта критики, чтобы правильно сориентироваться во всей проблеме в целом.
Относительно первого пункта. В действительности, когда речь идет о биологических или генетических основах индивидуальности, то эти «основы» обсуждаются в отношении характера, а не личности, а если говорить более точно, то в отношении темперамента. Сошлемся на самого «ярого конституционалиста» Э. Кречмера, который пишет, что именно темпераменты составляют ту часть психического, которая «…стоит в корреляции со строением тела» [45, с. 246]. В характер же, по его словам, входят также «…экзогенные факторы, особенно результаты воспитания и среды, чуждые понятию конституции» [45, с. 245]. Из приведенных слов видно, что точка зрения Э. Кречмера практически ничем не отличается от понимания темперамента как генотипа и характера как фенотипа, предложенного И. П. Павловым.
Если признать, что биологические и даже генотипические свойства организма определяют темперамент, а последний составляет «основу» характера, то естественно рассматривать определенные свойства организма как органическую базу характера. При этом, имея в виду опосредствование условиями жизни, правильнее было бы говорить о них как о биологических или генотипических предпосылках характера.
Нужно заметить, что авторы типологий обращают большое внимание на выделение базовых «измерений» характера, или свойств темперамента, отличающих каждый тип. (Примерами могут служить эмоциональная теплота циклоидов и холодность шизоидов, повышенная чувствительность и истощаемость астеников, сила влечений и вязкость аффектов эпилептоидов). Проводя такую работу, психологи оказывают неоценимую услугу физиологам, подсказывая, в каких структурах и функциях следует искать биологические корреляты основ характера.
Что касается второго пункта критики, то нужно со всей определенностью сказать, что признание генетических предпосылок характера ни в коем случае не означает утверждение его генетической предопределенности. Согласно положениям современной генетики наследуется лишь «норма реакции», т. е. набор различных способов реагирования на средовые влияния. То, как оформятся генетические предпосылки в реальные психологические признаки или свойства, зависит от взаимодействий этих предпосылок и условий среды. Поэтому при обсуждении проблемы формирования характера нельзя сбрасывать со счетов ни генетический, ни средовой факторы.
И действительно, изучение крайних аномалий характера заставляет предположить, что в ряде случаев относительно больший вклад в оформление аномалий вносит генотипический фактор, в других случаях — средовой фактор.
Так, в психиатрической литературе описаны «истинные», или «ядерные», психопатии, в происхождении которых решающая роль отводится неблагоприятной наследственности. В этих случаях удается установить наличие того же типа характера у родителей, сибсов и у родственников по боковым линиям. Отмечается также раннее проявление аномалий характера и их относительная неизменность в течение жизни. Наконец, установлено, и это важно подчеркнуть, что психопатии могут возникать даже при самых благоприятных условиях воспитания [105].
Вместе с тем известны случаи прямо противоположного смысла: к формированию психопатий могут привести исключительно тяжелые социальные условия при совершенно нормальном исходном фоне. Ту же роль могут сыграть биологически вредные средовые воздействия (мозговые травмы, инфекции), особенно пришедшиеся на пренатальный, натальный и ранний постнатальный периоды [40; 105].
Наконец, среднее положение занимают случаи (их большинство), при которых, по словам А. Е. Личко, «семена дурных средовых воздействий упали на подходящую для них эндогенно подготовленную почву» [63, с. 19], т. е. при генетической предрасположенности ребенок оказывался в условиях неблагоприятного воспитания, что и привело к заострению определенных черт характера. Итак, анализ проблемы «биологических основ характера» приводит нас к следующим выводам.
Во-первых, детерминанты свойств характера следует искать как в особенностях генотипического фона, так и в особенностях средовых воздействий. Во-вторых, степень относительного участия генотипических и средовых факторов в формировании характера может быть очень различной. В-третьих, генотипические и средовые влияния на характер могут, так сказать, алгебраически суммироваться: при неблагоприятном сочетании обоих факторов развитие характера может дать сильные степени отклонения вплоть до патологических форм; при благоприятном сочетании даже сильная генотипическая предрасположенность к аномалии может не реализоваться или, по крайней мере, не привести к патологическим отклонениям характера.
Все эти выводы очень важны для психологии. В частности, они заставляют выдвинуть как очень актуальную задачу ранней диагностики отклонений характера у детей и изучения специальных условий воспитания, учитывающих и, возможно, корригирующих эти отклонения.
Остановлюсь несколько более подробно на вопросе о формировании характера.
Каждый тип характера — это не случайный конгломерат свойств, в их сочетаниях проступает определенная закономерность, или «логика». Прослеживание этой логики — важная задача психологических исследований, решение которой продвинуто, к сожалению, далеко недостаточно.
Замечу, что одним из неожиданных препятствий здесь стало распространение модного типа исследований — так называемых корреляционных, или факторных, исследований «черт личности» [74].
Суть их состоит в том, что с помощью специальной математической процедуры (факторного анализа) на большом числе испытуемых устанавливается, какие черты личности в среднем сильно коррелируют между собой (положительно или отрицательно), а какие — слабо. В переводе на эмпирический язык положительно коррелирующие черты — это те, которые чаще сочетаются в одном человеке.
Например, в исследовании В. Шелдона было установлено, что если человек обнаруживает любовь к комфорту, то он с большой вероятностью будет отличаться хорошим аппетитом, приветливостью, контактностью, жаждой похвалы и одобрения. А вот тревожности, как правило, у него не будет: любовь к комфорту и тревожность дают высокую отрицательную корреляцию.
Таким образом, процедура факторного анализа позволяет выделять «гроздья» черт, чаще всего сочетающихся друг с другом. Однако она, по существу, снимает вопрос о том, почему такие-то черты сочетаются между собой часто, а другие — редко или вовсе не встречаются в одном индивиде. Психолог получает лишь готовый количественный показатель: вероятность сочетаний определенных свойств, и все. Для выявления же причин такого результата нужны совсем другие методы, а именно качественный анализ жизненных ситуаций и механизмов поведения.
Приведу на этот счет высказывание американского психолога Г. Олпорта: современный психолог, пишет он, «обычно находит безопасное убежище в чащобах статистической корреляции… Будучи запуганы инструментами естественных наук, многие психологи отвергают более тонкий регистрирующий инструмент, специально предназначенный для сопоставления и правильной группировки фактов, — свой собственный разум» [82, с. 212-213].
Можно с уверенностью сказать, что именно этот «инструмент» не отвергали авторы клинических исследований характера, и в их работах можно найти интересные идеи относительно путей и способов образования свойств характера на базе его первичных «измерений».
Один из этих примеров мы фактически уже разобрали, обсуждая свойства характеров астенической группы.
Исходная чувствительность и истощаемость астеника, как это показал П. Б. Ганнушкин, постепенно приводят к наслоению целого комплекса дополнительных свойств.
Из-за быстрой истощаемости и утомляемости астеник действует малоэффективно. Малая успешность его деятельности на фоне повышенной чувствительности тяжело им переживается. Это приводит к формированию чувства неполноценности, робости, застенчивости, депрессивности и в то же время обостряет самолюбие. В результате процесс развивается дальше. Сочетание низкой оценки себя и болезненного самолюбия порождают напряженность и подозрительность: человеку начинает казаться, что окружающие следят за ним, смеются над ним. Иногда в порядке компенсации он начинает вести себя развязно и заносчиво.
Другой пример, также из Ганнушкина, касается аутизма шизоида. Аутизм не является в полной мере исходным свойством шизоида: он формируется и усиливается в процессе жизни.
На самом деле шизоид, как и любой другой человек, время от времени пытается войти в эмоциональные контакты с окружающими, поделиться своими переживаниями. Однако ввиду парадоксальности его эмоциональной сферы (одновременно раздражительности и холодности) он не находит понимания. В результате он замыкается и уходит в себя. Отмечаемые «аристократическая сдержанность», «холодность», «чопорность» и «сухость» шизоида являются скорее вторичными свойствами — средствами, которые он «наработал», чтобы отдалиться от окружающих и тем самым защитить себя от эмоциональных травм.
Можно напомнить еще один пример из работы К. Юнга [133]. На этот раз пример своеобразного «заколдованного круга», в который попадает экстраверт. Ему свойственна повышенная экспрессия в выражении эмоций. Однако она обычно дает обратный эффект: вызывает недоверие окружающих по отношению к передаваемым эмоциям и ослабление эмоциональных контактов. Экстраверт реагирует на такое ослабление еще большей экзальтацией поведения.
Приведенными примерами дело, конечно, не ограничивается. В описаниях характеров вы сможете найти ответы на многие другие вопросы: почему тревожность сочетается с нетерпеливостью, склонность к образованию сверхценных идей — с гневливостью и мстительностью и т. п. Конечно, здесь широкое поле деятельности и для открытий новых связей и механизмов.
Перейдем к следующему общему вопросу — о соотношении характера и личности.
Те представления о характере и личности, которые я с вами разбираю, позволяют не только разделить эти «образования» в человеке, но и поставить очень важный вопрос об их соотношении.
Этот вопрос можно рассматривать, двигаясь как бы в двух противоположных направлениях. С одной стороны, можно обсуждать участие характера в формировании личности, с другой стороны, можно говорить об обратном влиянии личности на характер.
Ответ на первый вопрос в общем виде содержится в формуле А. Н. Леонтьева о том, что индивидные свойства есть условия, или предпосылки, формирования личности. Материал типологий характера позволяет содержательно рассмотреть этот тезис.
Однако предварительно сделаю одно замечание.
Практически во всех описаниях типов характера можно найти сочетания очень разнородных или, лучше сказать, очень разнопорядковых свойств. Попросту говоря, в них содержатся в нерасчлененном виде и свойства характера, и свойства личности. Приведу примеры.
При характеристике шизоидов Э. Кречмер перечисляет такие формальные, т. е. не зависящие от направленности поведения, свойства (свойства характера), как необщительность, сдержанность, серьезность, боязливость, сентиментальность, и, с другой стороны, гораздо более содержательные, мотивационно-личностные черты: «стремление осчастливить людей», «стремление к доктринерским принципам», «непоколебимая стойкость убеждений», «чистота воззрений», «настойчивость в борьбе за свои идеалы» [45, с. 235].
В описании паранойяльного типа П. Б. Ганнушкина также можно найти весь диапазон психологических характеристик — от чисто динамических до мировоззренческих: напряженная эффективность, настойчивость, упрямство, агрессивность, злопамятство, самодовольство, эгоизм, убежденность в особом значении собственной личности. Примеры эти можно умножить. «Разнопорядковость» черт, входящих в описания типов характера, вообще говоря, вполне естественна. Более того, она свидетельствует о полноте и непредвзятости восприятия авторами целостных обликов людей. Однако эти целостные облики нуждаются в расчленяющем анализе. Такой анализ авторами описаний характера, как правило, до конца не доводится: ими не фиксируется переход в описаниях от собственно характерологических структур к личностным. В результате создается почва для критики, о которой я уже говорила, — упреков авторов типологий в биологизации личности. Если же в характерологических комплексах произвести умственное разделение черт характера и черт личности, то многое встанет на свои места. Прежде всего станет понятным, что фактически в «типах характеров» показана типичность и, следовательно, закономерность сочетаний определенных черт характера с определенными чертами личности. Между прочим, последние выделяются иногда в особые рубрики, где под названиями «социальная установка», «социальное значение» [45; 25] прослеживаются особенности социальных позиций и отношений, т. е. личностные черты, типичные для представителей каждого характера.
И здесь возникает очень важная задача: проследить, почему и как определенные свойства характера способствуют формированию определенных свойств личности. В психологической литературе содержатся отдельные попытки ответить на эти вопросы, т. е. проследить механизмы возникновения личностных качеств в связи с некоторыми ярко выраженными чертами характера.
Так, С. Я. Рубинштейн приводит следующее объяснение угодливости и ханжества эпилептиков и эпилептоидных психопатов. Как уже говорилось, характер этих лиц отличается повышенной гневливостью и злобностью. Получая в ответ на частые аффективные вспышки законные «возмездия» от сверстников и взрослых, ребенок с таким характером ищет способы самозащиты. Он находит их на пути маскировки своей злобности и вспыльчивости угодливым поведением [97, с. 52].
Другой пример касается влияния акцентуаций характера на формирование личности в подростковом возрасте. Я беру его из монографии Личко [63].
Известно, насколько решающее значение для развития личности подростка имеет его отношение к социальным нормам и ценностям. Однако из-за особенностей своего характера подросток может обнаружить разное к ним отношение. Так, у гипертима обычно очень выражена «реакция эмансипации», т. е. отделение от взрослых, что, конечно, осложняет процесс усвоения социальных норм. Напротив, сензитивный подросток, как правило, сохраняет детскую привязанность к взрослым, охотно подчиняется их требованиям. В результате у него рано формируется чувство долга, чувство ответственности, повышенные и даже завышенные моральные требования к себе и другим.
Вряд ли нужно особенно подчеркивать, что проблема влияния характера на формирование личности важна не только в теоретическом плане. Она имеет исключительно важные выходы в практику воспитания и самовоспитания, так как прямо подводит к вопросам о методах воспитания детей с учетом их индивидуальных характеров, о способах профилактики и разрешения напряжений, создаваемых различными характерами в межличностных отношениях, о природе и путях разрешения некоторых внутренних проблем личности.
Итак, можно сказать, что активность общества, направленная на формирование личности, равно как и весь процесс формирования личности в целом, «встречает» в индивидуальных характерах разную почву. И вот в результате таких встреч возникают типичные сочетания характерологических и личностных свойств. Они и отражены в «типах характера», хотя точнее следовало бы говорить о «личностно-характерологических типах». Еще раз подчеркну, что типичность обсуждаемых сочетаний означает не предопределенность личности характером, а лишь закономерное проявление влияния определенных черт характера на процесс формирования личности.
Теперь об обратном отношении, т. е. о влиянии личности на судьбу характера. Проявления характера гораздо более непосредственны, чем проявления личности. Когда человек «отправляет» свой характер, то он скорее побуждается тем, что ему «естественно», что «хочется» или «не хочется». Когда же он начинает действовать как личность, то руководствуется скорее тем, что «должно», что «следует», «как полагается». Иными словами, с развитием личности человек начинает жить более нормативно не только в смысле обшей направленности, но и в смысле способов поведения. Это может быть выражено общей формулой, согласно которой личность в своем развитии «снимает» характер.
Чтобы это пояснить, я воспользуюсь вновь литературным примером из романа «Идиот». Зададим себе вопрос: каким характером обладает герой романа князь Мышкин?
Прослеживая его поведение, особенно в разнообразных и довольно острых ситуациях, можно обнаружить, что трудно определенно ответить на этот вопрос. Князь, конечно, не «бесхарактерный», но в то же время его нельзя оценить как человека упрямого или уступчивого, вспыльчивого или спокойного, решительного или боязливо-тревожного. С точки зрения этих характеристик его поведение противоречиво. Однако это противоречие разрешается, если увидеть за поступками князя не черты характера, а его «идеологию». Глубокая идейность составляет суть этого образа. Иными словами, князь Мышкин у Достоевского — это образ личности «per se»! Вот почему трудно определить его характер: он полностью превзойден и «отменен» личностью.
В психологической литературе есть очень интересный и, как мне кажется, не до конца оцененный опыт разработки того же общего положения о «снятии» характера личностью. Его мы находим в работе А. Ф. Лазурского [47].
А. Ф. Лазурский вводит понятия эндопсихики и экзопсихики. Под эндопсихикой он понимает совокупность внутренних психических (и психофизиологических) функций, относя к ним темперамент, характер, умственную одаренность и т. п. Экзопсихикой он предлагает называть совокупность отношений личности — отношений к природе, обществу, духовным ценностям, к собственной душевной жизни.
Кроме того, рассматривая различные степени зрелости (взрослой) личности, Лазурский выделяет три уровня: низший, средний и высший. Так вот, при характеристике личностей каждого уровня он пользуется различными понятийными средствами. Суть этих различий состоит в том, что, переходя от низшего уровня к высшему, автор постепенно перемещает акцент своих описаний с эндопсихики на экзопсихику.
Так. представителей низшего уровня Лазурский разбивает на следующие типы: «рассудочные» (преобладает ум), «аффективные» (преобладает чувство), «активные» (преобладает воля). Очевидно, что классификация здесь производится по признаку того, как живут и действуют данные лица. Обращаясь же к высшему уровню (я пропускаю средний), автор предлагает делить их представителей по видам ведущей деятельности, т. е. по тому, ради чего эти люди живут. Рубриками классификации здесь оказываются различные сферы социальной и культурной жизни, в которых личности высшего уровня находят свое настоящее призвание, а именно: «знание», «красота», «альтруизм», «общество и государство» и др.
Итак, можно сказать, что переходя от низшего уровня к высшему, А. Ф. Лазурский исключает из описания человеческой индивидуальности черты характера, заменяя их свойствами личности.
Нельзя, однако, думать, что «снятие» свойств характера личностью происходит всегда. Сказанное выражает лишь самую общую тенденцию. Часто эта тенденция реализуется не до конца, а иногда встречает серьезные препятствия в виде резко выраженных черт характера, которые еще более усугубляются внешними условиями. В таком случае личность оказывается не в состоянии преодолеть или «переработать» свой характер. Тогда последний оказывается существенной детерминантой поведения, а иногда и тормозом к развитию личности (что и наблюдается при психопатиях).
В заключение рассмотрим проблему «нормального» характера. Существует ли нормальный характер, и если да, то как он проявляется?
Формальный ответ на этот вопрос как будто очевиден; нормальный характер, конечно, существует: это характер без отклонений. Человек обладает нормальным характером, если он не излишне живой — и не излишне заторможенный, не излишне замкнутый — и не излишне открытый, не излишне тревожный — не излишне беззаботный… — и здесь, продолжая, пришлось бы перечислять все основные черты, отличающие, например, известные типы акцентуаций друг от друга. Иными словами, нормальный характер — это «золотая середина» целого ряда качеств.
Попробуем сначала отдать себе отчет, насколько типичен, т. е. широко распространен, такой гипотетический характер. Пусть «нормальными» будут считаться такие степени отклонения какого-нибудь свойства от математического среднего, которыми обладает половина популяции; тогда по 1/4 популяции разместится на обоих полюсах «оси» этого свойства в зонах «отклонения от нормы». Если теперь взять не одно, а два независимых свойства, то при тех же условиях в «нормальной» зоне окажется уже 1/4 часть популяции, а остальные 3/4 попадут в зоны «отклонений», при пяти независимых свойствах «нормальным» окажется один человек из 32, а при десяти — один из 1024! Так что иметь «нормальный» характер очень трудно, и такое явление довольно редко.
Я позволила себе эти расчеты, чтобы опровергнуть то распространенное мнение, что отклонения характера встречаются значительно реже, чем «норма». Однако это только количественная сторона дела.
Обратимся к более принципиальным соображениям, которые заставляют подвергнуть сомнению само понятие «нормальный характер». Одно из них было высказано П. Б. Ганнушкиным, а еще раньше — цитируемым им Т. Рибо. Эти авторы обращают внимание на внутреннюю противоречивость словосочетании «нормальный характер». По существу, оно означает «неотличающуюся индивидуальность» или «нехарактерную характерность». Ведь характер — это уже само по себе отличие, особенность, индивидуальность.
В связи с этим мне вспоминается случайно услышанный рассказ одного московского журналиста.
— Проводил я, — рассказывает он, — однажды лето в глухой деревне Калужской области. Сижу как-то в доме и слышу: идут огородами бабы и разговаривают, и вдруг понимаю, что речь идет обо мне. «А он, — говорит одна женщина. — мужик ничего, бессловесный, бесхарактерный!» Я так и сел. «Ничего себе, — думаю, — какое впечатление я произвожу!».
А надо сказать, что мужчина он живой, энергичный, вполне соответствует своей бойкой профессии.
«На следующий день, — продолжает он, — разговариваю с соседкой и как бы между прочим спрашиваю: «Тетя Настя, а какой это такой человек — бессловесный?» — «А это, — говорит, — который бранными словами не ругается». — «А бесхарактерный?» — «А это, — говорит, — который своего характера не кажет, не куражится!»
Эти ответы как будто вполне относятся к человеку с нормальным характером: ровно ведет себя, правильно общается, не создает проблем. И вот такую «нормальность» народное сознание определяет как «бесхарактерность», смыкаясь тем самым с точкой зрения Ганнушкина и Рибо! По-видимому, и для народного сознания характер — это, если можно так выразиться, «острые углы», которые проступают в поведении человека. Если таких углов нет, то нет и характера — человек «бесхарактерный» (и заслуживает всяческих похвал). Иными словами, «нормального» характера не бывает.
Откровенно говоря, я охотно присоединяюсь к этой точке зрения. Но тогда вы вправе меня спросить: «Что же, выходит, что человек, который не психопат и не акцентуант, — серый и безликий, и о нем ничего особенного сказать нельзя?» Нет, совсем не так. В случае гармоничного (с точки зрения характера) человека для описания его индивидуальности необходимо перейти с языка свойств характера на язык свойств личности. И тогда обнаружится масса уникальных его особенностей, среди которых и свойства его мотивационной сферы, и его нравственность, и мировоззрение, и его внутренние проблемы, и достигнутый уровень развития личности, и потенциал ее дальнейшего роста, и многое другое. Однако все эти аспекты индивидуальности составляют материал следующей лекции.
Лекция 16
ЛИЧНОСТЬ И ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ
ЕЩЕ РАЗ: ЧТО ТАКОЕ ЛИЧНОСТЬ? КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ. ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПУТЬ. ЭТАПЫ («ПЕРВОЕ» И «ВТОРОЕ» РОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, ПО А. Н. ЛЕОНТЬЕВУ);
СТИХИЙНЫЕ МЕХАНИЗМЫ;
СДВИГ МОТИВА НА ЦЕЛЬ;
ИДЕНТИФИКАЦИЯ, УСВОЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ.
САМОСОЗНАНИЕ И ЕГО ФУНКЦИИ
При попытках определить личность в литературе часто цитируются слова К. Маркса: «…человек есть совокупность всех общественных отношений» [1, т. 3. с. 3].
Некоторые авторы видят в этих словах прямое определение личности. Другие не соглашаются с ними, замечая, что у Маркса речь идет, во-первых, не о личности, а о человеке, во-вторых, скорее всего об обобщенном человеке (человечестве в целом), ибо ни один конкретный человек не может быть совокупностью всех общественных отношений.
Мне представляется верной эта вторая точка зрения: приведенная формула Маркса отражает общефилософский взгляд на человека, а именно постулирование его социальной сущности. Вы уже познакомились с одной психологической конкретизацией этого общего положения — с теорией Л. С. Выготского. Она раскрывает социальную природу высших психических функций. Та же задача стоит и в отношении личности. Марксистская философия задает самое общее понимание личности как такого образования, которое возникает благодаря вхождению каждого конкретного индивида в общественные отношения и «интериоризации» этих отношений.
Для психологической конкретизации этого общего представления необходимо ответить, используя психологические понятия, по крайней мере на следующие вопросы: в чем состоит то новообразование, которое мы называем личностью? Как происходит формирование личности, как представляется самому субъекту, так сказать изнутри, процесс роста и функционирования его личности?
Эти вопросы и будут основными пунктами нашего дальнейшего движения, конечная цель которого — ответить на главный вопрос: что такое личность?
Итак, первый частный вопрос. Конкретизирую его следующим образом: каковы необходимые и достаточные критерии сформировавшейся личности?
Я воспользуюсь соображениями на этот счет автора монографии о развитии личности у детей Л. И. Божович [16|. По существу, она выделяет два основных критерия.
Первый критерий: человека можно считать личностью, если в его мотивах существует иерархия в одном определенном смысле, а именно если он способен преодолевать собственные непосредственные побуждения ради чего-то другого. В таких случаях говорят, что субъект способен к опосредованному поведению. При этом предполагается, что мотивы, по которым преодолеваются непосредственные побуждения, социально значимы. Они социальны по своему происхождению и смыслу, т. е. заданы обществом, воспитаны в человеке.
Второй необходимый критерий личности — способность к сознательному руководству собственным поведением. Это руководство осуществляется на основе осознанных мотивов-целей и принципов. От первого критерия второй отличается тем, что предполагает именно сознательное соподчинение мотивов. Просто опосредствованное поведение (первый критерий) может иметь в своей основе и стихийно сложившуюся иерархию мотивов, и даже «стихийную нравственность»: человек может не отдавать себе отчета в том, что именно заставило его поступить определенным образом, тем не менее продействовать вполне нравственно. Итак, хотя во втором признаке также имеется в виду опосредствованное поведение, подчеркивается именно сознательное опосредствование. Оно предполагает наличие самосознания как особой инстанции личности.
Чтобы лучше понять названные критерии, разберем для контраста один пример — облик человека (ребенка) с очень сильной задержкой развития личности.
Это довольно уникальный случай, он касается знаменитой (как и наша Ольга Скороходова) слепоглухонемой американки Элен Келлер. Взрослой Элен стала вполне культурным и очень образованным человеком. А вот в возрасте 6 лет, когда молодая учительница Анна Салливан приехала в дом ее родителей, чтобы начать обучение девочки, она представляла собой совершенно необычное существо.
К этому моменту Элен была довольно хорошо психически развита. Ее родители были состоятельными людьми, и Элен, их единственному ребенку, оказываюсь всяческое внимание. В результате она вела активную жизнь, хорошо ориентировалась в доме, бегала по саду и огороду, знала домашних животных, умела пользоваться многими предметами обихода. Она дружила с девочкой-негритянкой, дочкой кухарки, и лаже общалась с ней на понятном только им я зыке знаков.
И вместе с тем поведение Элен представляло собой страшную картину. В семье девочку очень жалели, потакали ей во всем и всегда уступали ее требованиям. В результате она превратилась в тирана семьи. Если ей не удавалось чего-нибудь добиться или даже быть просто понятой, она приходила в бешенство, начинала брыкаться, царапаться и кусаться. Ко времени приезда учительницы такие припадки бешенства повторялись уже по нескольку раз в день.
Анна Салливан описывает, как произошла их первая встреча. Девочка ждала ее, так как была предупреждена о приезде гостьи. Заслышав шаги, вернее, почувствовав вибрацию от шагов, она, нагнув голову, бросилась в атаку. Анна попыталась ее обнять, но пинками и щипками девочка освободилась от нее. За обедом учительницу посадили рядом с Элен. Но девочка обычно не сидела на своем месте, а обходила стол, запуская руки в чужие тарелки и выбирая то, что ей понравится. Когда ее рука оказалась в тарелке гостьи, она получила удар, и ее насильно усадили на стул. Соскочив со стула, девочка бросилась к близким, но нашла стулья пустыми. Учительница твердо потребовала временного отделения Элен от семьи, которая полностью подчинялась ее прихотям. Так девочка была отдана во власть «врага», схватки с которым продолжались еще долгое время. Всякое совместное действие — одевание, умывание и проч. — вызывало в ней приступы агрессии. Однажды уларом в лицо она выбила у учительницы два передних зуба. Ни о каком обучении не могло быть и речи. «Надо было сначала обуздать ее нрав», — пишет А. Салливан [цит. по: 77, с. 48—50].
Итак, используя разобранные выше представления и признаки, можно сказать, что у Элен Келлер до 6-летнсго возраста развития личности почти не происходило, так как ее непосредственные побуждения не только не преодолевались, но даже в какой-то мере культивировались потакающими взрослыми. Цель учительницы — «обуздать нрав» девочки — и означала приступить к формированию ее личности.
Обратимся к более подробному рассмотрению процесса формирования личности.
Сначала представим себе самую общую его картину. Согласно взгляду советской психологии личность, как и все специфически человеческое в психике человека, формируется путем усвоения, или присвоения, индивидом общественно выработанного опыта.
Опыт, который имеет непосредственное отношение к личности, — это системы представлений о нормах и ценностях жизни человека: о его общей направленности, поведении, отношениях к другим людям, к себе, к обществу в целом. Они зафиксированы в очень различных формах — в философских и этических воззрениях, в произведениях литературы и искусства, в сводах законов, в системах общественных наград, поощрений и наказаний, в традициях, общественных мнениях… вплоть до родительских указаний ребенку на то, «что такое хорошо» и «что такое плохо».
Понятно, что в различных культурах, в разные исторические времена эти системы норм, требований, ценностей были различны и порой отличались очень сильно. Однако смысл их от этого не менялся. Он может быть выражен с помощью таких понятий, как «объективное предбытие» или «социальные планы» (программы) личности.
Общество организует специальную активность, направленную на реализацию этих «планов». Но в лице каждого индивида оно встречает отнюдь не пассивное существо. Активность общества встречается с активностью субъекта. Процессы, которые при этом разыгрываются, и составляют самые главные, порой драматичные, события в ходе формирования и жизни личности.
Формирование личности хотя и есть процесс освоения специальной сферы общественного опыта, но процесс совершенно особый. Он отличается от усвоения знаний, умений, способов действий. Ведь здесь речь идет о таком освоении, в результате которого происходит формирование новых мотивов и потребностей, их преобразование, их соподчинение. А достичь всего этого путем простого усвоения нельзя. Усвоенный мотив в лучшем случае мотив знаемый, но не реально действующий, т. е. мотив неистинный. Знать, что должно делать, к чему следует стремиться, — не значит хотеть это делать, действительно к этому стремиться. Новые потребности и мотивы, а также их соподчинения возникают в процессе не усвоения, а переживания, или проживания. Этот процесс всегда происходит только в реальной жизни человека. Он является всегда эмоционально насыщенным, часто субъективно творческим.
Рассмотрим этапы формирования личности. Остановимся на самых главных и очень крупных этапах. По образному выражению А. Н. Леонтьева, личность «рождается» дважды.
Первое ее рождение относится к дошкольному возрасту и знаменуется установлением первых иерархических отношений мотивов, первыми подчинениями непосредственных побуждений социальным нормам. Иными словами, здесь зарождается то, что отражено в первом критерии личности.
А. Н. Леонтьев иллюстрирует это событие примером, который широко известен под названием «эффекта горькой конфеты» [57, с. 187—188].
Ребенок-дошкольник получает от экспериментатора практически невыполнимое задание: достать удаленную вещь, не вставая со стула. Экспериментатор выходит, продолжая наблюдать за ребенком из соседнего помещения. После безуспешных попыток ребенок встает, берет привлекающий его предмет и возвращается на место. Экспериментатор входит, хвалит его и предлагает в награду конфету. Ребенок отказывается от нее, а после повторных предложений начинает тихо плакать. Конфета оказывается для него «горькой».
О чем говорит этот факт? Анализ событий показывает, что ребенок был поставлен в ситуацию конфликта мотивов. Один его мотив — взять интересующую вещь (непосредственное побуждение); другой — выполнить условие взрослого («социальный» мотив). В отсутствие взрослого верх взяло непосредственное побуждение. Однако с приходом экспериментатора актуализировался второй мотив, значение которого еще усилилось незаслуженной наградой. Отказ и слезы ребенка — свидетельство того, что процесс освоения социальных норм и соподчинения мотивов уже начался, хотя и не дошел еще до конца.
Тот факт, что именно в присутствии взрослого переживания ребенка начинают определяться социальным мотивом, очень знаменателен. Он служит ярким подтверждением общего положения о том, что «узлы» личности завязываются в интерперсональных отношениях [57, с. 187] и лишь затем становятся элементами внутренней структуры личности. Вполне можно сказать, что здесь наблюдается ранняя стадия «завязывания» таких узлов.
Второе рождение личности начинается в подростковом возрасте и выражается в появлении стремления и способности осознавать свои мотивы, а также проводить активную работу по их подчинению и переподчинению. Заметим, что эта способность к самоосознанию, саморуководству, самовоспитанию и отражена во втором признаке личности, разобранном выше.
Между прочим, ее обязательность зафиксирована в такой юридической категории, как уголовная ответственность за совершаемые действия. Эта ответственность, как известно, возлагается на каждого душевно здорового человека, достигшего совершеннолетия.
Оставив временно тему о функциях и формах проявления самосознания (я вернусь к ней позже), продолжим обсуждение вопроса о формировании личности. Подойдем к нему теперь не со стороны его этапов, а со стороны его механизмов.
Несмотря на крайнюю важность этого вопроса и для теории личности, и для практики воспитания, он разработан еще далеко не достаточно. Тем не менее ряд важных механизмов в психологии выявлен и описан.
Остановлюсь прежде всего на тех, которые могут быть названы стихийными механизмами формирования личности. К ним можно отнести достаточно общий механизм сдвига мотива на цель, а также более специальные механизмы идентификации и освоения социальных ролей. Это стихийные механизмы, потому что субъект, подвергаясь их действию, в полной мере не осознает их и уж во всяком случае сознательно ими не управляет. Они господствуют в детстве, до подросткового возраста, хотя затем также продолжают участвовать в развитии личности вместе с сознательными формами «самопостроения».
Прежде всего нужно сказать, что все названные механизмы в той мере, в какой они касаются развития личности, действуют в русле общего, генерального процесса опредмечивания потребности в общении.
Этой потребности последнее время придается в психологии все большее значение. По своей фундаментальности она приравнивается к органическим потребностям. Она столь же витальна, как и эти последние, ибо неудовлетворение ее приводит к ухудшению физического состояния младенца, равно как и детенышей высших животных, и даже к их гибели. Некоторые авторы считают эту потребность врожденной. Другие полагают, что она формируется у ребенка очень рано, так как удовлетворение всех его органических потребностей происходит исключительно с помощью взрослого, и потребность в последнем становится столь же настоятельной, как и потребность в пище, безопасности, телесном комфорте и т. п. Независимо от позиции в этом дискуссионном вопросе все авторы признают, что потребность «в другом», в контакте с себе подобными, в общении оказывается главной движущей силой формирования и развития личности.
Обратимся к первому из названных механизмов — сдвигу мотива на цель — и проследим его функционирование на самых ранних этапах развития личности ребенка. В первые годы воспитание ребенка состоит в основном из привития ему норм поведения.
Как это происходит? Еще до года ребенок узнает, что ему можно и следует делать, а что нельзя; что вызывает улыбку и одобрение матери, а что — строгое лицо и слово «нельзя». А «следует» ему, например, проситься в туалет, голодному — ждать, когда приготовят пищу, пользоваться ложкой, вместо того чтобы хватать пищу руками; «нельзя» ему брать бьющийся стакан, хватать нож, тянуться к огню, т. е. удовлетворять естественные побуждения исследовать новые, яркие, интересные предметы.
Очевидно, что уже с этих первых шагов начинается формирование того, что называется «опосредствованным поведением», т. е. действий, которые направляются не непосредственными импульсами, а правилами, требованиями и нормами.
С ростом ребенка все больше и больше расширяется круг норм и правил, которые он должен усвоить и которые должны опосредствовать его поведение. Все дошкольное детство заполнено таким воспитанием, и оно проходит ежедневно и ежечасно.
Особенно здесь следует выделить нормы поведения по отношению к другим людям. Присмотритесь к будням воспитания дошкольника. Они наполнены требованиями и разъяснениями подобного рода: «скажи здравствуй», «не тяни руку первый», «скажи спасибо», «а где волшебное слово «пожалуйста»?», «отворачивайся, когда чихаешь», «не отнимай», «поделись», «уступи место», «не обижай маленького»…
И при правильном тоне воспитателя, достаточно дружелюбном, но настойчивом, ребенок овладевает этими нормами, начинает вести себя в соответствии с ними. Конечно, диапазон результатов воспитания очень велик. Есть дети очень невоспитанные и есть — очень воспитанные. Но в среднем ребенок, вырастающий в нашей культуре, демонстрирует массу усвоенных норм поведения, воспитание дает свои результаты.
Возникает вопрос: ограничиваются ли эти результаты рамками внешнего поведения, его, так сказать, состоявшейся дрессурой, или воспитание приводит также к внутренним изменениям, преобразованиям в мотивационной сфере ребенка? Вопрос очень важный, можно сказать, капитально важный.
Ответ на него очевиден: нет, результаты воспитания не ограничиваются внешним поведением; да, происходят изменения в мотивационной сфере ребенка. В противном случае, например, ребенок в разобранном примере А. Н. Леонтьева не заплакал бы, а спокойно бы взял конфету. В повседневной жизни те же сдвиги обнаруживаются в том, что ребенок с какого-то момента начинает сам получать удовольствие, когда он поступает «правильно».
Таким образом, мы уже готовы разобрать психологический механизм, который здесь имеет место. Однако сначала я хочу особенно подчеркнуть одно важное обстоятельство, о котором уже упомянула, но как бы вскользь, и вы могли не обратить на него должного внимания.
Воспитание личности приносит плоды только в том случае, если оно проходит в правильном эмоциональном тоне, если родителю или воспитателю удается сочетать требовательность и доброту, — доброту обязательно! Это правило давно интуитивно найдено в педагогической практике и осознано многими выдающимися педагогами. Ничего нельзя добиться требованиями и наказаниями, «страх наказания» — плохой помощник в воспитании. Если же речь идет о воспитании личности, то это путь, который себя полностью дискредитирует. Приведу один пример.
В конце XIX века русский педагог и психолог П. Лесгафт провел исследование характеров (фактически личностей) школьников и выделил шесть различных типов. Он рассматривал также условия воспитания детей в семьях и обнаружил интересные соответствия между типом личности ребенка и стилем воспитания в семье.
Так, по наблюдениям Лесгафта, «нормальный» характер детей (автор называет его «добродушным») формируется в семьях, где существует атмосфера спокойствия, любви и внимания, но где ребенка не изнеживают и не балуют.
Среди «аномальных» он описал, в частности, «злостно-забитый» тип, чертами которого являются озлобленность, злорадство, равнодушие к требованиям или порицаниям окружающих. Как выяснилось, такие дети вырастают в условиях чрезмерной строгости, придирчивости, несправедливости [60].
Итак, при воспитании оказывается совершенно неодинаковой роль поощрения и наказания, т. е. (в научных терминах) положительного и отрицательного подкрепления. Это может показаться странным, ведь из физиологии высшей нервной деятельности известно, что условный рефлекс может вырабатываться с равным успехом на основе и положительного (например, пищевого) и отрицательного (например, болевого) подкрепления.
Но в том-то вес и дело, что воспитание личности — это не выработка условных рефлексов, а нечто гораздо большее!
Итак, обратимся к анализу обсуждаемого механизма. Что происходит при правильном воспитании ребенка? Я уже говорила о потребности в общении, о ее раннем появлении, ее настоятельности и силе. Ребенок хочет быть с матерью — говорить о ней, играть, удивляться вместе с ней, искать у нее защиты и сочувствия. Но у него нет никаких непосредственных побуждений быть вежливым, внимательным к другим, сдерживать себя, отказывать себе в чем-либо и т. п. Однако мать ласково и настойчиво этого требует. Требования ее освещены для ребенка личностным смыслом, ибо они прямо связаны с предметом его потребности — контактом с матерью. Это, конечно, положительный смысл, так как общение с ней — радость. Первоначально он и выполняет ее требования, чтобы продолжать испытывать эту радость.
На языке формул можно сказать, что ребенок на первых порах выполняет требуемое действие (цель) ради общения с матерью (мотив). Со временем на это действие «проецируется» все большее количество положительных переживаний, и вместе с их аккумуляцией правильное действие приобретает самостоятельную побудительную силу (становится мотивом).
Таким образом, процесс подчиняется следующему общему правилу: тот предмет (идея, цель), который длительно и стойко насыщался положительными эмоциями, превращается в самостоятельный мотив. Вы уже знаете, что в таких случаях говорят, что произошел сдвиг мотива на цель или, другими словами, цель приобрела статус мотива. Помните, для пояснения этого механизма на одной из прошлых лекций я предложила воспользоваться следующим образом: представить себе, что предмет освещается из какого-то источника и светится отраженным светом; но предмет этот обладает особым свойством: по мере накопления света он начинает светиться сам!
Наш «предмет» — это нормативные действия, освещенные мотивом общения. Но чтобы они «засветились» сами, нужно, чтобы на них поступал именно «свет», т. е. положительные эмоции.
Если общение со взрослым идет плохо, безрадостно, приносит огорчения, то весь механизм не работает, новые мотивы у ребенка не возникают, правильного воспитания личности не происходит!
Рассмотренный механизм действует на всех этапах развития личности. Только с возрастом меняются и усложняются те главные мотивы общения, которые «освещают» осваиваемые действия. Ведь по мере роста ребенка все более широким становится круг его социальных контактов и связей. Родители, родные и близкие, воспитатели детского сада и сверстники, учителя начальных классов и школьные товарищи, члены дворовой компании, друзья, знакомые, сослуживцы, современники и даже потомки — вот примерный перечень все расширяющихся сфер общения в реальном и идеальном планах.
Специальные исследования, да и повседневные наблюдения показывают, что каждому этапу реального расширения контактов предшествует, а затем его сопровождает ярко выраженный мотив принятия другими, признания и утверждения в соответствующей социальной группе.
Стоит вспомнить, как ребенок мечтает надеть школьную форму и пойти в первый класс, какое значение придает ученик среднего школьного возраста своему месту и позиции в классе, как заботится о предстоящем месте в жизни юноша.
Подобные мотивы, как показал очень отчетливо в своей работе Д. Б. Эльконин |132|. побуждают не только к прямым действиям: установлению контактов и отношений, занятию определенной позиции, но и к действиям, а затем и к развернутым деятельностям, которые обеспечивают приобретение необходимых навыков, знании, умений, мастерства. А это и значит, что социальные мотивы (принятия, признания, утверждения) порождают новые мотивы — собственно профессиональные, а затем и идеальные — стремления к Истине, Красоте, Справедливости.
Перейдем к следующему механизму.
Конечно, далеко не все передается ребенку в форме направленных воспитательных воздействий. Большая роль в передаче «личностного» опыта принадлежит косвенным влияниям — через личный пример, «заражение», подражание. Соответствующий механизм получил название механизма идентификации.
Первые ярко выраженные идентификации происходят у дошкольников с родителями. Дети подражают родителям во всем: в манерах, речи, интонациях, одежде, занятиях. Занятия ими воспроизводятся, конечно, с чисто внешней стороны — они могут просиживать за письменным столом, водя ручкой по бумаге, «читать» газету или «орудовать» какими-то инструментами. Но одновременно они усваивают и внутренние черты родителей — их вкусы, отношения, способы поведения и чувствования.
Очень ярко это проявляется в ролевых играх дошкольников, особенно при игре «в семью». Воспитатели детских садов в один голос говорят о том, что дети невольно выдают своих родителей. Достаточно послушать, как девочка, играющая роль матери, делает выговор мальчику, который играет роль отца, чтобы понять, какой характер у ее матери и из какой семейной обстановки вынесен этот тон.
Характерная особенность процесса идентификации состоит в том, что он происходит, особенно на первых порах, независимо от сознания ребенка и также не контролируется в полной мере родителями. Это накладывает особую ответственность на воспитателей — ответственность за качество их собственной личности.
Приведу на этот счет очень яркие и психологически точные слова А. С. Макаренко.
«Не думайте, что вы воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о других людях, как вы радуетесь или печалитесь, как вы общаетесь с друзьями и с врагами, как вы смеетесь, читаете газету — все это имеет для ребенка большое значение. Малейшие изменения в тоне ребенок видит или чувствует, все повороты вашей мысли доходят до него невидимыми путями, вы их не замечаете.
А если дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а еще хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже воспитываете ваших детей, и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и методы вам не помогут» [70, с. 12].
На более поздних возрастных стадиях чрезвычайно расширяется круг лиц, из которых выбирается образец — объект идентификации. Им может стать предводитель компании, учитель, просто знакомый взрослый, литературный герой, герой гражданской или Великой Отечественной войн, известный современник или герой прошлого.
Анализ субъективных отчетов, наблюдения и специальные исследования показывают, что принятие личностного эталона, или образца, имеет чрезвычайно важную психологическую функцию. Оно облегчает вхождение ребенка, подростка, молодого человека в новую социальную позицию, усвоение новых отношений, образование новых личностных структур.
Так, обнаружено, что те дети, которые в дошкольном возрасте мало играли в ролевые игры и тем самым мало воспроизводили поведение взрослых, хуже адаптируются к социальным условиям.
Наверное, излишне говорить, как облегчается внутренняя жизнь и развитие личности молодого и даже взрослого человека, если он имеет живой образец для подражания в отношении серьезности, преданности делу, творческой напряженности, общей жизненной позиции.
Приведу выдержку из сочинения одного десятиклассника: «Принято говорить, что юность не признает авторитетов. Это не так. Да, юность ищет самостоятельности, но это не значит, что для нее не существует идеалов. Юность не только признает, но и ищет авторитеты».
О субъективной важности такого «авторитета» — объекта поклонения или подражания — говорит и тот факт, что его утрата или разочарование в нем обычно сопровождается острыми переживаниями.
Напомню вам события, которые описаны в романе Э. Войнич «Овод».
Герой романа, Артур, проводит детство и юность в тесном общении со своим учителем и наставником — священником Монтанелли. Это умный, образованный, высоконравственный человек. Мальчик тянется к нему, прислушивается к каждому его слову, боготворит его.
Но вот он неожиданно узнает, что padre — его настоящий отец, и что он сам — незаконнорожденный сын Монтанелли. Обнаруживается, таким образом, что в биографии этого человека — священника, давшего обет безбрачия, черное пятно, которое ставит под сомнение истинность и его веры, и его проповедей, и его идеалов. Идол в сознании Артура рушится, а имеете с ним рушится и весь его счастливый мир. Вы помните, что Артур инсценируют самоубийство, рвет семейные связи, личные привязанности, скрывается, меняет имя, и через некоторое время мы снова встречаемся с ним, — но фактически уже с другой личностью.
В более спокойных случаях рано или поздно наступает такой момент, когда «образец» теряет для личности свою притягательность и субъективную значимость. Это вполне естественно: развивающаяся личность восприняла от образца нечто очень важное и нужное, но у нее свой путь.
Феномен дезактуализации образца похож на «сбрасывание старой кожи». Он знаменует завершение определенного этапа в развитии личности, подъем ее на новую ступень. При этом оказывается, что сложились новые отношения, появились новые мотивы, которые заставляют ставить новые цели и искать новые образцы и идеалы. Так, процесс идет по восходящим виткам спирали.
Замечу в скобках, что как бы полностью ни был изжит наш «образец», нужно сохранять к нему глубокую благодарность за то, что он нам дал, и не так уж важно, был ли он в действительности таким безупречным, каким казался.
Я хочу завершить знакомство с механизмом идентификации одним развернутым примером. В нем вы отчетливо увидите и работу этого механизма, и ряд более общих моментов, проясняющих природу личности в целом.
Речь пойдет о случаях переделки пола индивидов — переделки в чисто медицинском смысле. Но, как выяснилось, этот процесс включает в себя и полное перерождение личности [см. 13].
Существуют лица с ненормальным развитием половой системы, которое препятствует им стать полноценными мужчиной или женщиной. Детство и подростковый период проходит у них очень драматично. Вначале ребенок не осознает своей аномалии. Но где-то в возрасте 4-5 лет, в результате замечаний окружающих, собственных наблюдений и сравнений, он начинает понимать, что не такой, как все. На этой первой фазе ребенок старается скрыть или компенсировать свой недостаток. Он активно участвует в играх детей своего пола, подчеркивает свою половую принадлежность внешним поведением, одеждой и т. п. И эти усилия на некоторое время обеспечивают ему более или менее спокойное существование.
Однако в период полового созревания, в 13-15 лет, наступает кризис. Дело в том, что у таких подростков не происходит нормального гормонального сдвига или же происходит резкий выброс гормонов противоположного пола. В результате полностью нарушается половой облик, половое поведение и социальная адаптация в целом.
Если, например, это был мальчик, он начинает полнеть; его тело принимает женские формы; интерес к девочкам не пробуждается. В результате он перестает чувствовать себя мальчиком, окружающие тоже могут отвергать его как мальчика.
Утрата половой принадлежности переживается очень тяжело и сопровождается целым рядом более общих переживаний: исчезает привязанность к близким людям и родным местам, возникает чувство потери своего места среди людей, утрачивается «внутреннее Я» (передается как ощущение обезличенья!), теряется смысл жизни, иногда возникают мысли о самоубийстве.
В результате успешной хирургической операции и гормональной терапии происходит переделка пола в физиологическом смысле. Однако этого оказывается совершенно недостаточно, чтобы человек действительно почувствовал себя представителем другого пола. Нужна еще большая психологическая работа, которую пациент проводит с помощью врача-психотерапевта.
Каково же содержание этой работы?
На первом этапе больной должен создать «идеальную модель» мужественности (или женственности), которой он будет следовать. И вот оказывается, что если такой моделью становится конкретный человек, к которому больной положительно эмоционально расположен, то образец приобретает убедительность, действенность, подражание ему проходит легко и эффективно.
Иногда «моделью» может стать обобщенный образ, вобравший в себя черты нескольких лиц, но тем не менее она должна быть.
Второй этап — имитационный. Пациент старается воспроизводить поведение своего образца — его манеры, движения, мимику, все мельчайшие детали его поведения. Однако (и это опять очень серьезный момент) имитация не может состояться, если не изменен костюм. До изменения костюма человек не может не только воспроизводить соответствующее поведение, но не может даже называть себя соответствующим местоимением и даже думать о себе в соответствующем роде! Только после смены костюма обостряется внимание к различным подробностям поведения — как держать расческу, как применять косметику — как сидеть, двигаться и т. п.
И снова удивительный факт: отождествление немыслимо до тех пор, пока не начнется общение с другими людьми, и пока окружающие не начнут реагировать на пациента как на лицо другого пола! С этой целью в условиях клиники организуются специальные игровые ситуации, подобные играм дошкольников, в которых пациент общается с другими людьми в новом костюме, с новым местоимением и в которых он вполне признается в качестве лица другого пола.
Наконец, на третьем этапе пациент начинает вносить свои коррективы в способы поведения, усвоенные от образца. По отношению к образцу появляется амбивалентное отношение: некоторые его черты, которые принимались с восхищением, подвергаются критике вплоть до полного отвержения. Одновременно может произойти переориентация на других лиц, с которыми происходит постоянное общение, и возникнуть некий обобщенный образ подобающего поведения.
На этом этапе манеры поведения, употребление соответствующего местоимения и пр. автоматизируются, они уже не требуют сознательного контроля. Очень важно, что на последнем этапе окончательно меняются не только внешние манеры и эмоциональные отношения. Трансформация личности идет глубже: меняются системы ценностей, нравственные установки.
А. И. Белкин приводит такой факт [13, с. 204]. Одна пациентка в возрасте 18 лет, перенесшая смену пола с мужского на женский, вскоре отказалась жить в доме своей тетки. Единственной причиной такого отказа было легкомысленное поведение тетки: та часто оставляла у себя мужчин на ночь. Раньше, когда пациентка была юношей, она не видела в этом ничего предосудительного. Теперь же поведение тетки стало вызывать у нее протест: «Где же ее женская гордость?!» На подобный упрек тетка ответила с изумлением: «Ты что, проснулась только?»
И действительно, пациентка только что «проснулась», а точнее, заново «родилась» как личность. Это перерождение захватило такие сугубо личностные структуры, как морально-этические установки, отношения к жизненным событиям, другим людям, к себе.
Итак, весь рассмотренный материал, помимо феномена идентификации и стадий этого процесса, живо иллюстрирует некоторые разобранные выше общие положения о природе личности.
Пожалуй, главное из них — положение о том, что личность начинает формироваться во внешнем пространстве общественных отношений. Действительно, у пациентов внешние отношения не складывались или разрушались, и как результат этого происходило разрушение внутреннего мира личности — исчезали привязанности, эмоции, стремления, смыслы и даже ощущение собственного «Я». Это переживание «обезличенья», конечно, удивительно. Оно убедительно доказывает, что чувство «Я» не рождается изнутри, а есть отражение восприятия человека другими людьми, принятия его, отношений к нему.
Об этом же свидетельствует тот факт, что возможность называть себя местоимением другого рода появляется только после смены костюма и признания соответствующего пола другими людьми.
Перейдем к третьему механизму — принятая и освоения социальных ролей. Во многом он сходен с механизмом идентификации, отличаясь от него значительно большей обобщенностью и часто отсутствием персонализации осваиваемого эталона.
Этот механизм описывается в психологии с помощью понятий социальная позиция и социальная роль.
Социальная позиция — это функциональное место, которое может занять человек по отношению к другим людям. Она характеризуется прежде всего совокупностью прав и обязанностей. Заняв данную позицию, человек должен выполнять социальную роль, т. е. осуществлять совокупность действий, которых от него ожидает окружение.
Оба понятия (социальной позиции и социальной роли) полезны тем, что позволяют структурно расчленить социальную среду и сначала объективно, не прибегая к реально действующему субъекту, описать некую заданную нормативную систему действий, которые он должен выполнить, отношений, в которые он должен вступить, стиль поведения, который он должен освоить.
Это первый шаг в анализе, после которого можно перейти к рассмотрению того, как эта нормативная система «врастает» в человека, интериоризуется в нем, какие психологические феномены здесь возникают.
Сразу надо отметить, что набор социальных позиций и ролей очень широк и разнообразен. Среди них и роль дошкольника или ученика первого класса, и роль члена дворовой компании или спортивной команды, и роли бухгалтера, ученого, матери, мужчины или женщины. Очевидно, что каждый человек задействован сразу в нескольких ролях.
Обращаясь к процессу вхождения в роль, ее освоения и выполнения, обнаруживаем, что многие моменты этого процесса являются, так сказать, горячими точками жизни личности.
Прежде всего заметим, что о позициях, или ролях, мечтают. Известно, что старший дошкольник мечтает стать школьником, солдат (по известному изречению) — генералом, спортсмен — чемпионом. Интересно, что в мечтах такого рода существенную роль занимают представления о том, «как я буду выглядеть», т. е. внешние регалии, признаки, символы позиции: школьная форма («как я ее надел и иду с портфелем»), мундир и погоны, пьедестал и медаль чемпиона.
Подобные переживания отражают очень важный психологический момент — стремление предстать перед другими в новом виде, соответствующем новой роли.
На более продвинутой фазе человек нередко срастается с ролью, она становится частью его личности, частью его «Я». Это можно наблюдать на случаях неожиданных выходов или принудительных выводов из привычной роли. Увольнение с работы, дисквалификация спортсмена, срывание погон с офицера — все подобные случаи обычно переживаются как утрата части своей личности. Близки к ним ситуации временного «обезроливания» человека, например, в условиях стихийного бедствия, перед лицом тяжелой болезни.
Подобные ситуации, где происходит социальное уравнивание, а иногда даже социальная инверсия, очень интересны с той точки зрения, что они проявляют степень жесткости связи личности со своей ролью. Некоторые лица обнаруживают в этом отношении большую гибкость — они быстро находят себя в новых позициях; другие же более ригидны, блекнут, лишенные привычной социальной оболочки, или же оказываются не в силах отказаться от прежних замашек и претензий, часто малоуместных в новых условиях.
Если присмотреться ко всем фактам, составляющим то, что можно было бы назвать в целом феноменологией социальных ролей, то можно прийти к заключению, что освоение социальных ролей имеет самое непосредственное отношение к формированию и жизни личности.
Чтобы убедиться в этом, достаточно показать, что в ходе освоения и выполнения ролей, во-первых, появляются новые мотивы, во-вторых, происходит их соподчинение, в-третьих, видоизменяются системы взглядов, ценностей, этических норм и отношений.
Разберем все эти три утверждения на примерах.
Первое может быть проиллюстрировано довольно известным приемом, которым пользуются учителя: если в классе есть излишне активный и шумный ученик, классный руководитель назначает его ответственным за дисциплину. Роль «блюстителя порядка» иногда в корне меняет поведение самого «блюстителя», неожиданно порождая у него действительное стремление к порядку.
Более яркий пример того же рода описан А. С. Макаренко в «Педагогической поэме». Вы, наверное, помните, как он однажды поручил одному из воспитанников (в недавнем прошлом вору с хорошим стажем) довезти крупную сумму общественных денег. А. С. Макаренко, конечно, понимал, что это очень рискованный шаг: представленный самому себе, подросток мог в любой момент скрыться вместе с деньгами. И тем не менее он пошел на этот риск.
Порученная миссия глубоко потрясла подростка. Он вдруг почувствовал себя другим человеком — человеком, которому можно доверять, на которого можно положиться. Он не только с честью справился с заданием, но и очень скоро стал одним из самых близких помощников А. С. Макаренко в организации жизни колонии и воспитании других ребят.
Для иллюстрации второго факта — влияния социальной роли на соподчинение мотивов — воспользуюсь примерами из В. Джемса.
«…Частное лицо, — пишет он, — может без зазрения совести покинуть город, зараженный холерой, но священник или доктор нашли бы такой поступок несовместимым с их понятием о чести. Честь солдата побуждает его сражаться и умирать при таких обстоятельствах, когда другой человек имеет полное право скрыться в безопасное место или бежать, не налагая на свое социальное Я позорного пятна» [34, с. 63].
Здесь в обоих случаях мы сталкиваемся с установлением иерархии мотивов: мотив самосохранения уступает место социально значимому мотиву (помощь больным, защита соотечественников), причем такая иерархия диктуется ролью и становится действительно, неотъемлемой характеристикой личности.
Наконец, яркую иллюстрацию третьего факта — широкого влияния роли на всю «идеологию» личности — мы находим у Л. Н. Толстого в его повести «Детство. Отрочество. Юность».
Описывая себя в возрасте 16-17 лет, автор вспоминает, что главным для него было в то время ощущение принадлежности к своему социальному кругу. Выражалась эта принадлежность одним словом comme il faut*. С помощью этого понятия, по словам автора, он делил весь род человеческий на две неравные части: на людей comme il faut и на comme il ne faut pas**. Первых он уважал и считал себе равными. Вторых он презирал и ненавидел, «питая к ним какое-то оскорбленное чувство личности» [112, т. I, с. 285].
_________________
* Благовоспитанный человек (фр.).
**На благовоспитанных и неблаговоспитанных (фр.).
Какие же признаки отличали comme il faut?
Во-первых, отличное владение французским языком, во-вторых, ногти, длинные и очищенные, в-третьих, умение кланяться, танцевать и разговаривать, наконец, равнодушие ко всему и «постоянное выражение некоторой изящной презрительной скуки». Примечательно, что точно те же свойства мы находим у молодого Онегина, когда он «наконец, увидел свет»:
Он по-французски совершенно
Мог изъясняться и писал;
Легко мазурку танцевал
И кланялся непринужденно;
Чего ж вам больше?..
Со временем у него появилось и последнее свойство:
Недуг…
Подобный английскому сплину,
Короче: русская хандра
Им овладела понемногу..
Как же в свете его главного идеала — comme il faut — выглядели для героя повести Толстого прочие жизненные ценности?
«Я не уважал бы ни знаменитого артиста, ни ученого, ни благодетеля рода человеческого, если бы он не был comme il faut. Человек comme il faut стоял выше и вне сравнения с ними… Мне кажется даже, что. ежели бы у нас был брат, мать или отец, которые бы не были comme il faul, я бы сказал, что это несчастие, но что уж между мной и ими не может быть ничего общего…
Главное зло состояло в том убеждении, что comme il faut есть самостоятельное положение в обществе, что человеку не нужно стараться быть ни чиновником, ни каретником, ни солдатом, ни ученым, когда он comme il faut; что, достигнув этого положения, он уже исполняет свое назначение и даже становится выше большей части людей» [112, т. I, с. 287].
Вот такое восприятие жизни в целом сформировалось у героя повести к 16 годам жизни как результат его социальной позиции и принадлежности к избранному кругу русского дворянства того времени. По словам Л. Н. Толстого, это мировоззрение было привито ему «воспитанием и обществом» [112, т. I, с. 285].
На данном примере хорошо видно, что социальная роль во всей оформленности и определенности, с запрограммированной системой действий и отношений входит в личность, становится ее органической частью.
Однако в обычных случаях личность, так ассимилирующая роль, сама этой ролью целиком не ассимилируется. Полное совпадение структуры роли и структуры личности возможно лишь как эпизод в развитии личности. Положение здесь можно сравнить со стоящими часами: в какой-то момент действительное время и положение стрелок точно совпадают, но затем время продолжает свой ход. Выход личности за пределы роли, перерастание ее очень напоминает аналогичную динамику при идентификации. Так происходит более или менее с каждой личностью, более или менее с каждой ролью.
Я говорю «более или менее», потому что здесь возможны и отклонения от общего правила. Они случаются, если личность достаточно слабая или роль достаточно сильная.
В первом случае даже незначительная должность или положение человека может целиком наполнить его жизнь, определить его чувства и отношения. Так получаются ограниченные чиновники, военные типа Скалозуба, классные дамы — «синие чулки» и др.
Во втором случае роль оказывается трудно преодолимой по причине ее широты и жесткости. Продолжая пример из книги Толстого, можно сказать, что роль представителя высшего слоя дворянства была достаточно сильной. В результате она могла ассимилировать многие личности.
«Я знал и знаю, — пишет по этому поводу Толстой, — очень, очень много людей, гордых, самоуверенных, резких в суждениях, которые на вопрос, если задастся на том свете: «Кто ты такой? и что ты там делал?» — не будут в состоянии ответить иначе, как: «Je fus un homme tres comme il faut»* [112, т. I, c 287].
____________________
* «Я был очень благовоспитанным человеком» (фр.)
Итак, вы познакомились с последними из упомянутых стихийных механизмов формирования личности.
Еще раз замечу, что все рассмотренные механизмы могут принимать и осознанные формы, однако осознание не необходимо для их работы, больше того, оно часто и невозможно.
Замечу также, что все эти механизмы действуют, как правило, совместно, тесно переплетаясь и усиливая друг друга, и только умственное абстрагирование позволяет рассмотреть каждый из них в отдельности.
Обратимся к самосознанию, появление которого означает «второе рождение» личности.
Коротко самосознание можно определить как образ себя и отношение к себе. Такие образ и отношение неразрывно связаны со стремлением изменить, усовершенствовать себя. Пожалуй, одна из высших форм работы самосознания заключается в попытках найти смысл собственной деятельности; нередко эти попытки вырастают в поиск смысла жизни.
Таким образом, мы наметили главные функции самосознания — познание себя, усовершенствование себя, поиск смысла жизни, на которых дальше и остановимся. Конечно, они не исчерпывают всех форм работы самосознания, но вполне их представляют. А главное для нас — получить общее представление об этой новой «инстанции» личности и понять, почему и как ее появление обеспечивает дальнейший рост личности.
Познание себя — одна из самых сложных и в то же время субъективно очень важных задач. Сложность этой задачи вызвана многими причинами. Во-первых, человек должен развить свои познавательные способности, накопить соответствующие средства, чтобы потом применить их к познанию себя.
А это приходит с возрастом и предполагает определенное умственное развитие. Во-вторых, должен накопиться материал для познания, т. е. человек должен чем-то (кем-то) стать; вместе с тем он находится в непрерывном развитии, и самопознание все время отстает от своего объекта. В-третьих, всякое знание о себе уже фактом своего получения меняет субъекта: узнав нечто о себе, он становится другим. Поэтому-то задача «познать себя» и оказывается для человека столь субъективно значимой: всякое продвижение в ней — очередной шаг в его развитии.
Познание себя начинается в очень раннем детстве, но там оно имеет совершенно особые формы и содержание.
Сначала ребенок учится отделять себя от физического мира: он еще не знает, что относится к его телу, а что — к миру.
По описанию Я. Корчака, маленький ребенок хватает себя за ногу, тянет ее в рот, падает, а потом недоуменно оглядывается: кто же это его толкнул?
Позднее ребенок начинает осознавать себя уже в другом смысле — в качестве члена социальной микрогруппы. И здесь на первых порах наблюдается сходное явление: он еще плохо отделяет себя от других, а других — от себя. Это выражается в известном детском эгоцентризме. В сознании ребенка он как бы центр социального микромира, а другие люди существуют для того, чтобы его кормить, поить, с ним играть, его воспитывать.
Выход из подобного «социального эгоцентризма» ярко описал Л. Н. Толстой в своей повести «Детство. Отрочество. Юность». Приведу отрывок:
«Случалось ли вам. читатель, в известную пору жизни вдруг замечать, что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется?.. Такого рола моральная перемена произошла во мне в первый раз во время нашего путешествия, с которою я и считаю начало моего отрочества.
Мне в первый раз пришла в голову ясная мысль о том, что не мы одни, то есть наше семейство, живем на свете, что не все интересы вертятся около нас, а что существует другая жизнь людей, ничего не имеющих общего с нами, не заботящихся о нас и даже не имеющих понятия о нашем существовании. Без сомнения, я и прежде знал все это; но знал не так, как я это узнал теперь, не сознавал, не чувствовал» [112. т. I, с. 124].
Замечу, что описываемое событие Л. Н. Толстой характеризует как «моральную перемену» и придает ему настолько большое значение, что датирует им переход от детства к отрочеству. Без сомнения, в нем можно видеть скачок в осознании своего «социального Я».
Наконец, в подростковом возрасте начинается осознание «духовного Я», т. е. своих психических способностей, характера, нравственных качеств. Этот процесс стимулируется активной ассимиляцией того слоя культурного опыта, который находится над слоем конкретных социально-ролевых норм, и выражает обобщенную работу поколений в решении духовных и нравственных проблем.
В жизни подростка этот процесс начинается с вопросов: «Каков я?», «Что во мне не так?», «Каким я должен быть?».
Вот выдержка из сочинений одной пятиклассницы: «А вообще правильно, что Николенька думал о себе. Он сравнивал себя с другими, смотрел, какие у него хорошие черты, какие плохие. Плохие старался исправить. И я тоже. Только это недавно, с пятого класса. В четвертом классе я маленькой была, а в пятом — мне уже 12 лет! Вообще с пятого класса какая-то другая жизнь пошла. Смотрю на всех, наблюдаю, как ко мне относятся, как я к другим. Почему бы это?..»
Именно в этом возрасте начинает формироваться «идеальное Я», т. е. осознанный личный идеал, сопоставление с которым часто вызывает неудовлетворенность собой и стремление себя изменить.
Выработка такого идеала, а также соотнесение с ним целей, поступков, линии жизни и представляют вторую из названных выше важнейших функций самосознания. А. Н. Леонтьев образно описывает ее как движение сознания по вертикали, имея в виду пространство собственных мотивов личности [53, с. 212]. Этот процесс сопровождается особыми переживаниями по поводу себя и своих поступков: угрызениями совести, недовольством собой, оценками и переоценками себя.
Самосознанию, особенно нравственному самосознанию, предстоит еще долгий путь развития. Это развитие происходит в условиях конфликтов, порождаемых как внешними условиями, так и собственными мотивами личности.
Я хочу для примера разобрать один вид довольно распространенных конфликтов. Они возникают между мотивами, представляющими, условно говоря, «социальный» и «духовный» уровни развития личности.
Необыкновенно сильную иллюстрацию борьбы мотивов этих двух уровней мы находим в произведении Л. Н. Толстого «Исповедь», которое смело можно назвать историей развития личности писателя. Вспоминая себя в шестнадцатилетнем возрасте, Толстой пишет:
«Теперь я нижу ясно, что вера моя <…> единственная истинная вера моя, в то время была пера в совершенствование. Но чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать <…> Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других <…>
Когда-нибудь я расскажу историю своей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всею душою желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался высказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли. Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть — все это уважалось. Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого, и чувствовал, что мною довольны <…>
Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей па войне, вызывал на дуэли, чтобы убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство <…> Не было преступления, которого бы я не совершат, и за все это меня хвалили <…> [112, т. XVI. с. 109-110].
В этих отрывках многое, обсуждаемое теперь научной психологией, сказано просто и предельно точно.
Мы видим, как «стихийная нравственность», приобретенная писателем в детстве, уступает напору социальных мотивов (стремлению быть признанным непосредственным социальным окружением) — мотивов, которые начинают доминировать в подростковом возрасте и, как правило, остаются ведущими в последующее десятилетие жизни человека (если не дольше). Чрезвычайная сила этих мотивов заставляет взрослеющую личность усваивать нормы поведения и ценности ее референтной группы, которые нередко расходятся с нормами «высшей нравственности». В этих условиях возникает опасность не только остановки духовного роста, но и всевозможных искажений в развитии личности в целом, что с необычайной выразительностью описал в отношении себя Л. Н. Толстой.
С другой стороны, из этих описаний видно, как окрепшее с годами духовное самосознание писателя позволило ему не только осознать, но и дискредитировать ведущие мотивы того периода его жизни.
Итак, за борьбой между «социальным» и «духовным» уровнями личности, как правило, стоит противоречивость и разноуровневость социальных «норм». Конструктивная переработка этих противоречий возможна только при участии самосознания и составляет один из важнейших моментов личностного творчества человека.
Перейдем к последней функции самосознания — осмыслению собственной жизни. Сразу скажу, что это активность особого рода: она направлена не просто на осознание ведущих мотивов, но и на координацию всей личности в целом. Ведь речь здесь идет о смысле не отдельных действий, поступков и даже деятельностей, а о смысле всей жизни.
Факты показывают, что этот вопрос встает не перед каждой личностью и не с равной силой. Редко он появляется в молодые годы. Если молодой человек и ставит перед собой такие вопросы, то звучат они немного иначе: не «Для чего я живу?», а «Для чего (или как) я хочу жить?» Молодой человек, по выражению Л. Н. Толстого, еще «пьян жизнью», у него еще много стихийно возникающих и стихийно действующих мотивов.
Обычно нужно окунуться в жизнь, пройти некоторые этапы жизненного пути, чтобы началась внутренняя работа по осмыслению собственной жизни. Часто случается, что вопрос о смысле жизни возникает вместе с появлением осязаемого ощущения ее конечности, т. е. неизбежной смерти.
Человеческая культура содержит много замечательных памятников, в которых отражены подобные переживания личности, подобная работа ее самосознания. Я позволю себе снова обратиться к «Исповеди» Л. Н. Толстого как к одному из самых выдающихся произведений, написанных на эту тему.
На примере рассмотренных выше отрывков из «Исповеди» мы видели, как Л. Н. Толстой со свойственной ему силой ума, критичностью и откровенностью постоянно анализировал собственные мотивы, пытаясь понять, почему он занимается тем или иным делом, что в действительности им руководит. Этот анализ неоднократно приводил его к неожиданным открытиям, которые заставляли его резко изменить свой образ жизни. И вот на фоне такой работы возник еще один, более общий процесс. Вначале, по описанию Толстого, он стал обнаруживать себя в форме недоумений и вопросов: «Зачем я живу?», «Ну, а потом что?»
Он отгонял эти вопросы, но они возвращались и оставались без ответа. В конце концов эти вопросы без ответа, по словам Толстого, «слились в одно черное пятно», и жизнь остановилась.
«Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, написанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю — зачем, я не могу ничего делать.
<…> И это сделалось со мной в то время, — продолжает Толстой, — когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем… И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни <…>» [112, т. XVI, с. 117—118].
Поиски ответа на вопрос о смысле жизни продолжались у Толстого более трех лет. Они были напряженны и мучительны.
Невозможно проследить все сложные ходы мыслей и переживаний автора. Для этого нужно читать само произведение. Скажу только несколько слов о том психологическом выходе, который нашел для себя в конце концов Толстой. Он очень знаменателен.
Одно из главных рассуждений, к которому постепенно пришел автор «Исповеди», состояло в том, что в своих поисках, «гордых и одиноких», он оторвался от многих и многих миллионов людей, живших до него и живущих теперь, и в этом, как он понял, была его ошибка.
«С тех пор, как началась какая-нибудь жизнь людей, у них уже был этот смысл жизни, и они вели эту жизнь, дошедшую до меня. Все, что есть во мне и около меня, все это — плод их знания жизни. Те самые орудия мысли, которыми я обсуждаю эту жизнь и осуждаю ее, все это не мной, а ими сделано. Сам я родился, воспитался, вырос благодаря им. Они выкопали железо, научили рубить лес, приручили коров, лошадей, научили сеять, научили жить вместе, урядили нашу жизнь; они научили меня думать, говорить. И я-то, их произведение, ими вскормленный, вспоенный, ими наученный, их мыслями и словами думающий, доказал им, что они — бессмыслица! Тут что-то не так…», — говорил я сам себе» [112, т. XVI, с. 136].
В этих замечательных строках Толстого мы находим ростки того представления, которое называем теперь общественной сущностью человека. Человек и его личность — порождения человечества. Через это понимание Толстой и приходит к следующей мысли: чтобы понять смысл своей жизни, нужно приравнять ее не к конечному существованию своего тела, а к «бесконечному началу», для выражения которого люди в скрывающейся глубине веков выработали разные понятия. Среди них понятие «божественности души», «сущности души», «нравственного добра и зла» [112, т, XVI. с. 143]. И Толстой, по его словам, принял в себя это начало, слился с ним. Так, через своего рода субъективное открытие, через приобщение своей единичной личности к ее источнику — духовному наследию человечества — Толстой находит решение мучивших его вопросов.
Психология только подходит к серьезному анализу подобных состояний в жизни личности. И сказать о них значительное слово ей еще только предстоит.
Сейчас можно совершенно определенно сказать, что поиск смысла жизни есть одна из самых важных функций самосознания. Еще раз повторю, что на языке научных понятий этот поиск можно представить как процесс, направленный на полную интеграцию и координацию мотивационной сферы личности.
Чтобы подвести итог всей лекции, я хотела бы вернуться к трем категориям понятий, о которых упоминала вначале. Это понятия, описывающие социальный мир так, как он обращен к человеку, как он «задает» его личность; далее, понятия, описывающие процесс «врастания» человека в социальный мир, и, наконец, понятия, описывающие работу его самосознания. Для того чтобы образно представить себе в свете этих понятий процесс формирования и функционирования личности, я хотела бы предложить вам следующую наглядную схему.
Изобразим индивида в виде окружности. Социальная среда вокруг него сложно сконструирована, в частности, в ней могут быть выделены иерархические слои различных «норм»: от правил внешнего поведения до духовных идеалов и ценностей. Нормы, предписываемые социальными ролями, находятся где-то посередине (см. соответствующие символические изображения на рис. 15).
 |
Индивид начинает жить в этой среде и интериоризировать систему правил, норм и ценностей; начинается рост личности. Этот процесс интериоризации можно уподобить одной математической операции, которая называется инверсией плоскости в окружность. Согласно этой операции все внешние точки плоскости переходят во внутренние точки окружности. При этом соблюдается следующее правило: точки, находящиеся близко от контура окружности снаружи, переходят в точки, которые также близки к контуру изнутри; более удаленные точки плоскости оказываются ближе к центру окружности и, наконец, бесконечность инвертируется в самый центр окружности.
Процесс формирования личности напоминает такую инверсию. Сначала в ходе взаимодействия с непосредственным окружением ребенок усваивает нормы, опосредствующие его физическое существование. Расширение контактов ребенка с социальным миром приводит к формированию «социального» слоя личности. Наконец, когда на определенном этапе своего развития личность вступает в контакт с более высокими слоями человеческой культуры — идеалами и духовными ценностями, успешная «инверсия» этого слоя формирует духовный центр личности, ее нравственное самосознание. При благоприятном развитии личности эта духовная инстанция встает над предыдущими структурами, подчиняя их себе. Усиленные поиски смысла жизни есть, как уже говорилось, борьба самосознания за интеграцию личности, превращение ее в одновершинную структуру.
Эта же модель хорошо отражает еще один очень важный момент. Вполне можно сказать, что идеальный слой человеческой культуры не имеет границ и пределов; соответственно его интериоризация — процесс, вес более конституирующий «центр» личности — никогда не завершается. Это согласуется с представлениям о личности как «открытой системе» (Достоевский, Бахтин), а также с субъективным переживанием личностью ее собственной бесконечности и даже «бессмертной» сущности (Толстой). По существу, в этом переживании отражается действительная содержательная и временная бесконечность человеческой духовности.
В этой связи можно вспомнить идею Платона, с которой я начала этот курс: душа, приобщаясь к миру идей, становится бессмертной. Рассмотренные процессы формирования и жизни личности помогают нам наполнить и эту метафору Платона глубоким содержательно-психологическим смыслом.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Представляется полезным сопроводить данные лекции методическими разработками к семинарским занятиям. Эти разработки на протяжении ряда лет пересматривались, уточнялись и дополнялись в ходе учебного процесса. В их составлении приняли участие многие преподаватели кафедры общей психологии: И. А. Васильев, В. К. Вилюнас. В. А. Иванников, А. А. Крымов, В. В. Петухов, А. А. Пузырей, В. Я. Романов, С. Д. Смирнов, А. В. Стеценко, Т. М. Федорова и др. Всем названным товарищам я благодарна за их участие в нашем постоянно действовавшем методическом семинаре. Их энтузиазм, искренняя заинтересованность в совершенствовании учебного процесса, педагогическое мастерство и высокий научный уровень очень способствовали созданию на семинаре творческой атмосферы и плодотворной работе над содержанием и методическим оформлением данного курса.
Имеется большое соответствие между приводимым планом семинарских занятий и содержанием лекций, так как они отрабатывались одновременно. Те темы, которые не вошли в данное пособие (в основном изучаемые во II семестре), не вошли и в приложение. Мы убеждены в ценности и даже необходимости плюрализма мнений относительно содержания вводного курса по общей психологии и надеемся, что авторы других концепций материализуют их в новых учебных пособиях.
Текст лекций следует рассматривать как самую общую канву при изучении соответствующих тем. Для более глубокого освоения большинства вопросов студентам необходимо обращаться к дополнительным источникам — учебным и научным текстам. Ссылки на эти тексты даются в методической разработке в виде порядкового номера из общего списка литературы в конце книги: именно в расчете на начинающих студентов этот список сокращен до необходимого минимума и ограничен текстами на русском языке. Выходные данные тех немногочисленных рекомендуемых публикаций, которые не вошли в список цитируемой литературы, приводятся в разработке полностью.
ПЛАН СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ»
РАЗДЕЛ «Введение в психологию» (I СЕМЕСТР)
I. Общая характеристика психологии как науки
1. Описательная характеристика психических явлений; сферы проявления психической жизни человека (внутренний опыт; внешнее поведение неосознаваемое; психосоматика; материальная и духовная культура).
2. Житейская и научная психология, их отличия и взаимоотношения.
3. Научная психология и практика.
Лит.: 11 (с. 27-58); 82 (с. 208-215); 88; 123 (с. 104-119); а также:
Лурия А. Р. Маленькая книжка о большой памяти. М., 1968; или: Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти. М., 1979 (с. 195—206); Фресс П.; Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. V. М, 1975 (с. 149-151); Василюк Ф. Е. Психология переживания. М;. 1984 (с. 156—176, с. 177-187); Мещеряков А. И. Слепоглухонемые дети. М., 1974 (с. 27—58); Кретти Брайент Дж. Психология в современном спорте. М., 1978.
Художественная литература (примеры описаний внутренних переживаний и внешнего поведения человека, неосознаваемых и психосоматических явлений и т. п.).
II. Смена представлений о предмете психологии
1. Представления древних о душе: материалистические и идеалистические тенденции. С какими аспектами жизнедеятельности живых существ было связано представление древних о душе? Смысл деятельности Сократа; се значение для постановки психологических проблем. Корни каких психологических проблем можно найти в учении Платона о душе?
Лит.: 23 (с. 11-22); 8 (с. 371-374; 394-396); 10 (с. 50-62); 86 (с. 218-228); 87. Т. 2 (с. 64-68; 73-79; 96-114; 244-257).
2. Явления сознания как предмет психологии. Объективные и субъективные элементы сознания. Понятие ассоциации и апперцепции. Объем сознания и объем внимания. Соотношение предмета и метода в психологии сознания.
Лит.: 20 (с. 8—24); Хрестоматия по вниманию. М., 1976 (с. 50-58); 31 (с. 335-351); 32 (с. 124-145).
3. Метод инстроспекции и проблема самонаблюдения. Понятие рефлексии у Дж. Локка. Аналитическая интроспекция: требования, понятие «ошибки стимула». Метод интроспекции — и использование данных самонаблюдения (отличия).
Лит.: 44; 64 (с. 129-131, 140); 65; 69; 109; ПО.
4. Поведение как предмет психологии. Бихевиоризм: критика «психологии сознания», требования объективного метода. Понимание поведения в бихевиоризме; отношение к сознанию. Единицы психологического анализа. Теоретическая программа. Необихевиоризм: понятие «промежуточных переменных»; оперантное обусловливание.
Лит.: 111 (с. 63-70); 114, 115 (с. 17-39; 34-45).
5. Неосознаваемые процессы. Классификация неосознаваемых процессов. Понятие установки. Фрейд о природе бессознательного и его отношении к сознанию. Проявления бессознательного. Методы психоанализа.
Лит.: 69; 113 (с. 135-152); 122; 123.
III. Психологический анализ деятельности
Строение деятельности. Потребности, мотивы и цели деятельности. Деятельность и сознание. Соотношение внешней и внутренней деятельности. Методологическое значение категории «деятельность».
Лит.: 53 (с. 73-114, 247-251, 265-290); 55; 56 (с. 38-40, 269-275) или по 4-му изд. (1981) (с. 48-50, 277-284), а также «А. Н. Леонтьев и современная психология»/Под ред. А. В. Запорожца и др. М., 1983, статьи О. К. Тихомирова и В. В. Давыдова (с. 40-53; 128-139).
IV. Движения и деятельность
Подход к анализу движений в работах Н. А. Бернштей-на. Принцип сенсорных коррекций. Схема рефлекторного кольца. Уровни построения движений. Формирование двигательных навыков. Принцип активности: физиологический, биологический и философский аспекты.
Лит.: 14; 15 (с. 79-97, 97-101, 150-170, 275-298).
V. Возникновение и развитие психики в процессе биологической эволюции
1. Проблема объективного критерия психического. Гипотеза А. Н. Леонтьева. Раздражимость и чувствительность. Стадии развития психики. Инстинктивное поведение и научение у животных.
Лит.: 7 (с. 349-359); 23 (с. 103-114); 56 (с. 5-18, 40-52); 66 (гл. 9-1 Г); 99 (с. 294-311); 118 (с. 41-52, 66-83, 172-175, 187-190, 205-207, 227-230, 244-260); Тинберген Н. Поведение животных. Гл. 6. М., 1980.
2. Биологические предпосылки человеческой психики: групповое поведение, «язык» животных, использование орудий животными и человеком.
Лит.: 118 (с. 266-280), 66.
VI. Общественно-историческая природа психики человека и ее формирование в онтогенезе
Проблема возникновения сознания человека. Культурно-историческая теория Л. С. Выготского. Высшие психические функции человека: их строение, свойства, генезис. Понятие интериоризации. Присвоение общественно-исторического опыта индивидом в процессе онтогенеза.
Лит.: 22. Т. 1 (с. 103-108). Т. 3 (с. 24-161); 24 (с. 25-32); 56 (с. 357-374, 375-379, 439-466).
VII. Индивид и личность
1. Понятия «индивид» и «личность». Способности: определение, задатки, механизмы развития.
Лит.: 50; 53 (с. 173-182); 89; 107.
2. Темперамент: поиск физиологических основ, психологические описания; эволюция учения о типах НС, современное состояние проблемы.
Лит.: 38; 80; 81; 106; 108.
3. Характер: определение характера в узком смысле; психопатии и акцентуации; биологические предпосылки, прижизненное формирование, характер и личность.
Лит.: 5; 25; 28; 41; 45; 47; 49; 51; 63; 74; 131; 133.
4. Личность и ее формирование. Понятие о личности в узком смысле. Стихийные механизмы формирования. Самосознание и его функции.
Лит.: 3; 13; 17; 21; 34; 37; 53 (с. 159-231); 57; 71; 72; 73: 75; 78; 82; 95; 119; 120.
VIII. Проблема объяснения в психологии
Виды редукционизма. Психофизическая проблема; варианты ее решения.
Лит.: 53 (с. 113-118); 101; 125. Вып. 1-2 (с. 186-189); Лурия А. Р. О месте психологии в ряду социальных и биологических наук // Вопр. философии. 1977. № 9 (с. 68-76); Ильенков Э. В. Проблема идеального // Вопр. философии. 1979. № 6 (с. 128-140); № 7(с. 145-158); Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. М., 1959 (с. 218-221).
ЛИТЕРАТУРА
- Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.
- Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд.
- Ананьев Б. Г. Некоторые черты психологической структуры личности // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. М, 1977.
- Ананьев Б. Г. Строение характера // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Анастази А. Дифференциальная психология // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Анохин П. К. Избранные труды. Философские аспекты теории функциональной системы. М., 1978.
- Аристотель. Соч. в 4 т. Т. 1. М., 1975.
- Атеисты, материалисты, диалектики древнего Китая. М., 1967.
- Асмус В. Ф. «Трактат о душе» (вводная статья в кн.: Аристотель) // Соч. Т. 1. М., 1975.
- Бассин Ф. В. Проблема бессознательного. М., 1968.
- Бахтин М. М. Герой и позиция автора по отношению к герою в творчестве Достоевского // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Белкин А. И. Формирование личности при смене пола// Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Бернштейн Н. А. О построении движений. М., 1947.
- Бернштейн Н. А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. М., 1966.
- Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968.
- Божович Л. И. Социальная ситуация и движущие силы развития ребенка // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Вагнер В. А. Биологические основания сравнительной психологии. СПб.: М., 1910-1913.
- ВасилюкФ. Е. Психология переживания. М., 1984.
- Вундт В. Введение в психологию. Хрестоматия по вниманию. М., 1976.
- Выготский Л. С. Развитие личности и мировоззрение ребенка// Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Выготский Л. С. Собр. соч. в 6 т. М., 1982-1984.
- Гальперин П. Я. Введение в психологию. М., 1976.
- Гальперин П. Я. К. учению об интериоризаиии // Вопр. психологии. 1966. № 6.
- Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий, их статика, динамика, систематика // Психология индивидуальных различий. Тесты. М., 1982.
- Гельмгольц Г. Как приходят новые идеи // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. М., 1981.
- Гиппенреитер Ю. Б. К методе измерения звуковысотной различительной чувствительности // Докл. АПН РСФСР. 1957. №4.
- Гиппенреитер Ю. Б. Понятие личности в трудах А. Н. Леонтьева и проблема исследования характера // Вести. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1983. № 4.
- Гиппенреитер Ю. Б., Романов В. Я. Новый метод исследования внутренних форм зрительной активности // Вопр. психологии. 1970. № 5.
- Давыдов В. В. Учение А. Н. Леонтьева о взаимосвязи деятельности и психического отражения //А. Н. Леонтьев и современная психология. М., 1983.
- Декарт Р. Начала философии. Избр. произведения. М., 1950.
- Джемс В. Психология. Спб., 1911.
- Джемс В. Многообразие религиозного опыта. М., 1910.
- Джемс В. Личность //Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30 т. М., 1972-1987.
- Зейгарник Б. В. О патологическом развитии личности // Психология личности. М., 1982.
- Ильенков Э. В. Что такое личность ? // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Кант И. О темпераменте // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Кант И. О характере как образе мыслей // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- КербиковО. В. Клиническая динамика психопатий и неврозов. Избр. труды. М., 1971.
- Ковалев А. Г., Мясищев В. Н. Темперамент и характер // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Корчак Я. Избранные педагогические произведения. М., 1979.
- Коффка К. Самонаблюдение и метод психологии // Проблемы современной психологии. М.; Л., 1926.
- КравковС. В. Самонаблюдение. М., 1922.
- Кречмер Э. Строение тела и характер // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Лавик-Гудаи Дж. ван. В тени человека. М.. 1974.
- Мазурский А. Ф. Классификация личностей // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Левин К., Дембо Т., ФестфингерЛ., Сире П. Уровень притязаний // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Левитов //. Д. Проблема характера в современной психологии // Вопр. психологии. 1970. № 5.
- Лейтес Н. С. Одаренные дети // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев, 1981.
- Леонтьев А. А. Возникновение и первоначальное развитие языка. М., 1963.
- Леонтьев А. И. Деятельность. Сознание. Личность. М., 1982.
- Леонтьев А. Н. Индивид и личность // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Леонтьев А. Н. Мотивы, эмоции и личность// Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики. М, 1972.
- Леонтьев А. Н. Формирование личности // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Леонтьев А. Н., Гиппенрейтер Ю. Б. Влияние родного языка на формирование слуха // Докл. АПН РСФСР. 1959. №2.
- Леонтьев А. //., Запорожец А. В. Восстановление движения. Исследование восстановления функции руки после ранения. М., 1945.
- Лесгафт П. Семейное воспитание ребенка и его значение. СПб.. 1898.
- Линдеман Э. Клиника острого горя // Психология эмоций. Тексты. М., 1984.
- Личко А. Е. Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) для подростков / Под ред. М. М. Кабанова. А. Е. Личко, 15. М. Смирнова. Методы психологической диагностики и коррекции в клинике. Л., 1983.
- Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. Л., 1977.
- Локк Дж. Опыт о человеческом разуме. Избр. филос. произведения. М.. 1960.
- Лопатин Л. Н. Метод самонаблюдения в психологии// Вопросы философии и психологии. Кн. II (62). М., 1902.
- Лоренц К. Кольцо царя Соломона. М.. 1980.
- Лоренц К. Человек находит друга. ML, 1977.
- Лурия А. Р. Курс обшей психологии. Лекции. Эволюционное введение в психологию. М., 1970.
- Лурия А. Р. Диагностика следов аффекта // Психология эмоций. Тексты. М., 1984.
- Макаренко А. С. Лекции о воспитании детей // Избранные педагогические соч. в 2 т. Т. 2. М., 1977.
- Маслоу А. Самоактуализация // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Массен П., Конгер Дж., Гивитц Дж. Развитие личности в среднем возрасте // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Мейли Р. Различные аспекты Я // Психология личности. Тексты. М , 1982.
- Меили Р. Факторный анализ личности // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Мейли Р. Черты личности // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Мерлин В. С. Отличительные признаки темперамента // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Мещеряков А. И. Слепоглухонемые дети. М., 1947.
- Мясищев В. Н. Структура личности и отношение человека к действительности // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Найдин В. Л. Чудо, которое всегда с тобой // Наука и жизнь. 1976. №4-6.
- Небылицын В. Д. Актуальные проблемы дифференциальной психофизиологии // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Небылицын В. Д. Темперамент//Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Олпорт Г. Личность: проблема науки или искусства? // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Павлов И. П. Общие типы высшей нервной деятельности животных и человека // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- «Павловские среды». Протоколы и стенограммы физиологических бесед. Л.. 1949.
- Пиаже Ж. Эгоцентрическая речь // Психология мышления. Тексты. М.. 1981.
- Платон. Смерть Сократа // Психология личности. Тексты. М, 1982.
- Платон. Соч. в 3 т. Т. 1, 2. М., 1970.
- Психология. Статья в БСЭ. Т. 21.
- Равич-Щербо И. В. О природных предпосылках индивидуальности // Психодиагностика и школа. Таллинн, 1980.
- Равич-Щербо И. В. Исследование природы индивидуальных различий методом близнецов // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Рише Ш. Сомнамбулизм, демонизм и яды интеллекта. СПб., 1885.
- Рогинский Я. Я., Левин М. Г. Основы антропологии. М., 1955.
- Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. 1-е изд. М., 1935; 2-е изд. М., 1946.
- Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии. М., 1973.
- Рубинштейн С. Л. Самосознание личности и ее жизненный путь// Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Рубинштейн С. Л. Теоретические вопросы психологии и проблема личности // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Рубинштейн С. Л. Понятие «характера» в психологии и психиатрии // Вести. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1979. №2.
- Русалов В. М. Биологические основы индивидуально- психологических различий. М., 1979.
- Северное А. Н. Эволюция и психика // Собр. соч. в 3 т. Т. 3. М;Л., 1945.
- Селье Г. Стресс без дистресса. М., 1979.
- СингДж. Беседы о теории относительности. М., 1973.
- Спиноза Б. Избранные произведения. М., 1957.
- Спок Б. Ребенок и уход за ним. М., 1971.
- Стендаль. Собр. соч. в 12 т. М., 1978.
- Сухарева Г. Е. Клинические лекции по психиатрии детского возраста. Т. 1. М., 1956. Т. 2. М., 1959.
- Теплое Б. М. Современное состояние вопроса о типах высшей нервной деятельности человека и методика их определения // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Теплое Б. М. Способности и одаренность// Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Теплое Б. М. Типологические свойства нервной системы и их значение для психологии // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Теплое Б. А/. Об объективном методе в психологии. М., 1952.
- ПО. Титченер Э. Учебник психологии. М., 1914.
- Толмен Э. Когнитивные карты у крыс и у человека // Хрестоматия по истории психологии. М., 1980.
- Толстой Л. Н. Собр. соч. в 22 т. М., 1978-1984.
- Узнадзе Д. Н. Психологические исследования. М., 1966.
- УотсонДж. Психология как наука о поведении. Госиздат Украины, 1926.
- Уотсон Дж. Бихевиоризм // Хрестоматия по истории психологии. М, 1980.
- Уотсон Дж. Психологический уход за ребенком. М., 1930.
- Фабр Ж.-А. Инстинкт и нравы насекомых. СПб., 1914.
- Фабри К. Э. Основы зоопсихологии. М., 1976.
- Феофраст. Характеры//Психология личности. Тексты. М, 1982.
- Франкл В. Поиск смысла жизни и логотерапия // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Фрейд 3. Печаль и меланхолия // Психология эмоций. Тексты. М., 1984.
- Фрейд 3. О психоанализе. Пять лекций // Хрестоматия по истории психологии. М., 1980.
- Фрейд 3. Психопатология обыденной жизни //Хрестоматия по обшей психологии. Психология памяти. М., 1978.
- Фромм Э. Характер и социальный процесс // Психология личности. Тексты. М., 1982.
- Фресс П., Пиаже Ж. Экспериментальная психология. Вып. 1-2. М., 1966.
- Хемингуэи Э. Избранные произведения в 2 т. М., 1959.
- Хольт Р. Образы: возвращение из изгнания // Зрительные образы: феноменология и эксперимент. Душанбе, 1972.
- Цвейг С. Новеллы. М., 1975.
- Чапек К. Рассказы. М., 1981.
- Чехов А. П. Рассказы. Л., 1972.
- Шелдон У. Анализ конституционных различий по биографическим данным // Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском возрасте // Психология личности. Тексты. М.. 1982.
- Юнг К. Психологические типы// Психология индивидуальных различий. Тексты. М., 1982.
- Ярошевский М. Г. Психология в XX столетии. М., 1974.