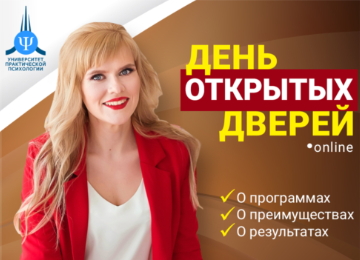- Книги
- Опыты. Том III
Опыты. Том III

Книга третья
Глава I. О полезном и честном
(Примечания (сноски) в конце книги)
Кому не случается сказать глупость? Беда, когда ее высказывают обдуманно.
Ne iste magno conatu magnas nugas dixerit. [1]
Но в этом я не повинен. Выпаливая свои, я трачу на них не больше усилий, чем они стоят. И это их счастье. Потребуй они от меня хоть чуточку напряжения – я бы тотчас же распрощался с ними. Я покупаю и продаю их только на вес. С бумагой я беседую, как с первым встречным. Лишь бы говорилась правда. Это важнее всего. Кому не отвратительно вероломство, раз даже Тиберий [2] отказался прибегнуть к нему, хоть оно и могло доставить ему великую выгоду? Ему дали знать из Германии, что если он пожелает, то с помощью яда его избавят от Арминия [3] (из всех врагов, какие были у римлян, он был самым могущественным; это он нанес войску Вара [4] столь постыдное поражение, и он один препятствовал распространению их владычества в тех краях). Тиберий ответил, что римский народ привык расправляться с врагами в открытую, с оружием в руках, а не тайком, прибегая к обману. Он отверг полезное ради честного. Это был, скажут мне, лицемер. Полагаю, что так: среди людей его ремесла не диво. Но признание добродетели не обесценивается в устах ее ненавистника. Тем более, что оно вынуждено у него самой истиной, и если даже он отвергает его в своем сердце, то все же прикрывается им, чтобы приукрасить себя.
Наше устройство – и общественное и личное – полно несовершенств. Но ничто в природе не бесполезно, даже сама бесполезность. И нет во вселенной вещи, которая не занимала бы подобающего ей места. Наша сущность складывается из пагубных свойств: честолюбие, ревность, пресыщение, суеверие и отчаяние обитают в нас, и власть над нами настолько естественна, что подобие всего этого мы видим и в животных: к ним добавляется и столь противоестественный порок, как жестокость, ибо, жалея кого-нибудь, мы при виде его страданий одновременно ощущаем в себе и некое мучительно-сладостное щекотание злорадного удовольствия; его ощущают и дети;
Suave mari magno, turbantibus aequora ventis,
E terra magnum alterius spectare laborem; [5]
и кто бы истребил бы в человеке зачатки этих качеств, тот уничтожил бы основания, на которых зиждется наша жизнь. Так и во всяком государстве существуют необходимые ему должности, не только презренные, но и порочные; порокам в нем отводится свое место, и их используют для придания прочности нашему объединению, как используют яды, чтобы сохранить наше здоровье. И если эти должности становятся извинительными, поскольку они нужны, и общественная необходимость побуждает забыть об их подлинной сущности, то поручать их следует все же более стойким и менее щепетильным гражданам, готовым пожертвовать своей честью и своей совестью, подобно тем мужам древности, которые жертвовали для блага отечества своей жизнью; нам же, более слабым, подобает брать на себя и более легкие и менее опасные роли. Общее благо требует, чтобы во имя его шли на предательство, ложь и беспощадное истребление: предоставим же эту долю людям более послушным и более гибким.
Конечно, меня часто охватывала досада, когда я видел, как судьи, стараясь вынудить у обвиняемого признание, морочили его ложными надеждами на снисхождение или помилование, прибегая при этом к бесстыдному надувательству. И правосудие и Платон, поощрявший приемы этого рода, немало выиграли бы в моих глазах, предложи они способы, которые пришлись бы мне более по душе. Злобой и коварством своим такое правосудие, по-моему, подрывает себя не меньше, чем его подрывают другие. Не так давно я ответил, что едва ли мог бы предать государя ради простого смертного, ибо и простого смертного предать ради государя мне было бы крайне прискорбно. Мало того, что мне противно обманывать, – мне противно и тогда, когда обманываются во мне. Я не хочу подавать к этому ни оснований, ни повода.
В немногих случаях, когда мне доводилось в крупных и мелких разногласиях, разрывающих нас ныне на части, посредничать между нашими государями [6], я всегда старательно избегал надевать на себя маску и вводить кого бы то ни было в заблуждение. Кто набил в этом ремесле руку, тот держится возможно более скрытно и всячески притворяется, что исключительно доброжелателен и уступчив. Что до меня, то я выкладываю мое мнение сразу, без околичностей, на свой собственный лад. Совестливый посредник и новичок, предпочитающий скорее отступиться от дела, чем от самого себя! Так бывало со мной до последнего времени, и мне настолько везло (а ведь удача здесь безусловно самое главное), что мало кто, имея сношения с враждебными станами, вызывал меньше моего подозрений и снискивал столько ласки и дружелюбия. Я всегда откровенен, а это производит благоприятное впечатление и с первого взгляда внушает доверие. Непосредственность и правдивость своевременны и уместны в любой век, каким бы он ни был. К тому же независимость тех, кто действует бескорыстно, не порождает ни особых подозрений, ни ненависти; ведь они с полным правом могут повторить ответ Гиперида [7] афинянам, жаловавшимся на резкость его речей: «Господа, незачем обсуждать, стесняюсь ли я в выражениях, но следует выяснить, говорю ли я, преследуя свою пользу и извлекая для себя выгоду». Моя независимость легко ограждала меня и от подозрений в притворстве; во-первых, я всегда проявляю твердость и не стесняюсь высказать все до конца, сколь бы дерзкими и обидными мои слова ни были, так что и за глаза я не мог бы высказать ничего худшего; во-вторых, независимость моя всегда выступает в обличье безыскусственности и простоты. Действуя, я не добиваюсь чего-либо сверх того, ради чего я действую; я не загадываю вперед и не строю далеко идущих предположений; всякое действие преследует какую-то определенную цель, – так пусть же, если возможно, оно достигнет ее.
Кроме того, меня не обуревает ни страстная ненависть, ни страстная любовь к великим мира сего, и воля моя не зажата в тиски ни нанесенным ей оскорблением, ни чувством особой признательности. Что касается наших государей, то я почитаю их лишь как подданный и гражданин, и мое чувство к ним свободно от всякой корысти. За это я приношу себе великую благодарность. Даже общему и правому делу я привержен не более чем умеренно, и оно не порождает во мне особого пыла. Я не склонен к всепоглощающим и самозабвенным привязанностям, а также к самопожертвованию: долг справедливости отнюдь не требует от нас гнева и ненависти; это страсти, пригодные только для тех, кто не способен придерживаться своего долга, следуя велениям разума; все законные и праведные намерения по своей сущности справедливы и умеренны, в противном случае они мятежны и незаконны. Это и позволяет мне ходить везде и всюду с высоко поднятой головой, открытым лицом и открытым сердцем.
Говоря по правде, – и я нисколько не боюсь в этом признаться, – я, не смущаясь, поставил бы при нужде одну свечу архангелу Михаилу, а другую – его дракону, как собиралась сделать одна старая женщина. За партией, отстаивающей правое дело, я пойду хоть в огонь, но только в том случае, если смогу. Пусть Монтень, если в этом будет необходимость, провалится вместе со всем остальным, но если в этом не будет необходимости и он уцелеет, я буду бесконечно благодарен судьбе, и поскольку мой долг вкладывает мне в руку веревку, я пользуюсь ею, помогая Монтеню выстоять. Разве Аттик [8], принадлежа к благонамеренной, но побежденной партии, не спасся при всеобщем крушении, среди стольких потрясений и перемен лишь благодаря своей умеренности?
Для частных лиц, каким он был, это легче, и в таком положении можно с достаточным основанием отбросить честолюбивые помыслы и не вмешиваться по собственной воле не в свое дело. Но колебаться и пребывать в нерешимости, сохранять полнейшую безучастность и безразличие к смутам и междусобицам в твоем отечестве – нет, этого я не нахожу ни похвальным, ни честным. Ea non media, sed nulla via est, velut eventum exspectantium quo fortunae consilia sua applicent [9].
Такая вещь позволительна только по отношению к делам соседей: во время войны варваров с греками Гелон [10], тиран сиракузский, скрывая, кому он сочувствует, держал наготове посольство с подарками, которому повелел быть начеку и, установив, на чью сторону склоняется счастье, без промедления сойтись с победителем. Поступать так же по отношению к собственным и домашним делам, к которым невозможно отнестись безучастно и о которых нельзя не иметь суждения, было бы своего рода изменой. Но не вмешиваться в эти дела человеку, не занимающему никакой должности и не взявшему на себя поручений, которые побуждали бы его действовать, я нахожу более извинительным (и все же не прибегаю к этому извинению), чем в случае войн с чужеземцами, хотя в них по нашим законам принимают участие только желающие. Однако и те, кто полностью отдается междусобицам, могут вести себя настолько благоразумно и с такою умеренностью, что грозе придется пронестись над их головой, не причинив им вреда. Не было ли у нас оснований предполагать то же и в отношении покойного епископа Орлеанского, сьера де Морвилье [11]? И среди тех, кто доблестно занимается этим делом и ныне, я знаю людей, чье поведение настолько безупречно и благородно, что они должны устоять на ногах, какие бы бедствия и превратности ни обрушило на нас небо. Я считаю, что лишь королям пристало распаляться гневом на королей, и потешаюсь над теми умниками, которые с готовностью устремляются в столь неравную борьбу; с государем не затевают личной ссоры, когда открыто и смело идут против него ради своей чести и в соответствии со своим долгом; если он не любит подобного человека, он поступает лучше, он уважает его. И в особенности отстаивание законов и защита установившегося порядка содержит в себе нечто такое, что побуждает даже посягающих на него в своих целях извинять, если не чтить, его защитников.
Но не следует называть долгом – а мы это постоянно делаем – внутреннюю досаду и недовольство, порождаемые корыстью и страстями личного свойства, как нельзя называть смелостью предательское и злобное поведение. Такие люди зовут рвением свою склонность к злобе и насилию; не сознание правоты своего дела движет ими, а корысть: они разжигают войну не потому, что она справедлива, но потому, что это – война.
Ничто не мешает поддерживать хорошие отношения с теми, кто враждует между собой, и вести себя при этом вполне порядочно; выказывайте к тому и другому дружеское расположение, пусть не совсем одинаковое, ибо оно допускает различную меру, и уж во всяком случае достаточно сдержанное и не влекущее вас в одну сторону так сильно, чтобы она могла располагать вами по своему усмотрению; и еще: довольствуйтесь скромною мерою их благосклонности и, оказавшись в мутной воде, не норовите ловить в ней рыбку.
Другой способ, а именно: предлагать всего себя и тому и другому, – столь же неразумен, сколь и бессовестен. Уверен ли тот, кому вы предаете другого, равным образом благоволящего к вам, что вы не проделаете в свою очередь того же самого с ним? Он считает вас дурным человеком и, пока слушает ваши речи, использует вас в своих видах и с помощью вашей бесчестности обделывает свои дела, ибо двуличные люди полезны тем, что они могут дать, но надо стараться при этом, чтобы сами они получили как можно меньше.
Я не говорю одному того, чего не мог бы в свое время сказать другому, лишь слегка изменив ударение, и я сообщаю ему вещи либо несущественные, либо общеизвестные, либо такие, которые могут пойти на пользу обоим. Нет такой выгоды, ради которой я позволил бы себе обманывать их. Доверенное моему молчанию я свято храню про себя, но на хранение беру лишь самую малость; ведь беречь тайны государя, которые тебе ни к чему, докучное и тяжелое бремя. Я охотно иду на то, чтобы они доверяли мне только немногое, но безоговорочно верили всему, что бы я им ни принес. Я всегда знал больше, чем мне хотелось.
Откровенная речь, подобно вину и любви, вызывает в ответ такую же откровенность.
Филиппид, по-моему, мудро ответил царю Лисимаху [12], который спросил его: «Что из моего добра желал бы ты получить?» – «Все, что тебе будет угодно, лишь бы то не были твои тайны». Я вижу, что всякий досадует, если от него утаивают самую сущность дела, которое ему поручено, и скрывают какую-нибудь заднюю мысль. Что до меня, то я бываю доволен, когда мне сообщают не больше того, что поручают сделать, и вовсе не жажду, чтобы моя осведомленность лишала меня права говорить и затыкала мне рот. Если я предназначен служить орудием обмана, пусть это будет, по крайней мере, без моего ведома. Я не хочу, чтобы меня принимали за усердного и исполнительного слугу, готового предать все и всех. Кто недостаточно верен себе самому, тому простительно не соблюдать верности и своему господину.
Но ведь именно государи-то и не довольствуются преданностью наполовину и пренебрегают услугами, оказываемыми в определенных границах и на определенных условиях. Этой беде ничем не поможешь; я искренно объявляю им, до каких пределов я с ними, ибо я могу быть только рабом разума, да и то это не всегда мне удается. Что до них самих, то они неправы, требуя от свободного человека такого же подчинения и такой же покорности, как от того, кого они создали и купили и чья судьба теснейшим и неразрывным образом связана с их судьбой. Законы сняли с меня тягостную заботу: они сами избрали для меня партию и дали мне господина; любая другая власть и прочие обязательства не более чем относительны и должны отступить на второй план. Само собой разумеется, что если чувства увлекут меня в противоположную сторону, я вовсе не должен за ними последовать; воля и желания создают себе собственные законы, но наши поступки должны подчиняться общественным установлениям.
Этот мой образ действия несколько расходится с общепринятым; он не может повести к далеко идущим последствиям и непригоден на длительный срок: даже сама невинность не сумела бы, живя среди нас, обойтись без притворства и вести дела, не прибегая ко лжи. Вот почему общественные обязанности мне не по нраву; все, что требуется от меня моим положением, я неукоснительно выполняю, стараясь делать это по возможности неприметнее. Еще в детстве меня приневолили заниматься делами этого рода, и я неплохо справлялся с ними, постаравшись, однако, избавиться от них как можно скорее. Впоследствии я не раз избегал браться за них, соглашаясь на это лишь изредка, и никогда не стремился к ним, повернувшись спиной к честолюбию; и если я повернул спину не совсем так, как гребцы, продвигающиеся к цели своего плаванья задом, то все же я сделал это настолько, что не погряз в них, хотя обязан этим в меньшей степени своей воле, чем благосклонной судьбе. Но существуют пути служения обществу, менее претящие мне и более соразмерные с моими возможностями, и я знаю, что, если бы судьба в свое время открыла мне эти пути ко всеобщему уважению, я пренебрег бы доводами рассудка и последовал ее зову.
Те, кто вопреки моему мнению о себе имеют обыкновение утверждать, будто то, что я в своей натуре называю искренностью, простотою и непосредственностью, на самом деле – ловкость и тонкая хитрость и что мне свойственны скорее благоразумие, чем доброта, скорее притворство, чем естественность, скорее умение удачно рассчитывать, чем удачливость, – не столько бесчестят меня, сколько оказывают мне честь. Но они, разумеется, считают меня чересчур уж хитрым, и того, кто понаблюдал бы за мной вблизи, я охотно признаю победителем, если он не вынужден будет признать, что вся их мудрость не может предложить ни одного правила, которое научило бы воссоздавать такую же естественную походку и сохранять такую же непринужденность и беспечную внешность – всегда одинаковую и невозмутимую – на дорогах столь разнообразных и извилистых; если он не признает также, что все их старания и уловки не сумеют научить их тому же. Путь истины – единственный, и он прост; путь заботящихся о своей выгоде или делах, которые находятся на их попечении, – раздвоен, неровен, случаен. Я нередко сталкивался с поддельной, искусственной непосредственностью, силившейся – чаще всего безуспешно – выдать себя за настоящую. Уж очень напоминает она осла Эзоповой басни [13], который, подражая собаке, положил от полноты чувств передние ноги на плечи своего хозяина, но в то время как собаку вознаградили за это приветствие ласками, бедному ослу досталось в награду двойное количество палок. Id maxime quemque decet quod est cuiusque suum maxime. [14] Я не пытаюсь отказывать обману в его правах – это означало бы плохо понимать жизнь: я знаю, что он часто приносил пользу и что большинство дел человеческих существует за его счет и держится на нем. Бывают пороки, почитаемые законными; бывают хорошие или извинительные поступки, которые тем не менее незаконны.
Правосудие как таковое, естественное и всеобщее, покоится на других, более благородных основах, чем правосудие частное, национальное, приспособленное к потребностям государственной власти: Veri iuris germanaeque iustitiae solidam et expressam effigiem nullam tenemus; umbra et imaginibus utimur [15], – так что мудрец Дандамис, выслушав прочитанные при нем жизнеописания Сократа, Пифагора и Диогена [16], счел их людьми великими во всех отношениях, но порабощенными своим чрезмерным преклонением перед законами; одобряя законы и следуя им, истинная добродетель утрачивает немалую долю своей изначальной твердости и неколебимости, и много дурного творится не только с их разрешения, но и по их настоянию. Ех senatusconsultis plebisque scitis scelera exercentur [17]. Я следую общепринятому между людьми языку, а он проводит различие между полезным и честным, называя иные естественные поступки, не только полезные, но и насущно необходимые, грязными и бесчестными.
Но остановимся на одном примере предательства. Два претендента на фракийское царство затеяли спор о своих правах на него. Император помешал им прибегнуть к оружию. Тогда один из них, делая вид, будто жаждет дружеского соглашения с соперником, которое может быть достигнуто при личном свидании, пригласил его к себе на пир и, когда тот прибыл к нему, повелел схватить его и убить. Справедливость требовала от римлян, чтобы они покарали столь гнусное злодеяние, но сделать это обычным путем им мешали препятствия всякого рода, и так как тут нельзя было обойтись без войны и без риска, они не побрезговали предательством. Ради полезного они пошли на нечестное. Подходящим человеком для этого оказался некий Помпоний Флакк; прикрываясь лживыми речами и уверениями, он завлек преступника в расставленные ему силки и, вместо обещанного почета и милостей, заковал его в цепи и отослал в Рим [18]. Один предатель предал другого, что случается не так уже часто, ибо они настолько исполнены недоверия ко всему и ко всем, что поймать их при помощи применяемых ими же уловок – дело нелегкое, и мы это испытали на печальном опыте недавнего прошлого.
Пусть, кто хочет, делается Помпонием Флакком – таких, кто захотел бы сделаться им, сколько угодно. Что до меня, то и моя речь и моя честность и все остальное во мне составляют единое целое; их высшее стремление – служить обществу; я считаю это непреложным законом. Но если бы мне приказали взять на себя обязанности судьи и заниматься разбором тяжб, я бы ответил: «Я ничего в этом не смыслю»; или обязанности начальника землекопов, роющих траншеи для войска, я бы сказал: «Я призван к более достойной роли»; равным образом, и тому, кто пожелал бы воспользоваться мною для лжи, предательства и вероломства, ожидая от меня какой-нибудь важной услуги, или для убийства и отравления неугодных ему людей, я бы сказал: «Если я кого-нибудь обокрал или ограбил, отправьте меня немедленно на галеры». Ибо честному человеку позволительно говорить в том же духе, в каком говорили лакедемоняне с нанесшим им поражение Антипатром, когда обсуждали с ним условия мира: «Ты можешь навязать нам любые, какие только ни пожелаешь, тяжелые и разорительные повинности, но навязывать постыдные и бесчестные – и не пытайся: ты зря потеряешь время» [19]. Всякий должен дать себе самому такую же клятву, какую египетским царям торжественно давали назначаемые ими судьи, а именно, что они не пойдут наперекор своей совести даже по царскому повелению [20]. Мы откровенно презираем и осуждаем поручения известного рода; кто возлагает на нас подобные поручения, тот тем самым выносит нам приговор и, если мы способны это понять, налагает на нас тяжкий груз и оковы. Насколько общественные дела улучшаются в таких случаях благодаря вашему участию в них, настолько же ухудшаются ваши; чем лучше вы выполняете подобное поручение, тем больший ущерб наносите самому себе. И вовсе не будет внове, а порой, пожалуй, в какой-то мере и справедливо, если вас покарает за ваши услуги тот же, кто использовал вас в своих целях. Вероломство может быть иногда извинительным; но извинительно оно только тогда, когда его применяют, чтобы наказать и предать вероломство.
Известно сколько угодно предательств, которые были не только отвергнуты, но и наказаны теми, в чьих интересах они предпринимались. Кто не знает приговора Фабриция врачу Пирра [21]? Но бывало и так, что повелевший совершить предательство сам же и расправлялся с тем, кого он использовал, ибо он перестал доверять предателю и не хотел оставлять за ним столь непомерной власти и ему становились омерзительны раболепие и покорность, столь безграничные и столь подлые.
Ярополк, великий князь Русский, подкупил одного венгерского дворянина, поручив ему предательски умертвить польского короля Болеслава или, по меньшей мере, предоставить русским возможность причинить ему какой-нибудь существенный вред. Этот дворянин, ведя себя, как подобает честному человеку, стал с еще большим усердием служить польскому королю и сделался членом его совета и одним из самых близких к нему людей. Добившись этого высокого положения, он дождался удобного случая и в отсутствие своего государя впустил русских в Вислицу, большой и богатый город, который они разграбили и сожгли дотла, перебив при этом без различия пола и возраста не только всех его обитателей, но и большое число окрестных дворян, вызванных в город предателем именно ради этого. Ярополк, утолив жажду мщения и удовлетворив гнев, который не был, впрочем, безосновательным (ибо и Болеслав нанес ему тяжкое оскорбление, сделав с ним приблизительно то же), и пресытившись плодами упомянутого предательства, увидел его ничем не прикрытую гнусность; рассмотрев его холодным и трезвым, не смущенным больше страстями взглядом, он почувствовал такие угрызения совести и такое раскаяние, что приказал выколоть глаза и отрезать язык и срамные части тому, кто был непосредственным виновником происшедшего [22].
Антигон убедил воинов аргираспидов предать в его руки Евмена, их верховного военачальника и его противника; но едва они его выдали и он повелел его умертвить, как ему вздумалось стать вершителем божественного возмездия и покарать столь подлое преступление; отослав предателей к правителю этой провинции, он строго-настрого наказал ему погубить и истребить их любыми способами. И вышло так, что из большого числа этих воинов ни один не ступил больше на македонскую землю [23]. Чем лучше они ему послужили, тем отвратительнее в его глазах был их поступок и тем строже надлежало их наказать.
Раб, открывший убежище, где скрывался его господин Публий Сульпиций, немедленно получил свободу, как было предусмотрено в проскрипциях Суллы, но, став свободным, был тотчас же сброшен с Тарпейской скалы, что было предусмотрено законами государства [24]. Таких предателей вешали с кошельком на шее, в котором была их плата. Воздав должное частной и ограниченной справедливости, воздавали вслед за тем должное и справедливости как таковой.
Махмуд Второй, видя в своем младшем брате возможного соперника и желая по этой причине избавиться от него – дело в их роду обычное, – воспользовался услугами одного из своих приближенных военачальников, который и удушил Махмудова брата, заставив его проглотить сразу слишком много воды. После того как с этим было покончено, Махмуд во искупление столь предательского убийства выдал убийцу матери покойного (они были братьями только по отцу); она же, в его присутствии, собственными руками вспорола убийце живот и, нащупав сердце, вырвала его еще дымящимся и трепещущим и бросила на съедение псам [25].
И наш король Хлодвиг приказал повесить троих слуг Канакра, предавших ему своего господина и ради этого подкупленных им [26].
Да и отъявленным злодеям, после того как они извлекли выгоду из какого-нибудь бесчестного поступка, бывает очень приятно пристегнуть к нему с полной уверенностью в успехе что-нибудь свидетельствующее об их справедливости и доброте и о том, что их якобы мучит совесть и они хотят ее облегчить.
К этому нужно добавить, что сильные мира сего смотрят на исполнителей столь отвратительных злодеяний как на людей, изобличающих их в преступлении. И они стараются уничтожить их, чтобы устранить свидетелей против себя и замести, таким образом, следы своих происков.
Если при случае они все же вознаграждают вас за совершенное вами предательство, дабы общественная необходимость не была лишена этого отчаянного и крайнего средства, тот, кто делает это, не перестает считать вас – если только он сам не таков – законченным мерзавцем и висельником, и в его глазах вы еще больший предатель, чем в глазах вашей жертвы, ибо он измеряет низость вашей души по вашим рукам, а они беспрекословно ему повинуются и ни в чем не отказывают. Использует же он вас совсем так же, как пользуются отпетыми негодяями при совершении казней, – их обязанности столь же полезны, сколь малопочтенны. Подобные поручения, не говоря уже об их гнусности, растлевают и развращают совесть. Дочь Сеяна, которую римские судьи не могли наказать смертью, так как она была девственница, сначала была обесчещена палачом, дабы законы не потерпели ущерба, и лишь после этого удавлена им [27]; не только руки его, но и его душа – рабы государственной власти, располагающей ими по своему усмотрению.
Когда Мурад Первый, желая усугубить тяжесть наказания тех из своих подданных, которые оказали поддержку его мятежному сыну, – а тот задумал не что иное, как отцеубийство, – повелел их ближайшим родственникам собственноручно совершить над ними казнь, некоторые предпочли быть несправедливо обвиненными в содействии чужому отцеубийству, чем стать орудиями убийства своих родичей [28], и я нахожу, что они поступили в высшей степени честно. И когда уже в мое время в кое-каких взятых приступом городишках мне доводилось встречать негодяев, которые, чтобы спасти свою жизнь, соглашались вешать своих друзей и товарищей, я неизменно считал, что судьба их – еще более жалкая, тех судьба тех, кого они вешали.
Рассказывают про Витовта, князя Литовского, что им некогда был издан закон, согласно которому осужденные на смерть преступники должны были самолично исполнять над собой приговор, ибо он не постигал, как это ни в чем не повинные третьи лица могут привлекаться и понуждаться к человекоубийству [29].
Если крайние обстоятельства или какое-нибудь чрезвычайное и непредвиденное событие, угрожающее существованию государства, заставляют государя изменить своему слову и обещаниям или как-нибудь по-иному нарушить свой долг, он должен рассматривать подобную необходимость как удар бича божьего; порока тут нет, ибо он отступается от своих принципов ради общеобязательного и высшего принципа, но это, конечно, несчастье, и столь большое несчастье, что тому, кто меня спрашивал: «Что же тут поделаешь?» – я ответил: «Ничего поделать нельзя. Если он и вправду оказался зажатым в тиски этими двумя крайностями (sed videat ne quaeratur latebra periurio [30]), следовало поступить именно так, как он поступил; если он сделал это без горечи, если ему не был тягостен шаг, это верный признак того, что он не в ладах со своей совестью».
Найдись среди государей кто-нибудь с такой щепетильной совестью, что даже полное исцеление от всех зол не бы примирить его со столь отчаянным средством, то и в этом случае я не стал бы его порицать. Он не мог бы погибнуть более извинительным и пристойным образом. Мы не всесильны; ведь так или иначе нам часто приходится препоручать наш корабль божественному промыслу, видя в нем якорь спасения. Что же более насущно необходимое может совершить государь? [31]. Разве не наименее возможное для него то, что он может сделать лишь ценою утраты доверия к его слову и за счет своей чести – а слово и честь должны быть ему, пожалуй, дороже его собственного благополучия, больше того – благополучия его подданных? И если, пребывая в полном бездействии, он попросту взовет к помощи бога, не будет ли у него оснований надеяться, что благость господня не откажется поддержать своей милостивой рукой руку праведную и чистую?
Случаи, когда государям приходится нарушать свой долг, – дурные и гибельные примеры; они представляют собою редкие и печальные исключения из наших естественных правил. Здесь надо уступать обстоятельствам, но возможно умереннее и с оглядкою; никакая личная выгода не оправдывает насилия, совершаемого нами над нашей совестью; общественная – дело другое, но и то лишь тогда, когда она вполне очевидна и очень существенна.
Тимолеон [32] смыл чудовищность совершенного им слезами, которые пролил, вспоминая о том, что убитый его рукою тиран – родной брат ему; и его совесть была справедливо смущена тем, что общественная польза могла быть достигнута лишь ценою его бесчестия. Даже сенат, освобожденный Тимолеоном от рабства, и тот не осмелился вынести окончательное решение относительно этого высокого подвига и разделился в этом вопросе на два несогласных между собой и противостоящих друг другу стана. Случилось, однако, что как раз в это время прибыли послы от сиракузцев к коринфянам с мольбой о защите и покровительстве и с просьбой направить к ним полководца, способного возвратить их городу былое величие и очистить Сицилию от различных угнетавших ее мелких тиранов, и сенат отправил туда Тимолеона. Воспользовавшись этим новым предлогом, сенат заявил, что приговор по делу Тимолеона будет вынесен в соответствии с тем, хорошо или дурно он будет вести себя, выполняя свое поручение, и что его ждет либо милость, подобающая освободителю родины, либо немилость, подобающая братоубийце. При всей несообразности такого решения его можно в известной степени извинить ввиду опасности показанного Тимолеоном примера и важности возложенного на него дела. И сенат поступил правильно, отложив свой приговор и стремясь найти для него опору со стороны, в соображениях, не имеющих прямого касательства к самому делу. И что же! поведение Тимолеона во время этого путешествия вскоре пролило дополнительный свет на сущность его деяния – так достойно и доблестно вел он себя в любых обстоятельствах; да и удача, сопутствовавшая ему во всем, несмотря на трудности, которые ему пришлось преодолеть при выполнении своего благородного дела, была ниспослана, казалось, самими богами, сговорившимися споспешествовать его оправданию.
Цель Тимолеона, убившего брата-тирана, оправдывает его, если вообще такое деяние может быть оправдано. Но стремление увеличить государственные доходы, толкнувшее римский сенат принять то бессовестное решение, о котором я намерен сейчас рассказать, не настолько возвышенно, чтобы оправдать явную несправедливость.
Несколько городов, внеся денежный выкуп, с разрешения и по указу сената получили от Суллы свободу. Этот вопрос был подвергнут новому обсуждению, и сенат объявил, что они должны вносить налоги по-прежнему, деньги же, выплаченные ими в качестве выкупа, не подлежат возвращению [33]. Гражданские войны преподносят нам на каждом шагу столь же отвратительные примеры коварства, ибо мы наказываем ни в чем не повинных людей только за то, что они верили нам, когда мы сами были иными, и должностное лицо налагает наказание за перемену в своих взглядах на тех, кто в этом нисколько не виноват: учитель порет ученика за его покорность, поводырь – следующего за ним по пятам слепца. Гнуснейшее подобие правосудия! И философия также не свободна от правил ложных и уязвимых. Пример, который нам приводят в доказательство того, что личная выгода может брать порой верх над данным нами словом, не кажется мне достаточно веским, несмотря на примешивающиеся сюда обстоятельства. Вас схватили разбойники и затем отпустили на волю, связав предварительно клятвою, что вы заплатите им определенную мзду; глубоко неправ тот, кто утверждает, будто порядочный человек, вырвавшись из их рук, свободен от своего слова и может не платить обещанных денег. Он никоим образом от него не свободен. То, что я пожелал сделать, побуждаемый страхом, я обязан сделать и избавившись от него, и даже если он принудил к подобному обещанию мой язык, а не волю, я все равно должен соблюсти в точности мое слово. Что до меня, то я всегда совестился отрекаться от своего слова даже тогда, когда оно неосторожно слетало у меня с уст, опередив мысль. Иначе мы мало-помалу сведем на нет права тех, кому мы даем клятвы и обещания. Quasi vero forti viro vis possit adhiberi [34]. Личные соображения могут считаться законными и извинять нас при нарушении нами обещанного лишь в одном-единственном случае, а именно, если мы обещали что-нибудь само по себе несправедливое и постыдное, ибо права добродетели должны стоять выше прав, вытекающих из обязательств, которыми мы связали себя.
Я поместил когда-то Эпаминонда [35] в первом ряду лучших людей и не отступаюсь от этого. До чего же возвышенно понимал он свой долг, он, который ни разу не убил ни одного побежденного и обезоруженного им в схватке; который не позволял себе даже ради бесценного блага – возвращения свободы отчизне – предать смерти без соблюдения всех форм правосудия какого-нибудь тирана или его приспешника; который считал дурным человеком того, кто, будучи даже безупречным гражданином, не щадил в пылу битвы, среди врагов, своего друга или того, с кем его связывали узы гостеприимства! Вот душа, и впрямь отлитая из драгоценного сплава! Он вносил в самые жестокие и необузданные человеческие деяния доброту и человечность, притом доведенную до такой степени утонченности, какая известна лишь самым человечным из философских учений. От природы ли была так чувствительна его душа, суровая, гордая и несгибаемая в борьбе со страданием, смертью и бедностью, или ее смягчило самовоспитание, но она стала на редкость нежною и отзывчивой. Грозный, с мечом в руке и залитый кровью, он идет в бой, сокрушая и уничтожая мощь народа, непобедимого в схватке со всеми, кроме него [36], но старательно уклоняется в сумятице и гуще жестокой битвы от встречи с другом или с тем, с кем его связывали узы гостеприимства. И он был поистине достоин повелевать на войне, ибо в самом пылу ее, в самом яром пламени, в неистовстве кровопролития способен был ощущать укоры доброго сердца. Ведь это чудо – уметь вкладывать в такие дела хотя бы малую толику справедливости, и только самообладание Эпаминонда могло примешивать к ним кротость и снисходительность самых мягких нравов и душевную чистоту. И в то время как один полководец сказал мамертинцам [37], что статуты ни в какой мере не распространяются на вооруженных людей, а другой в разговоре с народным трибуном – что одно время для правосудия, а другое для войны [38], а третий – что звон оружия мешает ему слышать голос законов [39], Эпаминонду ничто никогда не мешало слышать голоса учтивости и безупречной любезности. Не позаимствовал ли он у своих врагов обычай совершать, идя на войну, жертвоприношения музам, дабы их прелесть и жизнерадостность смягчали присущую воину ярость и беспощадную жестокость?
Так не будем же, следуя в этом столь великому учителю и наставнику, опасаться отстаивать мысль, что есть кое-какие вещи, непозволительные даже в отношении наших врагов, и что общественные интересы отнюдь не должны требовать всего от всех в ущерб интересам частным,
manente memoria etiam in dissidio publicorum foederum privati iuris: [40]
et nulla potentia vires
Praestandi ne quid peccet amicus, habet; [41]
a также, что вовсе не все может позволить себе порядочный человек, служа своему государю, или общему благу, или законам. Non enim patria praestat omnibus officiis, et ipsi conducit pios habere cives in parentes [42]. Это самое что ни на есть подходящее наставление для нашего времени; нам незачем прикрывать наши души стальными пластинами – довольно того, что ими прикрыты наши плечи, и достаточно обмакивать наши перья в чернила, незачем макать их в кровь. И если презирать дружбу, личные обстоятельства, данное тобой слово и узы родства, принося все это в жертву общественному благу и повиновению власти, означает выказывать величие души и проявлять редкостную и исключительную доблесть, то, весьма вероятно, – скажем это себе в извинение – такое величие не могло бы ужиться с душевным величием Эпаминонда.
Мне внушают глубокое отвращение яростные призывы, исходящие от некой совсем иной, лишенной всяких нравственных устоев души:
dum tela micant, non vos pietatis imago
Ulla, nec adversa conspecti fronte parentes
Commoveant; vultus gladio turbate verendos. [43]
Не дадим же душам от природы злобным, коварным и кровожадным прикрываться личиной разума; забудем о таком правосудии, неистовом, одержимом, и будем подражать в своих действиях тому, что более свойственно человеку. Но как, однако, различны являемые нами в разное время примеры! В одной из битв гражданской войны против Цинны некий воин Помпея [44] убил своего брата, не узнав его между врагами, и тут же от стыда и отчаяния наложил на себя руки [45]; а спустя несколько лет, во время новой гражданской войны, которую вел тот же народ, другой солдат, убив брата, потребовал от своих начальников награду за это [46].
Мерилом честности и красоты того или иного поступка мы ошибочно считаем его полезность и отсюда делаем неправильный вывод, будто всякий обязан совершать такие поступки и что полезный поступок честен для всякого:
Omnia non pariter terum sunt omnibus apta. [47]
Обратимся к самому насущному и полезному из всего, что известно в человеческом обществе, – я имею в виду вступление в брак; но вот собор святых отцов находит, что не вступать в брак более честно, и запрещает его по этой причине наиболее почитаемому нами сословию; да и мы отдаем в табун только тех лошадей, которых считаем менее ценными.
Глава II. О раскаянии
Другие творят человека; я же только рассказываю о нем и изображаю личность, отнюдь не являющуюся перлом творения, и будь у меня возможность вылепить ее заново, я бы создал ее, говоря по правде, совсем иною. Но дело сделано, и теперь поздно думать об этом. Штрихи моего наброска нисколько не искажают истины, хотя они все время меняются, и эти изменения необычайно разнообразны. Весь мир – это вечные качели. Все, что он в себе заключает, непрерывно качается: земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды, – и качается все это вместе со всем остальным, а также и само по себе. Даже устойчивость – и она не что иное, как ослабленное и замедленное качание. Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет. Он бредет наугад и пошатываясь, хмельной от рождения, ибо таким он создан природою. Я беру его таким, каков он предо мной в то мгновение, когда занимает меня. И я не рисую его пребывающим в неподвижности. Я рисую его в движении, и не в движении от возраста к возрасту или, как говорят в народе, от семилетия к семилетию, но от одного дня к другому, от минуты к минуте. Нужно помнить о том, что мое повествование относится к определенному часу. Я могу вскоре перемениться, и не только непроизвольно, но и намеренно. Эти мои писания – не более чем протокол, регистрирующий всевозможные проносящиеся вереницей явления и неопределенные, а иногда и противоречащие друг другу фантазии, то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах и с других точек зрения. Вот и получается, что иногда я противоречу себе самому, но истине, как говорил Демад [48], я не противоречу никогда. Если б моя душа могла обрести устойчивость, попытки мои не были бы столь робкими и я был бы решительнее, но она все еще пребывает в учении и еще не прошла положенного ей искуса.
Я выставляю на обозрение жизнь обыденную и лишенную всякого блеска, что, впрочем, одно и то же. Вся моральная философия может быть с таким же успехом приложена к жизни повседневной и простой, как и к жизни более содержательной и богатой событиями: у каждого человека есть все, что свойственно всему роду людскому.
Авторы, говоря о себе, сообщают читателям только о том, что отмечает их печатью особенности и необычности; что до меня, то я первый повествую о своей сущности в целом, как о Мишеле де Монтене, а не как о филологе, поэте или юристе.
Если людям не нравится, что я слишком много говорю о себе, то мне не нравится, что они занимаются не только собой.
Но разумно ли, что при сугубо частном образе жизни я притязаю на общественную известность? И разумно ли преподносить миру, где форма и мастерство так почитаемы и всесильны, сырые и нехитрые продукты природы, и природы к тому же изрядно хилой? Сочинять книги без знаний и мастерства не означает ли то же самое, что класть крепостную стену без камней, или что-либо в этом же роде? Воображение музыканта направляется предписаниями искусства, мое – прихотью случая. Но применительно к науке, которая меня занимает, за мной, по крайней мере, то преимущество, что никогда ни один человек, знающий и понимающий свой предмет, не рассматривал его доскональнее, чем я – свой и в этом смысле я самый ученый человек изо всех живущих на свете; во-вторых, никто никогда не проникал так глубоко в свою тему, никто так подробно и тщательно не исследовал всех ее частностей и существующих между ними связей и никто не достигал с большей полнотой и завершенностью цели, которую ставил себе, работая. Чтобы справиться с нею, мне потребна только правдивость; а она налицо, и притом самая искренняя и полная, какая только возможна. Я говорю правду не всегда до конца, но настолько, насколько осмеливаюсь, а с возрастом я становлюсь смелее, ибо обычай, кажется, предоставляет старикам большую свободу болтать и, не впадая в нескромность, говорить о себе. Здесь не может произойти то, что происходит, как я вижу, довольно часто, а именно, что сочинитель и его труд несоразмерны друг другу: как это человек, столь разумный в речах, написал столь нелепое сочинение? Или каким образом столь ученые сочинения вышли из-под пера человека, столь немощного в речах?
Если у кого-нибудь речь обыденна, а сочинения примечательны – это значит, что дарования его там, откуда он их заимствует, а не в нем самом. Сведущий человек не бывает равно сведущ во всем, но способный – способен во всем, даже пребывая в невежестве.
Здесь мы идем вровень и всегда в ногу – моя книга и я. В других случаях можно хвалить или, наоборот, порицать работу независимо от работника; здесь – это исключено: кто касается одной, тот касается и другого. Кто возьмется судить о работе, не зная работника, тот причинит больше ущерба себе, нежели мне; кто предварительно узнает его, тот сполна удовлетворит меня. Но я буду сверх меры счастлив, если получу общественное одобрение хотя бы только за то, что дал почувствовать мыслящим людям свое умение с толком употреблять мои знания – если таковые у меня есть, – доказал им, что я стою того, чтобы память служила мне лучше.
Прошу меня извинить за слишком частые упоминания о том, что я редко раскаиваюсь в чем бы то ни было и что моя совесть в общем довольна собой, не так, как совесть ангела или, скажем, лошади, но так, как может быть довольна собой человеческая совесть; я постоянно повторяю нижеследующие слова не как пустую формулу вежливости, а как нечто, идущее от непосредственного ощущения мною своей ничтожности: все, что я говорю, я говорю как ищущий и не ведающий, бесхитростно и с чистой душой опираясь на общераспространенные и законные верования. Я отнюдь не поучаю, я только рассказываю.
Настоящим пороком нужно считать только такой, который оскорбляет сознание человека и безоговорочно осуждается человеческим разумом, ибо его уродство и вредоносность до того очевидны, что правы, пожалуй, те, кто утверждает, будто он является порождением, в первую очередь, глупости и невежества. Трудно представить себе, чтобы, познакомившись с ним, можно было бы не возненавидеть его. Злоба чаще всего впитывает в себя свой собственный яд и отравляется им. Подобно тому, как язва на теле оставляет после себя рубец, так и порок оставляет в душе раскаяние, которое, постоянно кровоточа, не дает нам покоя. Ибо рассудок, успокаивая другие печали и горести, порождает горечь раскаяния, которая тяжелее всего, так как она точит нас изнутри; ведь жар и озноб, порожденные лихорадкой, более ощутительны, чем действующие на нас снаружи. Я считаю пороками (впрочем, каждый из них измеряется своей меркой) не только то, что осуждается разумом и природой, но и то, что признается пороком в соответствии с представлениями людей, пусть даже ложными и ошибочными, если законы и обычай подтверждают такую оценку.
Нет, равным образом, ни одного проявления доброты, которое не доставляло бы радости благородному сердцу. Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующие чистой совести. Прочная, но смелая и решительная душа может, при случае, обеспечить себе спокойствие, но познать удовлетворение и удовольствие этого рода ей не дано. А это немалое наслаждение – чувствовать себя огражденным от заразы, распространяемой столь порочным веком, и говорить себе самому: «Кто заглянул бы мне в самую душу, тот и тогда не обвинил бы меня ни в несчастии и разорении кого бы то ни было, ни в мстительности и в зависти, ни в преступлении против законов, ни в жажде перемен или смуты, ни в нарушении слова; и хотя разнузданность нашего времени разрешает все это и учит этому каждого, я никогда не накладывал руку на имущество или на кошелек какого-либо француза, но всегда жил за счет своего собственного, как на войне, так и в мирное время, и никогда не пользовался ничьим трудом без должной его оплаты». Подобные свидетельства совести чрезвычайно приятны, и эта радость, эта единственная награда, которая никогда не минует нас, – великое благодеяние для души.
Искать опоры в одобрении окружающих, видя в нем воздаяние за добродетельные поступки, значит опираться на то, что крайне шатко и непрочно. А в наше развращенное, погрязшее в невежестве время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительна: ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы? Упаси меня бог быть порядочным человеком в духе тех описаний, которые, как я вижу, что ни день каждый сочиняет во славу самому себе. Quae fuerant vitia, mores sunt [49].
Иные мои друзья по личному ли побуждению, или вызванные на это мною, не раз принимались с полною откровенностью журить и бранить меня, выполняя ту из своих обязанностей, которая благородной душе кажется не только полезнее, но и приятнее прочих обязанностей, возлагаемых на нас дружбою. Я всегда встречал эти упреки с величайшей терпимостью и искреннейшей признательностью. Но, говоря по совести, я частенько обнаруживал и в их порицаниях и в их восхвалениях такое отсутствие меры, что не допустил бы, полагаю, ошибки, предпочитая впадать в ошибки, чем проявлять благоразумие на их лад. Нашему брату, живущему частною жизнью, которая на виду лишь у нас самих, особенно нужно иметь перед собой некий образец, дабы равняться на него в наших поступках и, сопоставляя их с ним, то дарить себе ласку, то налагать на себя наказание. Для суда над самим собой у меня есть мои собственные законы и моя собственная судебная палата, и я обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было. Сдерживая себя, я руководствуюсь мерою, предуказанной мне другими, но, давая себе волю, руководствуюсь лишь своей мерою. Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы; другие вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим. Tuo tibi iudicio est utendum [50]. Virtutis et vitiorum grave ipsius conscientiae pondus est: qua sublata, iacent omnia [51].
Хотя и говорят, что раскаяние следует по пятам за грехом, мне кажется, что это не относится к такому греху, который предстает перед нами в гордом величии и обитает в нас, как в собственном доме. Можно отринуть и побороть пороки, которые иногда охватывают нас и к которым нас влекут страсти, но пороки, укоренившиеся и закосневшие вследствие долгой привычки в душе человека с сильной, несгибаемой волей, не допускают противодействия. Раскаяние представляет собой не что иное, как отречение от нашей собственной воли и подавление наших желаний, и оно проявляется самым различным образом. Так, оно может заставить человека сожалеть о своей былой добродетели и стойкости:
Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit?
Vel cur his animis incolumes non redeunt genae? [52]
Великолепна та жизнь, которая даже в наиболее частных своих проявлениях всегда и во всем безупречна.
Всякий может фиглярствовать и изображать на подмостках честного человека; но быть порядочным в глубине души, где все дозволено, куда никому нет доступа, – вот поистине вершина возможного. Ближайшая ступень к этому – быть таким же у себя дома, в своих обыденных делах и поступках, в которых мы не обязаны давать кому-либо отчет и где свободны от искусственности и притворства. И вот Биант [53], изображая идеальный семейный уклад, говорит, что глава семьи должен быть в лоне ее по своему личному побуждению таким же, каков он вне ее из страха перед законами и людскими толками. А Юлий Друз [54] весьма достойно ответил работникам, предлагавшим за три тысячи экю переделать его дом таким образом, чтобы соседи не могли видеть, как прежде, что происходит за его стенами; он сказал: «Я не пожалею и шести тысяч, но сделайте так, чтобы всякий со всех сторон видел его насквозь». С уважением отмечают обыкновение Агесилая останавливаться во время разъездов по стране в храмах с тем, чтобы люди и самые боги наблюдали его частную жизнь [55]. Бывали люди, казавшиеся миру редкостным чудом, а между тем ни жены их, ни слуги не видели в них ничего замечательного. Лишь немногие вызывали восхищение своих близких.
Как подсказывает опыт истории, никогда не бывало пророка не только у себя дома, но и в своем отечестве. То же и в мелочах. Нижеследующий ничтожный пример воспроизводит все то, что можно было бы показать и на примерах великих. Под небом моей Гаскони я слыву чудаком, так как сочиняю и печатаю книги. Чем дальше от своих родных мест, тем больше я значу в глазах знающих обо мне. В Гиени я покупаю у книгоиздателей, в других местах – они покупают меня. На подобных вещах и основано поведение тех, кто, живя и пребывая среди своих современников, таится от них, чтобы после своей смерти и исчезновения завоевать себе славу. Что до меня, то я не гонюсь за ней. Я жду от мира не больше того, что он мне уделил. Таким образом, мы с ним в расчете.
Иного восхищенный народ провожает с собрания до дверей его дома; но вместе с парадной одеждой он расстается и с ролью, которую только что исполнял, и падает тем ниже, чем выше был вознесен: в глубине его души все нелепо и отвратительно, и даже если в нем господствует внутренний лад, нужно обладать быстрым и трезвым умом, чтобы подметить это в его привычных и ничем не примечательных поступках, в его обыденной жизни. Добавим к тому же, что сдержанность – мрачная и угрюмая добродетель. Устремляться при осаде крепости в брешь, стоять во главе посольства, править народом – все эти поступки окружены блеском и обращают на себя внимание всех. Но бранить, смеяться, продавать, платить, любить, ненавидеть и беседовать с близкими и с собою самим мягко и всегда соблюдая справедливость, не поддаваться слабости, неизменно оставаться самим собой – это вещь гораздо более редкая, более трудная и менее бросающаяся в глаза. Жизни, протекающей в уединении, что бы ни говорили на этот счет, ведомы такие же, если только не более сложные и тягостные обязанности, какие ведомы жизни, не замыкающейся в себе. И частные лица, говорит Аристотель [56], служат добродетели с большими трудностями и более возвышенным образом, нежели те, кто занимает высокие должности. Мы готовимся к выдающимся подвигам, побуждаемые больше жаждою славы, чем своей совестью. Самый краткий путь к завоеванию славы – это делать по побуждению совести то, что мы делаем ради славы. И доблесть Александра, явленная им на его поприще, намного уступает, по-моему, доблести, которую проявил Сократ, чье существование было скромным и неприметным. Я легко могу представить себе Сократа на месте Александра, но Александра на месте Сократа я представить себе не могу. Если бы кто-нибудь спросил Александра, что он умеет делать, тот бы ответил: подчинять мир своей власти; если бы кто-нибудь обратился с тем же к Сократу, он несомненно сказал бы, что умеет жить, как подобает людям, то есть в соответствии с предписаниями природы, а для этого требуются более обширные, более глубокие и более полезные познания. Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во всем. Ее величие раскрывается не в великом, но в повседневном.
Как те, кто судит о нас, проникая в глубины нашей души, не придают слишком большого значения блеску наших поступков на общественном поприще, понимая, что это не более чем струйки и капли чистой воды, пробивающиеся наружу из топкой и илистой почвы, так и те, кто судит о нас по нашему внешнему великолепию, заключают, исходя из него, и о нашей внутренней сущности, ибо в их сознании никак не укладывается, что обычные людские свойства, такие же, как их собственные, совмещаются в нас с теми другими качествами, которые вызывают их удивление и так недостижимы для них. По этой причине мы и придаем бесам звериный облик. Кто же способен представить себе Тамерлана [57] иначе, как с нахмуренными бровями, раздувающимися ноздрями, грозным лицом и неправдоподобно могучим станом, таким станом, каким наделяет его наше потрясенное славою этого имени воображение. И если бы кто-нибудь доставил мне в прошлом случай увидеть Эразма [58], мне было бы трудно не счесть афоризмом и апофтегмой любую фразу, с которой он обратился бы к своему лакею или экономке.
Мы гораздо легче можем представить себе восседающим на стульчаке или взгромоздившимся на жену какого-нибудь ремесленника, нежели вельможу, внушающего почтение своею осанкой и неприступностью. Нам кажется, что с высоты своих тронов они никогда не снисходят до прозы обыденной жизни.
Нередко случается, что порочные души под влиянием какого-нибудь побуждения извне творят добро, тогда как души глубоко добродетельные – по той же причине – зло. Таким образом, судить о них следует лишь тогда, когда они в устойчивом состоянии, когда они в ладу сами с собой, если это порой с ними случается, или, по крайней мере, когда они относительно спокойны и ближе к своей естественной непосредственности. Природные склонности развиваются и укрепляются при помощи воспитания, но изменить и преодолеть их нельзя. Тысячи характеров в мое время обратились к добродетели или к пороку, хоть и были наставлены в противоположных правилах:
Sic ubi desuetae silvis in carcere clausae
Mansuevere ferae, et vultus posuere minaces,
Atque hominem didicere pati, si torrida parvus
Venit in ora cruor, redeunt rabiesque furorque,
Admonitaeque tument gustato sanguine fauces;
Fervet, et a trepido vix abstinet ira magistro. [59]
Эти врожденные свойства искоренить невозможно; их прикрывают, их прячут, но не больше. Латинский язык для меня как родной; я понимаю его лучше, чем французский, но вот уже сорок лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным и совсем не пишу на нем; и все же при сильных и внезапных душевных движениях, которые мне довелось пережить раза два-три за мою жизнь и особенно в тот раз, когда я увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, валится на меня, теряя сознание, первые вырвавшиеся из глубин памяти и произнесенные мною слова были латинскими: природа сама собой пробивается наружу и выражает себя, вопреки долгой привычке. И этот пример может быть подкреплен множеством других.
Те, кто пытался с помощью новых воззрений преобразовать в мое время нравы людей, искореняют лишь чисто внешние недостатки; что же касается настоящих пороков, они их не затрагивают, если только не усиливают и не умножают, и этого усиления и умножения нужно бояться; они охотно останавливаются на достигнутом и отказываются от других улучшений, ограничиваясь упомянутыми внешними и произвольными преобразованиями, которые не многого стоят, а между тем приносят им славу; таким образом, они за сходную плату оставляют в покое другие, подлинные, врожденные, глубоко укоренившиеся пороки. Обратитесь на миг к показаниям вашего опыта; нет человека, который, если только он всматривается в себя, не открыл бы в себе некоей собственной сущности, сущности, определяющей его поведение и противоборствующей воспитанию, а так же буре враждебных ему страстей. Что до меня, то я не ощущаю никакого сотрясения от толчка; я почти всегда пребываю на своем месте, как это свойственно громоздким и тяжеловесным телам. Если я и оказываюсь порой вне себя самого, то все же нахожусь всегда где-то поблизости. Мои порывы не уносят меня чересчур далеко. В них нет ничего чрезмерного и причудливого, и мои увлечения, таким образом, нужно считать здоровыми и полноценными.
Но что действительно заслуживает настоящего осуждения – а это касается повседневного существования всех людей, – это то, что даже их личная жизнь полна гнили и мерзости, что их мысль о собственном нравственном очищении – шаткая и туманная, что их раскаяние почти столь же болезненно и преступно, как и их грех. Иные, связанные с пороком природными узами или сжившиеся с ним в силу давней привычки, уже не видят в нем никакого уродства. Других (я сам из их числа) порок тяготит, но это уравновешивается для них удовольствием или чем-либо иным, и они уступают пороку, предаются ему ценою того, что грешат пакостно и трусливо. И все же можно представить себе такую несоизмеримость удовольствия и греха, что первое – это можно сказать и относительно пользы – с полным основанием извиняет второй, и не только в том случае, когда удовольствие примешивается случайно и не имеет прямой связи с грехом, как при краже, но даже если оно неотделимо от греховного деяния, как при сближении с женщиной, когда вожделение безгранично, а порою, как говорят, и вовсе неодолимо.
Побывав недавно в Арманьяке и посетив поместье одного моего родственника, я видел там крестьянина, которого никто не называет иначе, как «вор». Он рассказывает о своей жизни следующее: родившись нищим и считая, что зарабатывать хлеб трудом своих рук – значит никогда не вырваться из нужды, он решил сделаться вором и всю молодость безнаказанно занимался этим своим ремеслом, чему немало способствовала его огромная телесная сила; он жал хлеб и срезал виноград на чужих участках, проделывая это где-нибудь вдалеке от своего дома и перетаскивая на себе такое количество краденого, что никому в голову не приходило, будто один человек способен унести на плечах все это в течение одной ночи; к тому же он старался распределять причиняемый им ущерб равномерно, так чтобы каждый в отдельности не испытывал слишком чувствительного урона. Сейчас он уже стар и для человека его сословия весьма состоятелен, чем обязан своему прошлому промыслу, в котором признается с полною откровенностью. Чтобы вымолить у бога прощения за подобный способ наживы, он, по его словам, что ни день оказывает всевозможные благодеяния потомкам некогда обворованных им людей, дабы возместить свои былые хищения; и если он не успеет закончить эти расчеты (ибо наделить разом всех он не в силах), то возложит эту обязанность на наследников, принимая во внимание то зло, которое он причинил каждому и размеры которого известны лишь ему одному. Если судить по его рассказу, правдивому или лживому – безразлично, он сам смотрит на воровство как на дело весьма бесчестное и даже ненавидит его, однако менее, чем нужду; он раскаивается в нем как таковом, но раз уж оно было уравновешено и возмещено описанным образом, он в нем отнюдь не раскаивается. В данном случае нет той привычки, что заставляет нас слиться с пороком и приноровлять к нему даже наше мышление; здесь нет и того буйного ветра, который время от времени проносится в нашей душе, смущая и ослепляя ее и подчиняя в это мгновение власти порока.
Всему, что я делаю, я, как правило, предаюсь всем своим существом и, пустившись в путь, прохожу его до конца: у меня не бывает ни одного душевного побуждения, которое таилось бы и укрывалось от моего разума; они протекают почти всегда с согласия всех составных частей моего «я», без раздоров, без внутренних возмущений, и если они бывают достойны порицания или похвалы, то этим обязаны только моему рассудку, ибо если он был достоин порицания хоть однажды, это значит, что он достоин его всегда, так как, можно сказать, от рождения он неизменно все тот же: те же склонности, то же направление, та же сила. А что касается моих воззрений, я и теперь пребываю в той же точке, держаться которой положил себе еще в детстве.
Существуют грехи, которые увлекают нас стремительно, неодолимо, внезапно. Оставим их в стороне. Но что до других грехов, тех, в которые мы беспрестанно впадаем, о которых столько думали и говорили с другими, или грехов, связанных с особенностями нашего душевного склада, нашими занятиями и обязанностями, то я не в силах постигнуть, как это они могут столь долгое время гнездиться в чьем-либо сердце без ведома и согласия со стороны совести и разума познавшего их человека; и мне трудно понять и представить себе раскаяние, охватывающее его, как он похваляется, в заранее предписанный для этого час [60].
Я не разделяю взгляда приверженцев Пифагора, будто люди, приближаясь к изваяниям богов, чтобы выслушать их прорицания, обретают новую душу [61], разве только он хотел этим сказать, что она неизбежно должна быть какой-то иной, новой, на время обретенной, поскольку в собственной их душе не заметно того очищения и ничем не нарушаемого покоя, которые обязательны для совершающих священнодействие.
В этом случае учение пифагорейцев утверждает нечто прямо противоположное наставлениям стоиков, требующих решительно исправлять познанные нами в себе пороки и недостатки, но запрещающих огорчаться и печалиться из-за них. Пифагорийцы – те заставляют нас думать, что они в глубине души ощущают по той же причине сильную скорбь и угрызения совести, но что касается пресечения и исправления упомянутых пороков и недостатков, а также самоусовершенствования, то об этом они не упоминают ни словом. Однако нельзя исцелиться, не избавившись от болезни. Раскаяние только тогда возьмет верх над грехом, если перевесит его на чаше весов. Я считаю, что нет ни одного душевного качества, которое можно подделать с такою же легкостью, как благочестие, если образ жизни не согласуется с ним: сущность его непознаваема и таинственна, внешние проявления – общепонятны и облачены в пышный наряд.
Что до меня, то, вообще говоря, я могу хотеть быть другим, могу осуждать себя в целом и не нравиться сам себе и умолять бога о полном моем преображении и о том, чтобы он простил мне природную слабость. Но все это, по-моему, я могу называть раскаянием не более, чем мое огорчение, что я не ангел и не Катон [62]. Мои поступки по-своему упорядочены и находятся в соответствии с тем, что я есть, и с моими возможностями. Делать лучше я не могу. Раскаянье, в сущности, не распространяется на те вещи, которые нам не по силам; тут следует говорить только о сожалении. Я могу представить себе бесчисленное множество различных характеров, более возвышенных и упорядоченных, нежели мой, однако я не исправляю благодаря этому своих прирожденных свойств, как моя рука и мой ум не становятся более мощными оттого, что я рисую в своем воображении другую руку и другой ум, какими бы они ни были. Если бы, представляя себе более благородный образ действий, чем наш, и стремясь к нему всей душой, мы ощущали раскаянье, нам пришлось бы раскаиваться в самых невинных делах и поступках, – ведь мы хорошо понимаем, что человек с более выдающимися природными данными сделал бы то же самое лучше и благороднее, и мы постоянно желали бы поступить так же. И теперь, когда я на старости лет размышляю над своим разгульным поведением в молодости, я нахожу, что, принимая во внимание свойства моей натуры, оно было, в общем, вполне упорядоченным; на большее самообуздание я не был способен. Я нисколько не льщу себе: при сходных обстоятельствах я всегда был бы таким же самым. Это отнюдь не пятно, скорее это присущий мне особый оттенок. Мне незнакомо поверхностное, умеренное и чисто внешнее раскаяние. Нужно, чтобы оно захватило меня целиком, и лишь тогда я назову его этим словом, нужно, чтобы оно переворачивало мое нутро, проникало в меня так же глубоко и пронизывало насквозь, как божье око.
Что касается переговоров, которые мне приходилось вести [63], то из-за своего незадачливого поведения я не раз упускал благоприятные случаи. Мои советы, однако, бывали тщательно взвешены и отвечали потребностям обстоятельств: главная их черта – нужно избирать самый легкий и подходящий для себя путь. Полагаю, что на совещаниях, в которых я принимал когда-то участие, мои суждения о предметах, подвергавшихся рассмотрению, были, в соответствии с отмеченным правилом, неизменно благоразумными, – в подобных случаях я поступал бы в точности так же еще тысячу лет. Я имею в виду не нынешнее положение дел, а то, каким оно было тогда, когда я их обсуждал.
Всякий совет обладает действенностью лишь в течение определенного времени: обстоятельства и самая сущность вещей непрерывно в движении и бесконечно изменчивы. За свою жизнь я допустил несколько грубых и значительных промахов, и не потому, что у меня не хватило ума, но вследствие невезения. В предметах, которыми приходится заниматься, таятся самые невероятные неожиданности – особенно изобилует ими человеческая природа, – немые, никак не проявляющиеся черты, порою неведомые даже самим носителям их, и все это обнаруживается и пробуждается от случайных причин. Если мой разум не смог предвосхитить и заметить их, то я нисколько не виню его в этом; круг его обязанностей строго определен; меня одолевает случай, и если он покровительствует тому образу действий, от которого я отказался, то тут ничем не поможешь; я себя не корю за это, я обвиняю мою судьбу, но не свое поведение, а это вовсе не то, что зовется раскаяньем.
Однажды Фокион подал афинянам некий совет, которому те не последовали. Между тем, вопреки его мнению, дело протекало весьма успешно для них, и кто-то сказал ему: «Ну что, Фокион, доволен ли ты, что все идет так хорошо?» «Конечно, доволен, – ответил тот, – доволен, что это случилось так, а не иначе, но я ни чуточки не раскаиваюсь в том, что советовал поступить так-то и так-то» [64]. Когда мои друзья обращаются ко мне за советом, я излагаю его свободно и четко, не останавливаясь на полуслове, как поступают в рискованных случаях почти все, дабы оградить себя от возможных упреков, если дела обернутся наперекор их рассудку; меня это нисколько не беспокоит. Ведь упрекающие будут кругом неправы, мне же не подобало отказывать им в этой услуге.
Я никоим образом не стремлюсь возлагать вину за мои ошибки или несчастья на кого-либо, кроме себя. Ибо, по правде говоря, я редко прислушиваюсь к чужим советам – разве что подчиняясь правилам вежливости или тогда, когда я могу почерпнуть из них недостающие мне познания, а также сведения о том или ином факте. Но где требуется лишь поразмыслить, доводы со стороны могут лишь подкрепить мои собственные суждения, но чтобы они опровергли их – такого никогда не бывает. Все, что мне говорят, я выслушиваю благожелательно и учтиво, но, сколько мне помнится, вплоть до этого часа я верил только себе самому. На мой взгляд, эти высказывания – не более чем мушки и крапинки, скользящие по поверхности моей воли. Я не очень-то ценю свои мнения, но так же мало ценю и чужие. Судьба воздает мне за это полною мерой. Если я не гонюсь за советами, то еще меньше я их расточаю. Их у меня почти и не спрашивают и еще реже им доверяют, и я не знаю ни одного общественного или частного дела, которое было бы начато или доведено до конца по моему настоянию. Даже те, чьими судьбами я в некоторой мере распоряжаюсь, – и они охотнее подчиняются чьей-нибудь чужой воле, нежели моей. И поскольку о влиянии своем я пекусь менее ревностно, чем о душевном покое, мне это гораздо приятнее: не обращая на меня внимания, люди предоставляют мне возможность жить в соответствии с моими желаниями, которые состоят в том, чтобы сосредоточиться и замкнуться в себе, и для меня великая радость пребывать в полном неведении относительно чужих дел и не чувствовать на себе обязанности устраивать их.
По своем завершении всякое дело, чем бы оно ни окончилось, перестает занимать мои мысли. Если его исход оказался печальным, меня примиряет с этим следующее соображение: он не мог быть иным, ибо таково его место в великом круговороте всего сущего и в цепи причин и следствий, о которых говорят стоики; ваше воображение, как бы вы ни старались и ни жаждали этого, не в состоянии сдвинуть с места ни одной точки, не нарушив при этом установленного порядка вещей, и это касается как прошлого, так и будущего.
И вообще, я не выношу тех приступов раскаяния, которые находят на человека с возрастом. Тот, кто заявил в древности [65], что он бесконечно благодарен годам, ибо они избавили его от сладострастия, держался на этот счет совсем иных взглядов, чем я: никогда я не стану превозносить бессилие за все его мнимые благодеяния. Nec tam
До чего ничтожно лекарство, исцеляющее посредством болезни!
Эту услугу должно было бы оказывать нам не несчастье, но наш собственный ум в пору своего расцвета. Напасти и огорчения не могут принудить меня ни к чему, кроме проклятий. Они полезны лишь тем, кто не просыпается иначе, как от ударов бича. Мой разум чувствует себя гораздо непринужденнее в обстановке благополучия. Переваривать несчастья ему гораздо труднее, чем радости: в этом случае его охватывает тревога и он начинает разбрасываться. При безоблачном небе я вижу много отчетливее. Здоровье подает мне советы и более радостные и более полезные, чем те, которые мне может подать болезнь. Я очистил и упорядочил мою жизнь, как только мог, еще в те времена, когда наслаждался всеми ее дарами. И мне было бы досадно и стыдно, если бы оказалось, что убожество и печали моего заката имеют право предпочесть себя тем замечательным дням, когда я был здоров, жизнерадостен, полон сил, и что меня нужно ценить не такого, каким я был, но такого, каким я сделался, перестав быть собой. Счастье человеческое состоит вовсе не в том, чтобы хорошо умереть, как говорит Антисфен [67], а в том, по-моему, чтобы хорошо жить. Я никогда не вынашивал в себе чудовищной мысли напялить на голову и тело того, кто, в сущности, уже мертв, – а что иное я представляю собой? – колпак и халат философа и никогда не стремился к тому, чтобы это жалкое рубище осудило и унизило самую яркую, лучшую и продолжительную часть моей жизни. Я хочу показать – и притом так, чтобы все это видели, – что всегда и везде я все тот же. Если бы мне довелось прожить еще одну жизнь, я жил бы так же, как прожил; я не жалею о прошлом и не страшусь будущего. И если я не обманываюсь, то как внутри, так и снаружи дело обстояло приблизительно одинаково. Больше всего я благодарен своей судьбе, пожалуй, за то, что всякое изменение в состоянии моего тела происходило в подобающее для моих лет время. Я видел себя в пору первых побегов, затем цветов и плодов, теперь наступила пора увядания. И это прекрасно, ибо естественно. Я гораздо легче переношу свои боли именно потому, что в мои годы они в порядке вещей, и потому, что, страдая от них, я с еще большей признательностью вспоминаю о долгом счастье прожитой мною жизни. И моя житейская мудрость равным образом остается, возможно, на том же уровне, что и прежде; впрочем, она была гораздо решительнее, изящнее, свежее, жизнерадостнее и непосредственнее, чем нынешняя, – закоснелая, брюзгливая, тяжеловесная.
Итак, я отказываюсь от всех улучшений, зависящих от столь печальных обстоятельств и от возможных случайностей. Нужно, чтобы бог пребывал в нашем сердце.
Нужно, чтобы совесть совершенствовалась сама собой благодаря укреплению нашего разума, а не вследствие угасания наших желаний. Сладострастие как таковое не становится бесцветным и бледным, сколь бы воспаленными и затуманенными ни были созерцающие его глаза. Следует любить воздержание само по себе и из уважения к богу, который нам заповедал его, следует любить целомудрие. Что же касается воздержания, на которое нас обрекают наши катары и которым я обязан не чему иному, как моим коликам, то это не целомудрие и не воздержание. Нельзя похваляться презрением к сладострастию и победой над ним, если не испытываешь его, если не знаешь его, и его обольщений, и его мощи, и его бесконечно завлекательной красоты. Я знал и то и другое, и кому, как не мне, говорить об этом. Но в старости, как мне кажется, наши души подвержены недугам и несовершенствам более докучным, чем в молодости. Я говорил об этом совсем молодым, но тогда меня неизменно осаживали на том основании, что я безбородый юнец. Я говорю то же самое и сейчас, когда моя сивая борода придает моим словам вес. Мы зовем мудростью беспорядочный ворох наших причуд, наше недовольство существующими порядками. Но в действительности мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие – и, как я думаю, худшие. Кроме глупой и жалкой спеси, нудной болтливости, несносных и непостижимых причуд, суеверий, смехотворной жажды богатств, когда пользоваться ими уже невозможно, я замечаю у стариков также зависть, несправедливость и коварную злобу. Старость налагает морщины не только на наши лица, но в еще большей мере на наши умы, и что-то не видно душ – или они встречаются крайне редко, – которые, старясь, не отдавали бы плесенью и кислятиной. Все в человеке идет вместе с ним в гору и под гору.
Принимая во внимание мудрость Сократа и кое-какие обстоятельства его осуждения [68], я решаюсь предполагать, что он сам некоторым образом способствовал совершившемуся, намеренно предоставляя всему идти своим чередом, – ведь он достиг семидесяти лет и знал, что его блестящему и деятельному уму предстоит в близком будущем ослабеть, а свойственной ему проницательности – померкнуть.
Каким только метаморфозам не подвергает каждодневно старость – можно сказать, у меня на глазах – многих моих знакомых! Она – могущественная болезнь, настигающая естественно и незаметно. Нужно обладать большим запасом знаний и большою предусмотрительностью, чтобы избегнуть изъянов, которыми она нас награждает, или, по крайней мере, чтобы замедлить развитие их. Я чувствую, что, несмотря на все мои оборонительные сооружения, она пядь за пядью оттесняет меня. Я держусь сколько могу. Но я не знаю, куда, в конце концов, она меня заведет. Во всех случаях я хочу, чтобы знали, откуда именно я упал.
Глава III. О трех видах общения
Негоже всегда и во всем держаться своих нравов и склонностей. Наиважнейшая из наших способностей – это умение приспосабливаться к самым различным обычаям. Неуклонно придерживаться по собственной воле или в силу необходимости одного и того же образа жизни – означает существовать, но не жить. Лучшие души – те, в которых больше гибкости и разнообразия.
Вот поистине лестный отзыв о Катоне Старшем: Huic versatile ingenium sic pariter ad omnia fuit, ut natum ad id unum diceres, quodcumque ageret [69].
Если бы мне было дано вытесать себя по своему вкусу, то нет такой формы, – как бы прекрасна она ни была, – в которую я желал бы втиснуться, с тем чтобы никогда уже с нею не расставаться. Жизнь – это неровное, неправильное и многообразное движение. Неукоснительно следовать своим склонностям и быть настолько в их власти, чтобы не мочь отступаться от них или подчинять их своей воле, означает не быть самому себе другом, а тем более господином; это значит быть рабом самого себя. Я сейчас вспомнил об этом, потому что мне не так-то легко отделаться от одного несносного свойства моей души: обыкновенно ее захватывает только то, что для нее трудно и хлопотно, и лишь этому она предается с горячностью и целиком. Сколь бы несложен ни был предмет, которым ей предстоит заниматься, она охотно усложняет его и придает ему такое значение, что ей приходится тратить на него все свои силы. По этой причине ее незанятость для меня крайне мучительна и вредно отзывается на моем здоровье. Большинству умов, чтобы встрепенуться и ожить, нужны новые впечатления; моему, однако, они больше нужны для того, чтобы прийти в себя и успокоиться, vitia otii negotio discutienda sunt [70], ибо его главнейшее и наиболее ревностное занятие – самопознание. Книги для него своего рода отдых, отвлекающий его от этого всепоглощающего дела. Первые же явившиеся ему мысли сразу возбуждают его, он стремится самым различным образом проявить свою мощь: он старается блеснуть то остротой, то строгостью, то изяществом; он сдерживает, соразмеряет и укрепляет себя. В себе самом обретает он побуждения к деятельности. Природа дала ему, как и всем, достаточно поводов к полезным раздумьям и широкий простор для открытий и рассуждений.
Для всякого, кто умеет как следует оценить свои возможности и в полной мере использовать их, размышление – могущественный и полноценный способ самопознания; я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не украшать ее позаимствованным добром.
Нет занятия более пустого и, вместе с тем, более сложного, чем беседовать со своими мыслями, – все зависит от того, какова беседующая душа. Самые великие души делают это занятие своим ремеслом – quibus vivere est cogitare [71]. Природа настолько покровительствует этой нашей особенности, что нет ничего, чем могли бы мы заниматься более длительно, и нет дела, которому отдавались бы с большим постоянством и большей готовностью. «В этом, – говорит Аристотель [72], – и состоит труд богов, созидающий и их счастье и наше». Чтение служит мне лишь для того, чтобы, расширяя мой кругозор, будить мою мысль, чтобы загружать мой ум, а не память.
Лишь немногие беседы увлекают меня и не требуют от меня напряжения и усилий. Правда, прелесть и красота захватывают и занимают меня не меньше, если не больше, чем значительность и глубина. И поскольку все прочие разговоры нагоняют на меня сон и я уделяю им лишь оболочку моего внимания, со мной нередко случается, что, присутствуя при подобном обмене словами, тягучем и вялом, поддерживаемом только ради приличия, я говорю или выпаливаю в ответ такой вздор и такие смешные глупости, которые не пристали бы даже детям, или упорно храню молчание, обнаруживая еще большую неловкость и нелюбезность. Часто я погружаюсь в мечтательность и углубляюсь в свои мысли; кроме того, мне свойственно непроходимое и совершенно ребяческое невежество во многих обыденных и общеизвестных вещах. По причине этих двух моих качеств я добился того, что обо мне могут рассказывать по меньшей мере пять или шесть забавных историй, выставляющих меня самым нелепым дурнем на свете.
Итак, возвращаясь к избранной мною теме, должен сказать, что эта неподатливость и негибкость моего душевного склада заставляет меня быть разборчивым по отношению к людям – мне приходится как бы просеивать их через сито – и делает меня малопригодным для дел, выполняемых сообща. Мы живем среди людей и вступаем с ними в разные отношения; если их повадки несносны для нас, если мы гнушаемся соприкасаться с душами низменными и пошлыми – а низменные и пошлые души часто бывают такими же упорядоченными, как самые утонченные (никчемна мудрость, не умеющая приноровиться к всеобщей глупости), – то нам нечего вмешиваться ни в наши собственные, ни в чужие дела: ведь и частные и общественные дела вершатся именно такими людьми. Самые прекрасные движения нашей души – это наименее напряженные и наиболее естественные ее движения. Господи боже! Сколь драгоценна помощь благоразумия для того, чьи желания и возможности оно приводит в соответствие между собой! Нет науки полезнее этой! «По мере сил» было излюбленным выражением и присловьем Сократа [73], и это его выражение исполнено глубочайшего смысла. Нужно устремлять наши желания на вещи легко доступные и находящиеся у нас под рукой и нужно уметь останавливаться на этом. Разве не глупая блажь с моей стороны чуждаться тысячи людей, с которыми меня связала судьба, без которых я не могу обойтись, и тянуться к одному, двум, пребывающим вне моего круга, или, больше того, упрямо жаждать какой-нибудь вещи, заведомо для меня недосягаемой. От природы я мягок, чужд всякой резкости и заносчивости, и это легко может избавить меня от зависти и враждебности окружающих – ведь никто никогда не заслуживал в большей мере, чем я, не скажу быть любимым, но хотя бы не быть ненавидимым. Однако свойственная мне холодность в обращении не без основания лишила меня благосклонности некоторых, превратно и в худшую сторону истолковавших эту мою черту, что, впрочем, для них извинительно.
А между тем я бесспорно обладаю способностью завязывать и поддерживать на редкость возвышенную и чистую дружбу. Так как я жадно хватаюсь за пришедшиеся мне по вкусу знакомства, оживляюсь, горячо набрасываюсь на них, мне легко удается сближаться с привлекательными для меня людьми и производить на них впечатление, если я того захочу. Я не раз испытывал эту свою способность и добивался успеха. Что касается обыкновенных приятельских отношений, то тут я несколько сух и холоден, ибо я утрачиваю естественность и сникаю, когда не лечу на всех парусах; к тому же судьба, обласкав меня в молодости дружбой неповторимой и совершенной и избаловав ее сладостью [74], и в самом деле отбила у меня вкус ко всем остальным ее разновидностям, прочно запечатлев в сознании, что настоящая дружба, как сказал один древний [75], – это «животное одинокое, вроде вепря, но отнюдь не стадное». Кроме того, мне по натуре претит общаться с кем бы то ни было, все время сдерживая себя, как претит и рабское, вечно настороженное благоразумие, которое нам велят соблюдать в разговорах с нашими полудрузьями или приятелями, и велят нам это особенно настоятельно в наше время, когда об иных вещах можно говорить не иначе, как с опасностью для себя или неискренне.
При всем том я очень хорошо понимаю, что каждому, считающему, подобно мне, своею конечною целью наслаждение жизненными благами (я разумею лишь основные жизненные блага), нужно бежать, как от чумы, от всех этих сложностей и тонкостей своенравной души. Я готов всячески превозносить того, чья душа состоит как бы из нескольких этажей, способна напрягаться и расслабляться, чувствует себя одинаково хорошо, куда бы судьба ее ни забросила, того, кто умеет поддерживать разговор с соседом о его постройке, охоте или тяжбе, оживленно беседовать с плотником и садовником; я завидую тем, кто умеет подойти к последнему из своих подчиненных и должным образом разговаривать с ним.
И я никоим образом не одобряю совета Платона [76], предписывающего нам обращаться к слугам неизменно повелительным тоном, не разрешая себе ни шутки, ни непринужденности в обращении, как с мужчинами, так и с женщинами.
Ибо, кроме того, о чем я говорил выше, бесчеловечно и крайне несправедливо придавать столь большое значение несущественному, даруемому судьбой преимуществу, и порядки, установленные в домах, где различие между господами и слугами ощущается наименее резко, кажутся мне наилучшими.
Иные стараются подстегнуть и взбудоражить свой ум; я – сдержать и успокоить его. Он заблуждается лишь тогда, когда напряжен.
Narras et genus Aeaci,
Et pugnata sacro bella sub Ilio:
Quo Chium pretio cadum
Mercemur, quis aquam temperet ignibus,
Quo praebente domum, et quota
Pelignis caream frigoribus taces. [77]
Как известно, доблесть лакедемонян нуждалась в обуздывании и в нежном и сладостном звучании флейт [78], укрощавших ее во время сражения, поскольку существовала опасность, как бы она не превратилась в безрассудство и бешенство, – а ведь другие народы используют пронзительные звуки и громкие выкрики, чтобы подстрекнуть и распалить храбрость солдат. Так и мы, как мне кажется вопреки общераспространенному мнению, большей частью нуждаемся при нашей умственной деятельности скорее в свинце, чем в крыльях, скорее в холодности и невозмутимом спокойствии, чем в горячности и возбуждении. И самое главное: изображать из себя высокоученого мужа, находясь среди тех, кто не блещет ученостью, и непрерывно произносить высокопарные речи – favellar in punta di forchetta [79] – означает, по-моему, изображать из себя глупца. Нужно приспособляться к уровню тех, с кем находишься, и порой притворяться невеждой. Забудьте о выразительности и тонкостях; в повседневном обиходе достаточно толкового изложения мысли. Если от вас этого желают, ползайте по земле.
Ученым свойственно спотыкаться об этот камень. Они любят выставлять напоказ свою образованность и повсюду суют свои книги. В последнее время их писания настолько прочно обосновались в спальнях и ушах наших дам, что если последние и не усвоили их содержания, то, по крайней мере, делают вид, будто изучили его; о чем бы ни зашла речь, сколь бы ни был предмет ее низменным и обыденным, они пользуются в разговорах и в своих писаниях новыми и учеными выражениями,
Нос sermone pavent, hoc iram, gaudia, curas,
Нос cuncta effundunt animi secreta; quid ultra?
Concumbunt docte; [80]
и ссылаются на Платона и святого Фому [81], говоря о вещах, которые мог бы столь же хорошо подтвердить первый встречный и поперечный. Наука, которая не смогла проникнуть к ним в душу, осталась на кончике их языка. Если бы высокородные дамы соблаговолили поверить мне, им было бы совершенно достаточно заставить нас оценить их собственные и вложенные в них самою природой богатства. Они прячут свою красоту под покровом чужой красоты. А ведь это великое недомыслие – гасить свое собственное сияние, чтобы излучать свет, заимствованный извне; они погребли и скрыли себя под грудами ухищрений. De capsula totae [82]. Причина тут в том, что они недостаточно знают самих себя; в мире нет ничего прекраснее их; это они украшают собою искусства и румянят румяна. Что им нужно, чтобы быть любимыми и почитаемыми? Им дано и они знают больше, чем необходимо для этого. Нужно только немного расшевелить и оживить таящиеся в них способности. Когда я вижу, как они углубляются в риторику, юриспруденцию, логику и прочую дребедень, столь никчемную, столь бесполезную и ненужную им, во мне рождается опасение, что мужчины, побуждающие их к занятиям ею, делают это с намерением заполучить власть над ними и на этом основании держать их в своей власти.
Ибо какое другое оправдание этому мог бы я подыскать? Хватит с милых дам и того, что они умеют без нашей помощи придавать своим глазам прелесть веселости, нежности и суровости, вкладывать в свое «нет» строгость, колебание и благосклонность и понимают без толмача страстные речи, обращенные к ним их поклонниками. Владея этой наукой, они повелевают всем миром, и выходит, что ученицы властвуют над своими учителями со всей их ученостью. Если им неприятно уступать нам хоть в чем-нибудь и любопытство толкает их к книгам, то самое подходящее для себя развлечение они могут найти в поэзии: это искусство лукавое и проказливое, многоликое, говорливое, все в нем тянется к наслаждению, все показное, короче говоря, оно такое же, как они. Наши дамы извлекут много полезного и из истории. В философии, в том разделе ее, где рассматриваются различные стороны жизни, они найдут рассуждения, которые научат их разбираться в наших нравах и душевных склонностях, препятствовать нашим изменам, умерять дерзость своих желаний, оберегать свою свободу от посягательств, продлевать радость жизни, с достоинством переносить непостоянство поклонника, грубость мужа и докучное бремя лет и морщин и многим другим тому подобным вещам.
Бывают характеры в высшей степени своеобразные, нелюдимые, ушедшие целиком в себя. Если говорить обо мне, то мое истинное призвание – общаться с людьми и созидать. Я весь обращен к внешнему миру, весь на виду и рожден для общества и для дружбы. Уединение, которое я люблю и которое проповедую, состоит, главным образом, в переносе моих привязанностей и мыслей на себя самого и в ограничении и сокращении не только моих усилий, но и моих забот и желаний; достигается это тем, что я слагаю с себя попечение о ком-либо, кроме как о себе, и бегу, словно от смерти, от порабощения и обязательств, и не столько от сонма людей, сколько от сонма обступающих меня дел. Что же касается физического уединения, то есть пребывания в одиночестве, то оно, должен признаться, скорее раздвигает и расширяет круг моих интересов, выводя меня за пределы моего «я», и никогда я с большей охотой не погружаюсь в рассмотрение дел нашего государства и всего мира, как тогда, когда я наедине сам с собой. В Лувре и среди толпы [83] я внутренне съеживаюсь и забиваюсь в свою скорлупу; толпа заставляет меня замыкаться в себе, и нигде я не беседую сам с собой так безудержно и откровенно, с таким увлечением, как в местах, требующих от нас сугубой почтительности и церемонного благоразумия. Наши глупости не вызывают у меня смеха, его вызывает наше высокомудрие. По своему нраву я не враг придворной сумятицы; я провел в самой гуще ее часть моей жизни и, можно сказать, создан для веселого времяпровождения в многолюдных собраниях, но при условии, чтобы они не были непрерывными и происходили в угодный для меня час. Однако повышенная раздражимость ума, которую я в себе отмечаю, обрекает меня на вечное уединение даже в кругу семьи и среди многочисленных слуг и навещающих меня посетителей, ибо мой дом принадлежит к числу весьма посещаемых. Я вижу вокруг себя достаточно много народа, но лишь изредка тех, с кем мне приятно общаться; вопреки принятому обыкновению я предоставляю как себе самому, так и всем остальным неограниченную свободу. Я не терплю церемоний – постоянной опеки гостя, проводов и прочих правил, налагаемых на нас нашей обременительной учтивостью (о подлый и несносный обычай!); всякий волен располагать собой по своему усмотрению, и кто пожелает, тот углубляется в свои мысли; я нем, задумчив и замкнут, и это нисколько не обижает моих гостей.
Люди, общества и дружбы которых я постоянно ищу, – это так называемые порядочные и неглупые люди; их душевный склад настолько мне по душе, что отвращает от всех остальных. Среди всего многообразия характеров такой, в сущности говоря, наиболее редок; это – характер, созданный в основном, природой. Для подобных людей цель общения – быть между собой на короткой ноге, посещать друг друга и делиться друг с другом своими мыслями; это – соприкосновение душ, не преследующее никаких выгод. В наших беседах любые темы для меня равно хороши; мне безразлично, насколько они глубоки и важны; ведь в них всегда есть изящество и приятность; на всем заметна печать зрелых и твердых суждений, все дышит добросердечием, искренностью, живостью и дружелюбием. Не только в разговорах о новых законах наш дух раскрывает свою силу и красоту и не только тогда, когда речь идет о делах государей; он раскрывает те же самые качества и в непринужденных беседах на частные темы.
Я узнаю отвечающих моему вкусу людей даже по их молчанию и улыбке и успешнее нахожу их за пиршественным столом, чем в зале совета. Гиппомах утверждал, что, встречая на улице хороших борцов, он узнавал их по одной походке [84]. Если ученость изъявляет желание принять участие в наших дружеских разговорах, мы отнюдь не отвергаем ее – разумеется, при условии, что она не станет высокомерно и докучливо поучать, как это обычно бывает, а проявит стремление что-то познать и чему-то научиться. Нам нужно хорошо провести время – большего мы не ищем; когда же настанет наш час выслушать ее поучения и наставления, мы благоговейно припадем к ее трону. А пока пусть она снизойдет до нашего уровня, если захочет, ибо сколь бы полезной и желательной она ни была, я заранее убежден, что мы сможем при случае отлично обойтись без нее и сделаем свое дело, не прибегая к ее услугам. Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука – не что иное, как протокол и опись творений, созданных подобными душами.
Сладостно мне общаться также с красивыми благонравными женщинами. Nam nos quoque oculos eruditos habemus [85]. Если душа в этом случае наслаждается много меньше, чем в предыдущем, удовольствия наших органов чувств, которые при втором виде общения гораздо острее, делают его почти таким же приятным, как и первый, хотя, по-моему, все же не уравнивают с ним. Но это общение таково, что тут всегда нужно быть несколько настороже, и особенно людям вроде меня, над которыми плоть имеет большую власть. В ранней юности я пылал от этого, как в огне, и мне хорошо знакомы приступы неистовой страсти, которые, как рассказывают поэты, нападают порою на тех, кто не желает налагать на себя узду и не слушается велений рассудка. Правда, эти удары бича послужили мне впоследствии хорошим уроком,
Quicunque Argolica de classe Capharea fugit,
Semper ab Euboicis vela retorquet aquis. [86]
Безрассудно отдавать этому все свои помыслы и вкладывать в отношения с женщинами безудержное и безграничное чувство. Но с другой стороны, домогаться их без влюбленности и влечения сердца, уподобляясь актерам на сцене, исключительно для того, чтобы играть модную в наше время и закрепленную обычаем роль, и не вносить в нее ничего своего, кроме слов, означает предусмотрительно оберегать свою безопасность, делая это, однако, крайне трусливо, как тот, кто готов отказаться от своей чести, своей выгоды или своего удовольствия из страха перед опасностью; ведь давно установлено, что подобное поведение не может дать человеку ничего, что бы тронуло или усладило благородную душу. Нужно по-настоящему жаждать тех удовольствий, которыми хочешь по-настоящему наслаждаться: я имею в виду тот случай, когда судьба, вопреки справедливости, благоприятствует мужскому лицемерию, а это бывает достаточно часто, ибо нет такой женщины, сколь бы нескладной она ни была, которая не мнила бы себя достойной любви и не обладала бы обаянием юности, или улыбки, или телодвижений, ибо совершенных дурнушек между ними не больше, чем безупречных красавиц, и дочери брахманов, если они начисто лишены привлекательности, выходят на площадь к народу, собранному для этого криками городского глашатая, и выставляют напоказ свои детородные части, дабы попытаться хотя бы таким путем добыть себе мужа.
По этой причине нет такой женщины, которая не поверила бы с легкостью первой же клятве своего поклонника.
За этим общераспространенным и привычным для нашего века мужским вероломством не может не следовать то, что уже ощущается нами на опыте, а именно, что женщины теснее сплачиваются между собой и замыкаются в себе или в своем кругу, дабы избегать общения с нами, или, подражая примеру, который мы им подаем, в свою очередь лицедействуют и идут на такую сделку без страсти, без колебаний и без любви – neque affectui suo aut alieno obnoxiae [87], – считая, согласно утверждению Лисия у Платона [88], что они могут отдаваться нам с тем большей легкостью и выгодой для себя, чем меньше мы в них влюблены.
И все тут пойдет, как в комедии, причем зрители будут испытывать столько же удовольствия, – а то и немного побольше, – сколько сами актеры.
Что до меня, то на мой взгляд Венера без Купидона [89] так же невозможна, как материнство без деторождения, – это вещи взаимоопределяющие и дополняющие друг друга. Таким образом, этот обман бьет в конечном итоге того, кто прибегает к нему. Правда, он ему ничего не стоит, но и не дает ничего стоящего. Те, кто сотворил из Венеры богиню, немало пеклись о том, чтобы главное и основное в ее красоте было бестелесное и духовное; но любовь, за которой гоняются люди, не только не может быть названа человеческой, ее нельзя назвать даже скотскою. Животных, и тех не влечет такая низменная и земная любовь! Мы видим, что воображение и желание зачастую распаляют и захватывают их прежде, чем разгорячится их тело; мы видим, как особи обоих полов отыскивают и выбирают в сумятице стада предметы своей привязанности и что знаются между собою те, кто проявлял друг к другу длительную склонность. Даже те из них, у кого старость отняла их былую телесную силу, и они также все еще продолжают дрожать, ржать и трепетать от любви. Мы видим, что перед совокуплением они полны упований и пыла, а когда их плоть сделает свое дело, они горячат себя сладостными воспоминаниями; и мы видим, что иных с той поры распирает гордость, а другие – усталые и насытившиеся – распевают песни победы и ликования. Кому требуется освободить свое тело от бремени естественной надобности и ничего больше не нужно, тому незачем угощать другого столь изысканными приправами: это не пища для утоления лютого и не знающего удержу голода.
Нисколько не заботясь о том, чтобы обо мне думали лучше, чем каков я в действительности, я расскажу нижеследующее о заблуждениях моей юности. Не только по причине существующей здесь опасности для здоровья (все же я не сумел уберечь себя от двух легких и, так сказать, предварительных приступов), но и вследствие своего рода брезгливости я никогда не имел охоты сближаться с доступными и продажными женщинами. Я стремился усилить остроту этого наслаждения, а ее придают ему трудности, неугасающее желание и немножко удовлетворенного мужского тщеславия; и мне нравилось вести себя подобно императору Тиберию [90], которого в его любовных делах в такой же мере воспламеняли скромность и знатность, как и все остальное, привлекающее нас в женщинах, и я одобрял разборчивость куртизанки Флоры [91], отдававшейся лишь тем, кто был никак не ниже, чем в ранге диктатора, консула или цензора, и черпавшей для себя усладу в высоком звании своих возлюбленных. Здесь, разумеется, кое-что значат и жемчуга, и парча, и титулы, и весь образ жизни. Впрочем, я отнюдь не пренебрегал духовными качествами, однако ж при том условии, чтобы и тело было, каким ему следует быть, ибо, по совести говоря, если бы оказалось, что надо обязательно выбирать между духовной и телесной красотой, я предпочел бы скорее пренебречь красотою духовной: она нужна для других, лучших вещей; но если дело идет о любви, той самой любви, которая теснее всего связана со зрением и осязанием, то можно достигнуть кое-чего и без духовных прелестей, но ничего – без телесных.
Красота – и впрямь могучая сила женщин. Она в такой же мере присуща им, как и нам; и хотя наша красота требует несколько иных черт, все же в пору своего цветения она мало чем отличается от их красоты: такая же отроческая – нежная и безбородая.
Говорят, что наложницы турецкого султана, услужающие ему своей красотой, – а их у него несметное множество – получают отставку самое большее в двадцать два года [92].
Разум, мудрость и дружеские привязанности чаще встречаются среди мужчин; вот почему последние и вершат делами нашего мира.
Эти оба вида общения зависят от случая и от воли других. Общение первого вида до того редко, что не может спасти от скуки; что же касается общения с женщинами, то оно с годами сходит на нет; таким образом, ни то, ни другое не смогло полностью удовлетворить потребности моей жизни. Общение с книгами – третье по счету – гораздо устойчивее и вполне в нашей власти. Оно уступает двум первым видам общения в ряде других преимуществ, но за него говорит его постоянство и легкость, с которой можно его поддерживать.
Книги сопровождают меня на протяжении всего моего жизненного пути, и я общаюсь с ними всегда и везде. Они утешают меня в мои старые годы и в моем уединенном существовании. Они снимают с меня бремя докучной праздности и в любой час дают мне возможность избавляться от неприятного общества. Они смягчают приступы физической боли, если она не достигает крайних пределов и не подчиняет себе все остальное.
Чтобы стряхнуть с себя назойливые и несносные мысли, мне достаточно взяться за чтение; оно легко завладевает моим вниманием и прогоняет их прочь. К тому же книги неизменно повинуются мне и не возмущаются тем, что я прибегаю к ним лишь тогда, когда не могу найти других развлечений – более существенных, живых и естественных; они всегда встречают меня с той же приветливостью.
Принято говорить, что кто ведет под уздцы свою лошадь, тому идти пешком – одно удовольствие, и наш Иаков, король Неаполя и Сицилии, – красивый, молодой и здоровый, – заставлявший носить себя по стране на носилках, в которых он лежал на жалкой перине, облаченный в серый суконный плащ и такую же шляпу, тогда как за ним следовала пышная королевская свита, состоявшая из дворян и придворных, конными носилками и верховыми лошадьми всевозможных пород, являл собою пример половинчатого и еще неустойчивого самоуничижения [93]: незачем жалеть хворого, если у него под рукой целительное лекарство. Проверка на опыте справедливости этого поразительно мудрого изречения – вот, в сущности, и вся польза, извлекаемая мною из книг. Я и впрямь обращаюсь к ним почти так же часто, как те, кто их вовсе не знает. Я наслаждаюсь книгами, как скупцы своими сокровищами, уверенный, что смогу насладиться ими, когда пожелаю; моя душа насыщается и довольствуется таким правом на обладание. Я никогда не пускаюсь в путь, не захватив с собой книг, – ни в мирное время, ни на войне. И все же бывает, что я не заглядываю в них по нескольку дней, а то и месяцев. «Вот, возьмусь сейчас, – говорю я себе, – или завтра, или когда я того пожелаю». Между тем, время бежит и несется, и я не замечаю его. Ибо нет слов, чтобы высказать, насколько я отдыхаю и успокаиваюсь при мысли о том, что книги всегда рядом со мной, чтобы доставить мне удовольствие, когда наступит мой час, и ясно сознавая, насколько они помогают мне жить. Они – наилучшее снаряжение, каким только я мог бы обзавестись для моего земного похода, и я крайне жалею людей, наделенных способностью мыслить и не запасшихся им. И развлечениям любого другого рода, сколь бы незначительны они ни были, я предаюсь с тем большей охотой, что мои книги никуда от меня не уйдут.
Когда я дома, я немного чаще обращаюсь к моей библиотеке, в которой, к тому же, я отдаю распоряжения по хозяйству. Здесь я у самого въезда в мой замок и вижу внизу под собой сад, птичник, двор и большую часть моего дома. Тут я листаю когда одну книгу, когда другую, без всякой последовательности и определенных намерений, вразброд, как придется; то я предаюсь размышлениям, то заношу на бумагу или диктую, прохаживаясь взад и вперед, мои фантазии вроде этих.
Моя библиотека на третьем этаже башни. В первом – часовня, во втором – комната с примыкающей к ней каморкой, в которую я часто уединяюсь прилечь среди дня. Наверху – просторная гардеробная. Помещение, в котором я держу книги, было в прошлом самым бесполезным во всем моем доме. Теперь я провожу в нем большую часть дней в году и большую часть часов на протяжении дня. Ночью, однако, я тут никогда не бываю. Рядом с библиотекой есть довольно приличный и удобно устроенный нужник, который в зимнее время можно отапливать. И если бы я не страшился хлопот еще больше, чем трат, я мог бы легко добавить с обеих сторон на одном уровне с библиотекой по галерее длиной в сто и шириной в двенадцать шагов, ибо стены для них, возведенные до меня в других целях, поднимаются до потребной мне высоты. Всякому пребывающему в уединении нужно располагать местом, где бы он мог прохаживаться.
Если я даю моим мыслям роздых, они сразу же погружаются в сон. Мой ум цепенеет, если мои ноги его не взбадривают. Кто познает не только по книгам, те всегда таковы. Моя библиотека размещена в круглой комнате, и свободного пространства в ней ровно столько, сколько требуется для стола и кресла; у ее изогнутых дугой стен расставлены пятиярусные книжные полки, и куда бы я ни взглянул, отовсюду смотрят на меня мои книги. В ней три окна, из которых открываются прекрасные и далекие виды, и она имеет шестнадцать шагов в диаметре. Зимой я посещаю ее менее регулярно, ибо мой дом, как подсказывает его название, стоит на юру [94], и в нем не найти другой комнаты, столь же открытой ветрам, как эта; но мне нравится в ней и то, что она не очень удобна и находится на отлете, так как первое некоторым образом закаляет меня, а второе дает мне возможность ускользать от домашней сутолоки и суеты.
Это – мое пристанище. Я стремлюсь обеспечить за собой безраздельное владение им и оградить его от каких бы то ни было посягательств со стороны тех, кто может притязать на него в силу супружеских, семейных или общественных отношений. Повсюду, кроме как в нем, власть моя в сущности номинальна и стоит немногого. Жалок, по-моему, тот, кто не имеет у себя дома местечка, где бы он был и впрямь у себя, где мог бы отдаться личным заботам о себе или укрыться от чужих взглядов! За тщеславие нужно расплачиваться немалыми жертвами, ибо тех, кто одержим этой страстью, она заставляет быть всегда на виду, точно они – статуя на рыночной площади: Magna servitus est magna fortuna [95]. Даже уединение не приносит им одиночества. В том суровом образе жизни, которому предаются наши монахи, нет, на мой взгляд, ничего более тягостного, чем порядок, ставший, как видно, правилом в некоторых орденах, – я имею в виду постоянное сожительство всех в одном месте и присутствие многих при любом действии каждого из них. И я нахожу более предпочтительным пребывать всегда в одиночестве, чем не иметь возможности иногда остаться наедине с собою самим.
Кто заявляет, что видеть в музах только игрушку и прибегать к ним ради забавы означает унижать их достоинство, тот, в отличие от меня, очевидно, не знает действительной ценности удовольствия, игры и забавы. Я едва не сказал, что преследовать какие-либо другие цели при обращении к музам смешно. Я живу со дня на день и, говоря по совести, живу лишь для себя; мои намерения дальше этого не идут. В юности я учился, чтобы похваляться своей ученостью; затем – короткое время – чтобы набраться благоразумия; теперь – чтобы тешить себя хоть чем-нибудь; и никогда – ради прямой корысти. Пустое и разорительное влечение к домашней утвари этого рода – я говорю о книгах, – направленное не только на удовлетворение потребности в знаниях, но на три четверти и на то, чтобы принарядиться и приукраситься в глазах окружающих – такое влечение я уже давно поборол.
Книги (для умеющих их выбирать) обладают многими приятными качествами; но не бывает добра без худа; этому удовольствию столь же не свойственны чистота и беспримесность, как и всем остальным; у книг есть свои недостатки, и притом очень существенные; читая, мы упражняем душу, но тело, которое я также не должен оставлять своими заботами, пребывает в это время в бездействии, расслабляется и поникает. Я не знаю излишеств, которые были бы для меня губительнее и которых на склоне лет мне следует избегать с большей старательностью.
Вот три моих излюбленных и предпочитаемых всему остальному занятия. Я не упоминаю о тех, которыми я служу обществу во исполнение моего гражданского долга.
Глава IV. Об отвлечении
Однажды мне пришлось утешать одну и впрямь огорченную даму – ведь в большинстве случаев их горести искусственны и наигранны
Uberibus semper lacrimis, semperque paratis
In statione sua, atque expectantibus illam,
Quo iubeat manare modo. [96]
Кто противодействует этой страсти, тот поступает весьма неразумно, ибо противодействие лишь раздражает их и усиливает их печаль; заводя спор, только обостряешь их горе. Мы замечаем на примере наших повседневных разговоров, что вздумай кто-нибудь возражать сказанному мной походя, тому, чему я сам не придавал никакого значения, я тотчас же становлюсь на дыбы и принимаюсь пылко отстаивать каждое мое слово; и я делаю это еще более горячо, когда речь идет о вещах, которые для меня и в самом деле важны. И потом, действуя подобным образом, вы начинаете рубить с плеча, с грубой неловкостью, а между тем врач, впервые приступая к лечению своего пациента, должен делать это изящно, весело и с приятностью для больного; и никогда безобразный и хмурый врач не преуспевает в своем ремесле. Итак, напротив, сначала нужно помочь страждущим излить свои жалобы, ласково выслушать их и выразить им свое сочувствие и полное понимание. С помощью этой уловки вы завоюете их доверие и сможете пойти дальше и, легко и неприметно отклоняясь в сторону, перейти затем к речам и более твердым и более пригодным для исцеления тех, кто удручен своим горем.
Если вернуться ко мне, то, стремясь преимущественно к тому, чтобы не ударить лицом в грязь перед присутствующими, которые смотрели на меня в оба, я задумал немного прикрыть скорбь упомянутой дамы тонким слоем румян и белил. Ведь я хорошо знаю на опыте, насколько тяжела и неуклюжа у меня рука и как я беспомощен в увещаниях. Или мои доводы бывают слишком замысловатыми и слишком сухими, или я обрушиваю их слишком внезапно, или делаю это слишком небрежно. Разобравшись по истечении какого-то времени в сути ее страданий, я не предпринял попытки избавить ее от них при помощи веских и убедительных доводов, то ли потому, что у меня их не было, то ли потому, что рассчитывал на больший успех, действуя по-иному; при этом я не остановил своего выбора ни на одном из тех способов, которые предписывает нам философия, когда требуется доставить кому-нибудь утешение; я не утверждал, как Клеанф [97], что горе, на которое она жалуется, совсем не несчастье, или, как перипатетики [98], что это не такая уж большая беда, или, как Хрисипп [99], что жаловаться на это и несправедливо и отнюдь не похвально; я не советовал, как Эпикур, – хотя его способ крайне близок моему, – перенестись мыслью с вещей тягостных на приятные; я не следовал также Цицерону, полагавшему, что все эти доводы нужно свалить в одну кучу и пользоваться ими по мере надобности; но, отклоняя мало-помалу нашу беседу от ее основной темы и переводя постепенно на предметы сначала близкие, а затем, по мере того как я овладевал вниманием моей собеседницы, и на более отдаленные, я незаметно отвлек в сторону грустные мысли моей дамы, и она взяла себя в руки и оставалась спокойной, пока я был возле нее. Те, кто после меня приняли на себя те же заботы, не смогли обнаружить в ее состоянии никаких улучшений, и причина этого в том, что топор не добрался до корней ее скорби.
Я уже касался, пожалуй, одного вида отвлечений в общественной жизни. Что до использования отвлечений в борьбе с врагами, применявшихся Периклом в Пелопоннесской войне [100], а многими другими в иное время и при иных обстоятельствах, то в истории различных народов это вещь слишком частая.
Поистине хитроумной была уловка, с помощью которой сьер д’ Эмберкур спас себя и других в Льеже, куда его послал державший льежцев в осаде герцог Бургундский, чтобы он принял город на уже заключенных условиях капитуляции [101]. А льежцы, собравшись ночью для обсуждения этих условий, принялись роптать, недовольные достигнутым соглашением, и многие задумали расправиться с парламентерами, находившимися в их власти. Сьер д’ Эмберкур, почуяв угрозу по первой волне людского потока, подступившей к дверям его дома и готовой обрушиться на него, тотчас же выслал к народу двух местных жителей (ибо при нем их было несколько), поручив им огласить в народном собрании новые и более мягкие предложения, придуманные им тут же на месте ввиду грозившей опасности. Эти двое остановили первый шквал бури и повели за собой возбужденную толпу в ратушу, где бы их могли выслушать и обсудить принесенные ими вести. Обсуждение было кратким, и вот разражается второй шквал, столь же бешеный, как первый, и сьер д’ Эмберкур опять шлет навстречу ему четырех новых столь же мнимых посредников, утверждавших, что на этот раз им поручено сообщить о более выгодных для льежцев условиях, которые им несомненно придутся по вкусу и которыми они будут довольны; благодаря этим посулам народ снова был завлечен на собрание. Короче говоря, теша горожан такими забавами, отвлекая их гнев и понуждая их расточать его в бесплодных спорах и обсуждениях, он, в конце концов, усыпил его и благополучно дождался наступления дня, что и было его главной задачей.
Нижеследующий вымысел повествует примерно о том же. Аталанта, дева выдающейся красоты и редких дарований, желая отделаться от множества поклонников, домогавшихся вступить с нею в брак, объявила, что возьмет в мужья только того, кто сравняется с нею в скорости бега, причем потерпевшие неудачу заплатят жизнью. Несмотря на рискованность столь жестокого договора, нашлось немало таких, которые сочли подобную цену соразмерной с обещанною наградой. Иппомен, которому предстояло испытать свои силы последним, обратился к богине – покровительнице любовной страсти – и воззвал к ее помощи, и она, вняв его просьбе, дала ему три золотых яблока и научила, как их использовать. Состязание началось, и Иппомен, почувствовав, что владычица его сердца, следующая за ним по пятам, вот-вот нагонит его, как бы нечаянно роняет одно из упомянутых яблок. Девушка, восхищенная красотой яблока, не может превозмочь искушение и задерживается, чтобы поднять его,
Obstupuit virgo nitidique cupidine pomi
Declinat cursus, aurumque volubile tollit. [102]
То же самое сделал он в нужный момент и во второй раз и в третий, пока не добился, при помощи этого обмана и отвлечения, преимущества в беге.
Когда врачи не могут справиться с воспалением, они отвлекают его и отводят в какую-нибудь другую, менее опасную область нашего тела. Я заметил, что этот прием чаще всего применяется и при болезнях души.
Abducendus etiam nonnumquam animus est ad alia studia, solicitudines, curas, negotia; loci denique mutatione, tanquam aegroti non convalescentes, saepe curandus est [103]. По ее недугам мало кто бьет сплеча; приступы их не поддерживают и не пресекают, их стараются отвести и сгладить.
Противоположный способ – слишком возвышенный и трудный. Только люди высшей породы способны постигать вещь во всей ее наготе, отчетливо видеть ее и исчерпывающе судить о ней. Лишь Сократу дано лицезреть смерть, не меняясь в лице, одному ему – приручить ее, шутить с нею. Он не ищет утешения вне самой смерти; она для него естественное и обычное явление; он останавливает свой взгляд прямо на ней и решается на нее, не озираясь по сторонам. Ученики Гегесия, вдохновляясь красивыми речами своего учителя, побуждали себя умирать голодною смертью, и они делали это так часто, что царь Птолемей запретил ему услаждать свою школу этими человекоубийственными речами [104], – так вот, эти ученики Гегесия жаждали смерти не самой по себе и нисколько не задумывались над ее сущностью; не на ней останавливали они свою мысль; они торопились, они стремились к иному, новому существованию. А бедняги, которых мы иногда видим на эшафоте! Эти полны пылкой набожности; они отдают ей, по мере возможности, все свои чувства; превратившись в слух, они жадно ловят обращенные к ним напутствия, и, воздев к небу глаза и руки, возвысив голос в громких молитвах, охваченные суровым и неослабным волнением, они, конечно, являют пример отменно похвальный и подобающий их горькой участи. Их следует хвалить за религиозное рвение, но отнюдь не за твердость духа. Они бегут от борьбы; они не хотят думать о смерти и во многом напоминают детей, которых всячески забавляют, чтобы тем временем вскрыть им нарыв. Я наблюдал осужденных на казнь и видел, как их взгляд, опускавшийся порою на расставленные рядом ужасные орудия смерти, тотчас же отвращался от них, и они в исступлении заставляли себя перенестись мыслью на любые другие предметы. Переправляющимся через грозную пропасть велят зажмуриваться или отводить от нее глаза.
Субрий Флав был осужден Нероном на смерть, и умертвить его должен был своей рукою Нигер – и тот и другой были римскими военачальниками. Когда Флава привели к месту казни, то, увидев безобразную яму с кривыми краями, вырытую для него по приказанию Нигера, он, повернувшись к присутствующим тут воинам, произнес: «Даже это сделано не по уставу», а – Нигеру, обратившемуся к нему с увещанием держать голову твердо, сказал: «Обо мне не заботься. Лишь бы ты поразил меня с такой же твердостью!» И он предугадал правильно, потому что у Нигера тряслись руки, и он отрубил Флаву голову лишь после нескольких повторных ударов [105]. Вот человек, который, как видно, и впрямь сосредоточенно думал о своей смерти и ни о чем больше.
Кто умирает в схватке, не выпуская из рук оружия, тот не присматривается заранее к смерти, не ощущает ее и не помышляет о ней: его увлекает боевой пыл. Один из моих знакомых, человек порядочный и правдивый, упав однажды во время поединка, зная, что его противник, пока он лежал на земле, нанес ему девять или десять ударов кинжалом, и слыша, как он сам впоследствии мне рассказывал, голоса окружающих, наперебой умолявших его позаботиться о своей душе, не придавал этим крикам никакого значения и думал только о том, как бы вскочить на ноги и отомстить за себя. И он убил своего противника в этом же поединке.
Большую услугу оказал Луцию Силану [106] тот, через кого ему была объявлена весть о его осуждении: услышав ответ Силана, что он готов умереть, но только не от преступной руки, этот глашатай императорской воли вместе со своими воинами устремился к Силану, чтобы схватить его, и так как тот упорно сопротивлялся, пустив в ход кулаки и ноги, убил его в этой борьбе; вызвав в нем внезапно вспыхнувший бурный гнев, он избавил его, таким образом, от тягостной мысли об уготовленной ему медленной и мучительной смерти.
В таких обстоятельствах мы всегда думаем о чем угодно, но не о ней: нас тешат и поддерживают надежды на иную, лучшую жизнь, или надежды, возлагаемые нами на наших детей, или предвкушение будущей славы нашего имени, или мысль о том, что мир, который мы покидаем, – не более как юдоль скорби, или мечты о возмездии, угрожающем тем, кто причиняет нам смерть,
Spero equidem mediis, si quid pia numina possunt,
Supplicia hausurum scopulis, et nomine Dido
Saepe vocaturum…
Audiam, et haec manes veniet mihi fama sub imos. [107]
Когда Ксенофонту сообщили о гибели в битве при Мантинее [108] его сына Грилла, он, с венком на голове, приносил жертвы богам. Ошеломленный этим известием, он швырнул венок наземь, но затем, слушая повествование о происшедшем и постигнув, что эта смерть была поистине героической, поднял его и снова надел на голову.
Даже Эпикур – и он также – утешал себя перед своей кончиною мыслями о вечности и полезности написанных им сочинений [109]. Omnes clari et nobilitati labores fiunt tolerabiles [110]. И Ксенофонт говорит, что точно такая же рана и такие же трудности и лишения тяготят полководца не в пример меньше, чем воина [111]. Узнав, что победа осталась за ним, Эпаминонд воспрянул духом и принял смерть с поразительной твердостью [112]. Haec sunt solatia, haec fomenta summorum dolorum [113]. И бесчисленные схожие с этими обстоятельства уводят, отвлекают и избавляют нас от размышлений о смерти как таковой.
Даже доводы философии лишь слегка прикасаются к ней, не добираясь до ее сущности и едва скользя по ее оболочке. Первейший мыслитель первейшей из всех философских школ, главенствующей над всеми другими, великий Зенон, понося смерть, сказал следующее: «Ни одно зло не заслуживает уважения; смерть заслуживает его; стало быть, она вовсе не зло»; а понося пьянство – следующее: «Никто не вздумает доверять свою тайну пьянице; всякий доверяет ее лишь разумному человеку; стало быть, разумный человек не может быть пьяницей» [114]. Бьют ли подобные доводы в цель? Мне приятно видеть, что эти образцовые души не могут отделаться от иных свойств, роднящих их с нами.
Сколь бы совершенными людьми они ни были, это, однако ж, всего-навсего люди и ничего больше.
Жажда мщения – страсть в высшей степени сладостная; ей свойственно некоторое величие, и она вполне естественна; я очень хорошо это вижу, хотя личного знакомства мы с нею и не свели. Чтобы отвлечь от нее одного юного государя, – это случилось совсем недавно, – я не стал распространяться о том, что ударившему вас по одной щеке следует смирения ради подставить другую; не стал я ему пересказывать и всевозможные трагические события, изображаемые поэтами, как следствия этой страсти. Обо всем этом я не обмолвился ни словечком и стремился только к тому, чтобы научить его чувствовать красоту совершенно иной картины, рисуя ему почет, любовь и благожелательность, которых он может достигнуть, проявляя снисходительность и доброту; и я отвратил его от тщеславия [115]. Вот как делаются такие дела.
Если вас охватывает чрезмерно пламенная влюбленность, вам советуют рассеять ее; и советуют вполне правильно, в чем я не раз и с пользою для себя убеждался на опыте; распределите ее между несколькими желаньями, одно из которых, если вы того захотите, может быть главным и основным, но из опасения, как бы оно не заслонило все остальные и безраздельно не властвовало над вами, ослабляйте и сдерживайте это желание, деля и отвлекая его все снова и снова:
Cum morosa vago singultiet inguine vena,
Coniicito humorem collectum in corpora quaeque. [116]
И подумайте об этом заранее, чтобы не оказаться в беде, если оно еще раз нахлынет на вас,
Si non prima novis conturbes vulnera plagis,
Volgivagaque vagus venere ante recentia cures. [117]
Однажды в дни молодости мне пришлось пережить сильное, чрезмерное для моей души огорчение, и оно было не только сильным, но – что важнее всего – и глубоко обоснованным; положись я тогда попросту на свои силы, я бы, пожалуй, не выдержал. Нуждаясь, чтобы рассеяться, в каком-нибудь способном захватить меня отвлечении, я заставил себя, призвав на помощь рассудок и волю, влюбиться, чему немало помог мой возраст. Любовь облегчила меня и развеяла скорбь, причиненную дружбой. И повсюду мы наблюдаем все то же: меня одолевает какое-нибудь неприятное представление; я нахожу, что заменить его новым много проще, чем его побороть; и если я не могу заместить его представлением противоположного свойства, я все же замещаю его каким-либо другим. Разнообразие всегда облегчает, раскрепощает и отвлекает.
Если я не могу одолеть засевшее во мне неприятное представление, я стараюсь улизнуть от него и, убегая, петляю из стороны в сторону, пускаюсь на всевозможные хитрости; переезжая с места на место, меняя занятия, общество, я спасаюсь в сумятице иных развлечений и мыслей, и так несносное представление теряет мой след, и я окончательно ухожу от него.
Корни этого – во вложенном в нас самою природой благодетельном непостоянстве, ибо время, приставленное к нам ею в качестве врача-исцелителя наших страстей, достигает успеха в их лечении главным образом тем, что, давая нашему воображению все новую и новую пищу, расчленяет и нарушает наше первоначальное восприятие, сколь бы острым оно в свое время ни было. Мудрец по прошествии двадцати пяти лет столь же явственно видит своего друга в момент его смерти, как и в течение первого года после его кончины; и, согласно объяснению Эпикура [118], он видит его не менее явственно именно потому, что нисколько не смягчал горестности этой утраты ни тогда, когда предвидел ее, ни по прошествии многих лет после нее. Но столько прочих раздумий наслоилось на это воспоминание, что оно потускнело и, в конце концов, отошло вдаль.
Стремясь отвести от себя сплетни и пересуды, Алкивиад отсек своей великолепной собаке уши и хвост [119] и в таком виде выпустил ее на городской рынок, с тем чтобы народ, получив отличную тему для болтовни, оставил в покое прочие его действия и поступки. И я также видел, как некоторые женщины, с той же целью – отвести от себя всевозможные домыслы и догадки и сбить с толку судачащих на их счет, прикрывали свои истинные любовные чувства чувствами поддельными и наигранными. Но я знал среди них и такую, которая в притворстве своем зашла так далеко, что искренне увлеклась вымышленною страстью и забыла о своей истинной и изначальной любви ради притворной; и пример этой дамы воочию убедил меня, что когда те, кому повезло в любовных делах, соглашаются на подобную маскировку, они ведут себя не лучше отъявленных простаков. Неужели вы думаете, что после того, как встречи и разговоры на людях становятся исключительным правом такого мнимого воздыхателя, он окажется настолько неловким, что не займет, в конце концов, вашего места и не оттеснит вас на свое? Это не что иное, как кроить и тачать башмаки, чтобы их обул кто-то другой.
Любая безделица отвлекает и уводит в сторону наши мысли, ибо задерживает их на себе тоже безделица. Мы никогда не видим предмета полностью и в отдельности; наше внимание останавливают на себе окружающая его обстановка или его несущественные, приметные с первого взгляда особенности и та тончайшая оболочка, в которую он заключен и которую сбрасывает с себя точно так же,
Folliculos ut nunc teretes aestate cicadae
Linquunt. [120]
Даже Плутарх, – и он, – оплакивая умершую дочь, распространяется о ее детских проказах [121]. Нас печалят воспоминания о прощании, о каком-нибудь поступке умершего, поразительной его примиренности перед кончиной, о последнем его поручении. Тога Цезаря взволновала весь Рим, чего не сделала его смерть [122]. То же самое можно сказать и о горестных восклицаниях, которыми прожужжали нам уши: «О мой бедный учитель!», или «О бесценный друг мой!», или «Увы! мой любимый отец!», или «Моя милая дочь!», и когда моего слуха касаются все эти извечные повторения и я приглядываюсь к ним ближе, я прихожу к выводу, что это – стенания, можно сказать, грамматические и чисто словесные. Меня задевает слово и тон, которым оно произносится. И все это – совсем как те выкрики, которыми проповедники часто пронимают свою паству гораздо сильнее, нежели увещаниями и доводами, или как жалобный вой и визг убиваемого нам в пищу животного; во всех этих случаях я не оцениваю по-настоящему и не постигаю истинной сущности предмета или явления:
His se stimulis dolor ipse lacessit [123].
Таковы основания наших горестей и печалей.
Упорство моих камней, особенно при их прохождении по детородному члену, не раз причиняло мне длительную задержку мочи на три, на четыре дня, и я бывал так близок к смерти, что надеяться улизнуть от нее или даже попросту желать этого было чистым безумием – настолько невыносимы боли, вызываемые этим недугом. До чего же великим докой в искусстве мучительства и истязаний был добрый тот император, который приказывал туго-натуго перевязывать детородный член осужденным на смерть, дабы они умирали от невозможности помочиться [124]. Пребывая в таком состоянии, я имел случай отметить, сколь легковесными доводами и какой чепухой пичкало меня мое воображение, побуждая сожалеть о расставании с жизнью; из каких мельчайших крупиц складывалось в моей душе представление о значительности и трудности этого переселения; сколькими вздорными мыслями занимаем мы наше внимание, готовясь к столь важному делу: собака, лошадь, книга, кубок – и чего, чего тут только не было! – включались мною в список моих потерь. Другие вносят в него свои честолюбивые чаянья, свой кошелек, свои знания, что, на мой взгляд, не менее глупо. Пока я рассматривал смерть отвлеченно, как конец жизни, я смотрел на нее довольно беспечно; в целом я не даю ей спуску, но в мелочах – она положительно подавляет меня. Слезы слуги, распределение остающихся после меня носильных вещей, прикосновение знакомой руки, всеобщие утешения расслабляют меня и приводят в отчаяние.
Вот почему волнуют нам душу и жалобы вымышленных героев, а стенания Дидоны и Ариадны трогают даже тех, кто, читая о них у Вергилия и Катулла, не верит тому, что они и вправду существовали на свете. Если мы вспомним даже о Полемоне, о котором рассказывают как о своего рода чуде и которого называют в качестве примера полнейшей бесчувственности и душевной неуязвимости, то не побледнел ли также и Полемон, когда его всего-навсего укусила злая собака, вырвавшая у него на ноге кусок мяса [125]. И никакая мудрость не простирается так далеко, чтобы постигнуть рассудком причину столь живой и глубокой скорби, возрастающей в еще большей мере при непосредственном наблюдении того или иного горестного события: ведь наблюдают наши глаза и уши – органы, способные отзываться лишь на внешнее и, стало быть, наименее существенное в явлении.
Справедливо ли, что даже искусства используют вложенные в нас самою природою легковерие и слабоумие и извлекают из них свои выгоды? Оратор, как утверждает риторика, лицедействуя в фарсе, именуемом его судебною речью, будет тронут звучанием своего голоса и своим притворным волнением и, в конце концов, даст обмануть себя страсти, которую старается изобразить. Он проникнется подлинной и нешуточною печалью, порожденною в нем фиглярством, нужным ему, чтобы заразить ею и судей, которым до нее еще меньше дела, чем ему самому. Подобное творится и с теми, кого нанимают для участия в похоронах с целью усугубить горестность этой торжественной церемонии и кто продает свои слезы и скорбь мерой и весом; ведь несмотря на то, что в выражении своего горя эти люди ограничиваются простым подражанием установленным образцам, все же, как достоверно известно, приноравливаясь и понуждая себя к определенному поведению, они нередко с таким усердием предаются этому занятию, что впадают в неподдельную скорбь.
Мне пришлось в числе нескольких друзей господина де Граммона [126], убитого при осаде Ла-Фер, сопровождать его тело из лагеря осаждающих в Суассон. Во время этой поездки я заметил, что, где бы ни проходила наша процессия, народ повсюду встречал ее с причитаниями и плачем и что их вызывало лишь впечатление, производимое нашим печальным шествием, ибо в толпе не знали покойного даже по имени.
Квинтилиан говорит, что ему доводилось видеть актеров, настолько сживавшихся со своей ролью людей, охваченных безысходною скорбью, что они продолжали рыдать и возвратившись к себе домой; и о себе самом он рассказывает, что, задавшись целью заразить кого-нибудь сильным чувством, он не только заливался слезами, но и лицо его покрывала бледность, и весь его облик становился обликом человека, отягощенного настоящим страданием [127].
В одной местности у подножия наших гор деревенские женщины уподобляются тем священникам, которые одновременно исполняют свои обязанности и сами себе отвечают за певчего, ибо, бередя в себе тоску об умершем муже перечислением всех его добрых и приятных им качеств, они, вместе с тем, вспоминают и оглашают во всеуслышание и его пороки и недостатки, делая это как бы ради того, чтобы уравновесить вторыми первые и отвлечь себя от скорби к презрению; и они поступают не в пример лучше нас, когда мы стараемся изо всех сил в случае смерти едва известного нам человека воздать ему впервые пришедшие нам на ум и притом фальшивые похвалы: не видя его больше среди живых, мы превращаем его в совершенно иное существо по сравнению с тем, каким он нам представлялся, когда мы его видели среди нас, как если бы сожаление открыло нам в нем нечто такое, чего мы прежде не знали, и слезы, омыв наш рассудок, просветили его. Я наперед отказываюсь от любых похвал, которыми пожелают осыпать меня не потому, что я их заслужил, но потому, что я буду мертв.
Если спросить кого-либо из осаждающих крепость: «Что вам в этой осаде?» – он, конечно, ответит: «Решительно ничего, но я должен подавать пример остальным и повиноваться, как все, моему государю. Я не ищу никакой личной выгоды; что же до славы, то я очень хорошо понимаю, сколь ничтожная крупица ее может выпасть на долю столь ничтожной особы, как я; и я не ощущаю в себе ни страсти, ни озлобления». Но взгляните на него следующим утром, и вы обнаружите, что перед вами совсем другой человек, что он весь кипит, бурлит и багровеет от гнева, стоя в своем ряду и готовый идти на приступ; это блеск повсюду сверкающей стали, и огонь, и грохот наших пушек и барабанов вселили в него такую непримиримость и ненависть. «Нелепейшая причина!» – скажете вы на это. Какая уж там причина! Чтобы возбудить нашу душу, и не требуется никаких причин: бесплотные и беспредметные образы безраздельно владеют ею и возбуждают ее. Едва я принимаюсь строить воздушные замки, как мое воображение преподносит мне радости и удовольствия, которые по-настоящему задевают и веселят мою душу. До чего же часто заволакивается наш ум гневом или печалью, которые насылает на нас какая-нибудь тень, и мы предаемся выдуманным страстям, действительно будоражащим нам и душу и тело! Какие только гримасы – удивления, смеха, смущения – не вызывают грезы на наших лицах! Какие судорожные движения в наших членах и какое волнение в голосе! Не кажется ли вам, что этот пребывающий в одиночестве человек видит перед собою призрачную толпу людей и ведет с ними какие-то разговоры, или что он одержим внутренним демоном, не оставляющим его ни на мгновенье в покое? Задайте себе вопрос, где же, собственно, то, что вызвало в нем эти изменения, и есть ли в природе еще что-нибудь, кроме нас, что питалось бы пустотой и над чем она была бы всесильна?
Камбиз велел умертвить своего брата лишь потому, что ему приснилось, будто тот должен стать персидским царем, – а это был брат, которого он любил и которому всегда доверял! [128] Аристодем, царь мессенцев, наложил на себя руки из-за сущего вздора, который он считал роковым предзнаменованием, – он совершил это лишь из-за того, что по какой-то невыясненной причине выли его псы. А царь Мидас сделал то же, встревоженный и испуганный неким тягостным сном, который ему привиделся [129]. Лишить себя жизни из-за сновидения – значит и вправду ценить ее ровно во столько, сколько она стоит в действительности!
А теперь выслушайте, пожалуй, как издевается наша душа над беспомощностью тела, над его немощностью, над тем, что оно подвержено всевозможным напастям и изменениям: она и впрямь имеет основание говорить обо всем этом!
О prima infelix fingenti terra Prometheo!
Ille parum cauti pectoris egit opus.
Corpora disponens, mentem non vidit in arte;
Recta animi primum debuit esse via. [130]
Глава V. О стихах Вергилия
Чем отчетливее и обоснованней душеполезные размышления, тем они докучнее и обременительней. Порок, смерть, нищета, болезни – темы серьезные и нагоняющие уныние. Нужно приучить душу не поддаваться несчастьям и брать верх над ними, преподать ей правила добропорядочной жизни и добропорядочной веры, нужно как можно чаще тормошить ее и натаскивать в этой прекрасной науке; но душе заурядной необходимо, чтобы все это делалось с роздыхом и умеренностью, ибо от непрерывного и непосильного напряжения она теряется и шалеет.
В молодости, чтобы не распускаться, я нуждался в предостережениях и увещаниях; жизнерадостность и здоровье, как говорят, не слишком охочи до этих мудрых и глубокомысленных рассуждений. В настоящее время я, однако, совсем не таков. Старость со всеми своими неизбежными следствиями только и делает, что на каждом шагу предостерегает, умудряет и вразумляет меня. Из одной крайности я впал в другую: вместо избытка веселости во мне теперь избыток суровости, а это гораздо прискорбнее. Вот почему я теперь намеренно позволяю себе малую толику чувственных удовольствий и занимаю порой душу шаловливыми и юными мыслями, на которых она отдыхает. Ныне я чересчур рассудителен, чересчур тяжел на подъем, чересчур зрел. Мои годы всякий день учат меня холодности и воздержности. Мое тело избегает чувственных утех и боится их. Пришла его очередь побуждать разум исправиться. И тело, в свою очередь, одергивает его, и притом так грубо и властно, как он никогда не одергивал тело. Оно ни на час не оставляет меня в покое – ни во сне, ни наяву, – непрерывно напоминая о смерти и призывая к терпению и покаянию. И я обороняюсь от воздержности, как когда-то от любострастия. Она тянет меня назад, и притом так далеко, что доводит до отупения. Но я хочу быть сам себе господином, в полном и неограниченном смысле слова. Благоразумию также свойственны крайности, и оно не меньше нуждается в мере, чем легкомыслие. И вот, опасаясь, как бы вконец не засохнуть, не иссякнуть и не закоснеть от рассудительности и благонравия, в перерывы между приступами болей,
Mens intenta suis ne siet usque
я чуть-чуть отворачиваюсь и отвожу взгляд от грозового и покрытого тучами неба, которое я вижу перед собой и на которое смотрю, благодарение богу, без страха, хоть и не без самоуглубленной задумчивости, и забавляю себя воспоминаниями о минувших днях моей молодости,
animus quod perdidit optat;
Atque in praeterita se totus imagine versat. [132]
Пусть детство смотрит вперед, старость – назад: не это ли обозначали два лица Януса? Пусть годы тащат меня за собой, если им этого хочется, но отступать я наметил не иначе, как пятясь. И пока мои глаза в состоянии различать картины этой чудесной, безвозвратно ушедшей поры, я то и дело устремляю их в ее сторону. И если молодость покинула мою кровь и мои жилы, все же, на худой конец, я не хочу вытравлять ее образ из моей памяти,
hoc est
Vivere bis, vita posse priore frui. [133]
Платон велит старикам присутствовать при телесных упражнениях, плясках и играх юношества, с тем чтобы они могли радоваться гибкости и красоте тела других, утраченных ими самими, и оживлять в памяти благодать и прелесть этого цветущего возраста; хочет он также, чтобы честь победы в этих забавах они присуждали тому из юношей, который больше всего возвеселит и обрадует их сердца и наберет среди них большинство голосов [134].
Некогда я отмечал дни мрачности и уныния как необычные, теперь они у меня, пожалуй, вошли в обычай, а необычны хорошие и безоблачные. И если ничто не печалит меня, я готов ликовать всей душой, видя в этом вновь ниспосланную мне милость. Сколько бы ни щекотал я себя, мне не извлечь из этого жалкого тела даже подобия смеха. Я тешу себя лишь в выдумках и мечтах, чтобы с помощью этой уловки увильнуть от горестей старости. Но, разумеется, тут требуются другие лекарства, а не призрачные мечты: ведь они – бессильное ухищрение в борьбе с самою природой.
Большое недомыслие – продлевать и упреждать человеческие невзгоды, как поступает каждый; уж лучше я буду менее продолжительное время стариком, чем стану им до того, как меня в действительности постигнет старость [135]. Я хватаюсь за всякие, самые ничтожные возможности удовольствия, какие только мне представляются. Понаслышке я очень хорошо знаю, что существуют различные наслаждения – разумные, захватывающие и приносящие славу; но общераспространенные взгляды не имеют надо мной такой силы, чтобы я возжаждал вкусить наслаждения этого рода. Я ищу в них не столько величия, возвышенности и пышности, сколько приятности, доступности и бесхитростности. А natura discedimus; populo nos damus, nullius rei bono auctori [136].
Моя философия в действии, в естественном и безотлагательном пользовании благами жизни и гораздо меньше – в фантазии. Я и сейчас с увлечением играл бы орешками и волчком!
Non ponebat enim rumores ante salutem. [137]
Наслаждению не знакомо тщеславие; оно ценит себя слишком высоко, чтобы считаться с молвой, и охотнее всего пребывает в тени. Розог бы тому юноше, который вздумал бы искать наслаждение во вкусе вина или подливок. Нет ничего, что в дни моей юности было бы мне столь же мало известно и чему я придавал бы столь же малую цену. А теперь я постигаю эту науку. Мне очень стыдно от этого, но ничего не поделаешь. Еще постыднее и досаднее обстоятельства, толкающие меня на подобные вещи. Это нам пристало грезить и лоботрясничать, а молодежи подобает думать о своей доброй славе и о том, чтобы завоевать себе положение; она идет в мир, к тому, чтобы вершить делами его, тогда как мы уходим от всего этого. Sibi arma, sibi equos, sibi hastas, sibi clavam, sibi pilam, sibi natationes et cursus habeant; nobis senibus, ex lusionibus multis, talos relinquant et tesseras [138]. Законы – и те отсылают нас по домам. И принимая в расчет жалкое состояние, в которое ввергают меня мои годы, мне только и остается, что доставлять им игрушки и всяческие забавы, как в детстве; ведь в него-то мы и впадаем. И благоразумие и легкомыслие – и то и другое извлекут для себя немалую выгоду, попеременно подпирая и поддерживая меня в этом бедственном возрасте своими услугами:
Misce stultitiam consiliis brevem. [139]
Я избегаю даже наилегчайших уколов, и те, что когда-то не оставили бы на мне и царапины, теперь пронзают меня насквозь; и я привыкаю безропотно сживаться с несчастьями. In fragili corpore odiosa omnis offensio est [140].
Mensque pati durum sustinet aegra nihil. [141]
Я всегда был необычайно восприимчив и очень чувствителен к напастям любого рода; теперь я стал еще менее стоек, и я уязвим отовсюду,
Et minimae vires frangere quassa valent. [142]
Мой разум не дозволяет мне огрызаться и рычать на неприятности, насылаемые на нас самою природой, но чувствовать их – воспрепятствовать этому он не может. Я бы обегал весь свет – с одного конца до другого, – чтобы найти для себя хоть один сладостный год приятного и заполненного радостями покоя, ибо нет у меня иной цели, как жить и радоваться. Унылого и тупого покоя вокруг меня сверхдостаточно, но он усыпляет и одурманивает меня и довольствоваться им не по мне. Найдись какой-нибудь человек или какое-нибудь приятное общество в деревенской глуши, в городе, во Франции или в иных краях, живущие оседло или кочующие с места на место, которые мне бы пришлись по вкусу и которым я сам был бы по нраву, – им стоило бы лишь свистнуть, и я полетел бы к ним, и перед ними предстали бы эти самые «Опыты» во плоти и крови.
Так как нашему духу дарована привилегия обретать на старости лет новую силу, я всячески поощряю его к этому возрождению; пусть он зеленеет, пусть цветет, если может, в эти последние дни – омела на стволе мертвого дерева. Опасаюсь, однако, что он ненадежен и способен предать; он до того побратался с телом, что не колеблясь покинет меня, дабы устремиться за ним, едва оно попадет в какую-нибудь беду. Я всячески подольщаюсь к моему духу, но мои старания тщетны. Я напрасно пытаюсь отвратить его от этого сообщества и содружества, напрасно занимаю его Сенекой и Катуллом, дамами и придворными танцами; если у его сотоварища рези, то ему кажется, что они также и у него. И он тогда не справляется даже с той деятельностью, которая для него – дело привычное, и более того, свойственна лишь ему одному. В таких случаях от него веет ледяным холодом. В его творениях не остается и следа жизнерадостности, если она покинула тело.
Наши учителя допускают ошибку, когда, исследуя причины поразительных взлетов нашего духа и приписывая их божественному наитию, любви, военным невзгодам, поэзии или вину, забывают о телесном здоровье и не воздают ему должного, – здоровье пышущем, неодолимом, безупречном, беззаботном, таком, каким некогда наделяли меня по временам мои весенние дни и ничем не нарушаемая беспечность. Этот огонь веселья воспламеняет дух, и он вспыхивает порой с ослепительной яркостью, намного превосходящей обычную меру его возможностей и порождающей в нем безудержный, если не безграничный восторг. Вот и выходит, что нет ни малейшего чуда, если противоположное состояние, угнетая мой дух, заставляет его поникнуть, сковывает, словом оказывает на него противоположное действие.
Ad nullum consurgit opus, cum corpore languet. [143]
А между тем он требует от меня, чтобы я был ему благодарен за то, что он якобы уделяет гораздо меньше внимания своему сотоварищу – телу, чем это принято у людей. Но пока между нами установлено перемирие, давайте устраним из нашего общения всяческие раздоры и несогласия:
Dum licet, obducta solvatur fronte senectus [144]:
tetrica sunt amoenanda iocularibus. [145]
Я люблю мудрость веселую и любезную и бегу от грубости и суровости нравов; всякая отталкивающая черта в лице вызывает во мне подозрение:
Tristemque vultus tetrici arrogantiam [146].
Et habet tristis quoque turba cynaedos. [147]
И я всем сердцем верю Платону, который считает, что простота или надменность в обхождении – вернейший признак душевной простоты или злобности [148].
У Сократа было всегда одно и то же лицо – как бы застывшее, но ясное и улыбающееся, а не такое, как у старшего Красса, которого никто не видел с улыбкой на устах [149].
Добродетель – вещь приятная и веселая.
Я очень хорошо знаю, что среди тех, кого возмутят иные непристойности в этих моих писаниях, найдутся лишь очень немногие, которым не подобало бы возмущаться непристойностью своих мыслей.
Я потрафляю их вкусу, но оскорбляю их зрение.
Принято придираться к Платону за то или иное в его сочинениях и умалчивать о приписываемых ему предосудительных отношениях с Федоном, Дионом, Стеллой и Археанассой [150]. Non pudeat dicere quod non pudet sentire [151].
Я ненавижу умы, всегда и всем недовольные и угрюмые, – они проходят мимо радостей жизни и цепляются лишь за несчастья, питаясь ими одними; они похожи на мух, которые не могут держаться на гладких и скользких телах и садятся отдыхать в местах шероховатых и испещренных неровностями, и еще похожи они на кровососные банки, отсасывающие и вбирающие в себя только дурную кровь.
Впрочем, я поставил себе за правило безбоязненно говорить обо всем, чего не боюсь делать; и не подлежащие оглашению мысли мне глубоко неприятны. Наихудший из моих поступков и наихудшее из моих качеств кажутся мне не столь мерзкими, как мерзко, по-моему, и трусливо не сметь в них признаться. Всякий скромен в признаниях; так пусть же он будет скромен в поступках; готовность впасть в прегрешения некоторым образом сдерживается и возмещается готовностью к признанию в них. Кто обяжет себя говорить все без утайки, тот обяжет себя и не делать того, о чем необходимо молчать. Да будет господу богу угодно, чтобы избыток моей откровенности позволил мне повести моих соотечественников к свободе, поставить их выше трусливых и мелочных добродетелей, порожденных нашими несовершенствами; и пусть ценой моей неумеренности мне будет дано повести их к разуму! Нужно увидеть и постигнуть свои недостатки, чтобы уметь рассказать о них. Кто таит их от другого, тот таит их и от себя.
А если он видит их, то они представляются ему недостаточно скрытыми, и он старается убрать и упрятать их от собственной совести. Quare vitia sua nemo confitetur? Quia etiam nunc in illis est; somnium narrare vigilantis est [152]. Усиливаясь, телесные недуги становятся явными. И мы убеждаемся, что почитавшееся нами прострелом или ушибом – на самом деле подагра. Недуги души, набираясь сил, напротив, делаются все более темными и непонятными. И больной, охваченный тягчайшим из них, менее всего чувствует это. Вот почему следует почаще вытаскивать их на свет божий и ворошить беспощадной рукой, выискивать их и извлекать из глубин нашего сердца. Удовлетворение как в добрых, так и в дурных делах – это порою только признание в них.
Существует ли прегрешение до такой степени мерзкое, чтобы это освобождало нас от нашего долга признаться в нем?
Притворство для меня мучительно, и, не имея расположения отрицать то, что в действительности мне достоверно известно, я избегаю брать на себя сохранение чужих тайн. Я могу молчать о них, но отпираться и изворачиваться без насилия над собой и крайне неприятного чувства я не могу. Чтобы быть по-настоящему скрытным, необходимо обладать соответствующей природной способностью, но сделаться скрытным по обязанности нельзя. Служа государям, мало быть скрытным, нужно быть, ко всему, еще и лжецом. Если бы спросивший Фалеса Милетского, должен ли он торжественно отрицать, что предавался распутству, обратился с тем же ко мне, я бы ответил ему, что он не должен этого делать, ибо ложь, на мой взгляд, хуже распутства. Фалес посоветовал ему совершенно иное, а именно, чтобы он подтвердил свои слова клятвой, дабы скрыть больший порок при помощи меньшего [153]. Этот совет, однако, был не столько выбором того или иного порока, сколько умножением первого на второй.
По этому поводу заметим себе, что человеку с чуткою совестью предоставляется приемлемый выход только в том случае, если в противовес порочному ему предлагается нечто для него трудное; но когда порочно и то и другое, он оказывается перед жестокой необходимостью, как это произошло с Оригеном, выбирать из того, что в одинаковой мере гадко: а Оригену было сказано: либо пусть переходит в язычество, либо допустит, чтобы от него вкусил плотское наслаждение огромный и отвратительный эфиоп, которого ему показали. Он принял первое из этих условий и, как утверждают, поступил дурно [154]. Таким образом получается, что были бы правы те решительные дамы нашего времени, которые, будучи верны своим заблуждениям, заявляют, что они предпочли бы обременить свою совесть целым десятком насладившихся ими мужчин, чем одной-единственной мессой [155].
Если оповещать таким способом о своих прегрешениях и проступках – нескромность, то нет все же большой опасности, что она найдет многочисленных подражателей, – ведь еще Аристон говорил, что люди больше всего боятся тех ветров, которые их выдают и разоблачают [156]. Нужно отбросить прочь нелепые тряпки, под которыми прячутся наши нравы. Люди отправляют свою совесть в дома терпимости, но блюдут внешнюю добропорядочность. Все до последнего человека – вплоть до предателей и убийц – свято придерживаются приличий и почитают своею обязанностью неуклонно следовать им; так что ни неправедность не имеет оснований жаловаться на нелюбезность, ни злоба – на назойливость и нескромность. До чего же прискорбно, когда дурной человек не бывает к тому же глупцом и когда напускная благопристойность прикрывает собой таящийся под нею порок. Подобная штукатурка впору лишь добротной и крепкой стене, которую стоит либо сохранить в прежнем виде, либо побелить заново.
На удовольствие гугенотам, осуждающим нашу исповедь с глазу на глаз и на ухо, я исповедуюсь во всеуслышание, до конца искренне и с чистой душой. Св. Августин, Ориген и Гиппократ [157] открыто сообщали о своих заблуждениях; что до меня, то я делаю то же применительно к моим нравам. Я жажду, чтобы люди знали меня; мне безразлично, каким образом это будет мною достигнуто, лишь бы все было чистою правдой; или, говоря точнее, я решительно ничего не жажду, но я смертельно боюсь быть в глазах тех, кому довелось знать мое имя, не таким, каков я в действительности, но чем-то иным, на меня не похожим.
На какие выгоды для себя надеется тот, кто помышляет лишь о почестях и о славе, если он появляется перед всем светом в личине, скрывает свое настоящее «я» и не дает познакомиться с ним честному народу. Попробуйте похвалить горбатого за его стан, и он вынужден будет счесть ваши слова оскорблением. Если вы трусливы, а вас превозносят за храбрость, то о вас ли в таком случае говорят? Нисколько, вас принимают за кого-то другого. Столь же забавным было бы для меня, если б кто-нибудь вздумал гордиться поклонами, расточаемыми ему по ошибке, как тому, о ком думают, что он начальник отряда, тогда как на самом деле он – последний из рядовых. Однажды, когда Архелай, царь македонский, проходил по улице, кто-то вылил на него воду; спутники царя сказали ему, что виновного надлежит наказать, на что он ответил им следующим образом: «Но ведь он лил воду не на меня, а на того, кого он признал во мне» [158]. И Сократ заметил тому, кто предупредил его о кривотолках, ходивших на его счет: «Тут нет никакой клеветы, ибо я не вижу в себе и крупицы того, о чем они говорят» [159]. Что до меня, то, если бы кто-нибудь стал восхвалять меня как искусного кормчего, или за то, что я якобы крайне скромен, или за мое мнимое целомудрие, то я никоим образом не проникся бы к нему благодарностью. Равным образом я не счел бы себя оскорбленным, если бы кто-нибудь окрестил меня предателем, вором или пьянчужкой. Кто не знает себя, те могут кичиться незаслуженным одобрением, но со мной такого случиться не может, ибо я вижу себя насквозь, проникаю в себя, можно сказать, до самого нутра и очень хорошо знаю, что мне свойственно, а что нет. Я был бы более рад, если бы люди расточали мне меньше похвал, но знали меня лучше и основательнее. Ведь я мог бы быть признан мудрым в таком роде мудрости, который я сам считаю не чем иным, как отъявленной глупостью.
Меня злит, что мои «Опыты» служат дамам своего рода предметом обстановки, и притом для гостиной. Эта глава сделает мой труд предметом, подходящим для их личной комнаты. Я предпочитаю общение с дамами наедине. На глазах у всего света оно менее радостно и менее сладостно. При расставании с теми или иными вещами наши чувства к ним становятся более пылкими, чем обычно. Мне предстоит расстаться с утехами мирской жизни, и я посылаю им мои последние поцелуи. Но вернемся к моему предмету.
В чем повинен перед людьми половой акт – столь естественный, столь насущный и столь оправданный, – что все как один не решаются говорить о нем без краски стыда на лице и не позволяют себе затрагивать эту тему в серьезной и благопристойной беседе? Мы не боимся произносить: убить, ограбить, предать, – но это запретное слово застревает у нас на языке… Нельзя ли отсюда вывести, что чем меньше мы упоминаем его в наших речах, тем больше останавливаем на нем наши мысли. И очень, по-моему, хорошо, что слова наименее употребительные, реже всего встречающиеся в написанном виде и лучше всего сохраняемые нами под спудом, вместе с тем и лучше всего известны решительно всем. Любой возраст, любые нравы знают их нисколько не хуже, чем название хлеба. Не звучащие и лишенные начертаний, они запечатлеваются в каждом, хотя их не печатают и не произносят во всеуслышание. Хорошо также и то, что этот акт скрыт нами под покровом молчания и извлечь его оттуда даже затем, чтобы учинить над ним суд и расправу, – наитягчайшее преступление. Даже поносить его мы решаемся не иначе, как с помощью всевозможных описательных оборотов и словесных прикрас. Быть до того мерзким и отвратительным, что само правосудие считает предосудительным касаться и видеть его, – величайшее благодеяние для преступника; и он продолжает пребывать на свободе и наслаждаться безнаказанностью из-за того, что даже вынести ему приговор – противно.
Не обстоит ли тут дело положительно так же, как с запрещенными книгами, которые идут нарасхват и получают широчайшее распространение именно потому, что они под запретом? Что до меня, то я полностью разделяю мнение Аристотеля, который сказал, что стыдливость украшает юношу и пятнает старца [160].
Нижеследующими стихами древние наставляли свою молодежь, а их школа, по-моему, не в пример лучше нашей (ее достоинства мне представляются большими, ее недостатки – меньшими):
И от Венеры кто бежит стремглав
И кто за ней бежит – равно неправ [161].
Tu, dea, tu rerum naturam sola gubernas,
Nec sine te quicquam dias in luminis oras
Exoritur, neque fit laetum nec amabile quicquam. [162]
Не знаю, задавался ли кто-нибудь целью разлучить Палладу [163] и муз с Венерою и отдалить их от бога любви; что до меня, то я не вижу других божеств, которые были бы настолько под стать друг другу и столь многим друг другу обязаны. Кто отнимет у муз любовные вымыслы, тот похитит у них драгоценнейшее из их сокровищ; а кто заставит любовь отказаться от общения с поэзией и от ее помощи и услуг, тот лишит ее наиболее действенного оружия; и сделавший это обвинил бы тем самым бога близости и влечения и богинь, покровительниц человечности и справедливости, в черной неблагодарности и в отсутствии чувства признательности.
Я не настолько давно уволен в отставку из штата и свиты этого бога, чтобы не помнить о его мощи и доблести,
agnosco veteris vestigia flammae. [164]
После лихорадки всегда остается немного жара и возбуждения.
Nec mihi deficit calor hic, hiemantibus annis. [165]
Сколь бы я ни увял и ни высох, я все еще ощущаю кое-какое тепло – остатки былого пыла:
Qual l’alto Aegeo, per che Aquilone о Noto
Cessi, che tutto prima il vuolse e scosse,
Non s’accheta ei pero: ma’l sono e’l moto,
Ritien de l’onde anco agitate e grosse. [166]
Но, насколько я в таких вещах разбираюсь, мощь и доблесть этого бога в поэтическом изображении живее и деятельнее, нежели в своей сущности,
Et versus digitos habet. [167]
Поэзии как-то удается рисовать образы более страстные, чем сама страсть. И живая Венера – нагая и жаждущая объятий – не так хороша, как Венера здесь, у Вергилия:
Dixerat, et niveis hinc atque hinc diva lacertis
Cunctantem amplexu molli fovet. Ille repente
Accepit solitam flammam, notusque medullas
Intravit calor, et labefacta per ossa cucurrit.
Non secus atque olim tonitru cum rupta corusco
Ignea rima micans percurrit lumine nimbos.
Ea verba locutus,
Optatos dedit amplexus, placidumque petivit
Coniugis infusus gremio per membra soporem. [168]
Но особо отмечено должно быть, по-моему, то, что он рисует ее, пожалуй, чрезмерно пылкой для Венеры в замужестве. В этой благоразумной сделке желания не бывают столь неистовы; они пасмурны и намного слабее. Любовь не терпит, чтобы руководствовались чем-либо, кроме нее, и она с большой неохотой примешивается к союзам, которые установлены и поддерживаются в других видах и под другим наименованием; именно таков брак: при его заключении родственные связи и богатство оказывают влияние – и вполне правильно – нисколько не меньшее, если не большее, чем привлекательность и красота. Что бы ни говорили, женятся не для себя; женятся нисколько не меньше, если не больше, ради потомства, ради семьи. От полезности и выгодности нашего брака будет зависеть благоденствие наших потомков долгое время после того, как нас больше не станет. Потому-то мне нравится, что браки устраиваются скорее чужими руками, чем собственными, и скорее разумением третьих лиц, чем своим. До чего же все это далеко от любовного сговора! Вот и выходит, что допускать, состоя в этом почтенном и священном родстве, безумства и крайности ненасытных любовных восторгов – своего рода кровосмешение, о чем я, кажется, уже где-то говорил. Нужно, учит Аристотель, сближаться с женой осторожно и сдержанно и постоянно помнить о том, что, если мы станем чрезмерно распалять в ней желания, наслаждение может заставить ее потерять голову и забыть о границах дозволенного. И то, что он говорит, имея в виду нравственные устои, подтверждается и врачами, толкующими о телесном здоровье, а они говорят следующее: слишком бурное наслаждение, жгучее и постоянно возобновляемое, портит мужское семя и тем самым затрудняет зачатие; с другой стороны, они указывают также на то, что при сближении, полном ласки и нежности, – а только такое и отвечает природе женщины, – чтобы вызвать в ней подлинную и плодоносную пылкость, нужно посещать ее редко и с изрядными перерывами,
Quo rapiat sitiens venerem interiusque recondat. [169]
Мне неведомы браки, которые распадались бы с большей легкостью или были бы сопряжены с большими трудностями, нежели заключенные из-за увлечения красотой или по причине влюбленности. В этом деле требуются более устойчивые и прочные основания, и действовать тут нужно с неизменною осторожностью; горячность и поспешность здесь ни к чему.
Считающие, что вкладывать в брак любовь значит оказывать ему честь, поступают, по-моему, не иначе, чем те, кто, желая похвалить добродетель, твердят, будто благородное происхождение не что иное, как добродетель. Это – вещи и в самом деле некоторым образом соприкасающиеся, но они, вместе с тем, и значительно отличаются друг от друга; дело, однако, не ограничивается смешением их названий и сущностей; валя их в одну кучу, наносят ущерб им обеим. Благородное происхождение – великолепное качество, и отличие по этому признаку было установлено вполне правильно; но поскольку оно представляет собой качество, зависящее от воли другого и которое может достаться человеку порочному и ничтожному, его надлежит ценить много ниже, чем добродетель. Если знатность и впрямь добродетель, то это – добродетель искусственная и чисто внешняя, зависящая от века и от удачи, принимающая в разных странах различные формы, живая и смертная, без истоков, так же как река Нил [170], родовая и общая для всех принадлежащих к данному роду, покоящаяся на преемственности и уподоблении, выводимая в качестве следствия, и следствия явно необоснованного. Образованность, телесная сила, доброта, красота, богатство, все прочие качества общаются между собой и вступают друг с другом в сношения; что же касается знатности, то она печется лишь о себе, не оказывая ни малейших услуг чему-либо другому. Одному из наших королей предложили на выбор двух притязавших на некую должность, из которых один был дворянином, а другой им не был. Король приказал оставить без внимания это качество и назначить на должность того, кто больше подходит к ней, но если достоинства обоих окажутся в точности равными, то в этом случае подобало отдать предпочтение знатности; и это было справедливым воздаянием должного ей уважения. Антигон ответил одному неизвестному юноше, просившему о предоставлении ему должности, занятой прежде его недавно умершим отцом, мужем великой доблести: «Друг мой, в раздаче подобных милостей я руководствуюсь не столько знатностью моих воинов, сколько их личной отвагой» [171].
И в самом деле, негоже поступать по примеру спартанцев, у которых должности царских служителей – трубачей, флейтистов, кухарей – наследовали их дети, сколь бы несведущими они в этих ремеслах ни были и сколь бы ни уступали в умелости более опытным [172].
В Калькутте к людям знатным относятся как к своего рода неземным существам; вступать в брак им воспрещается, и из всех поприщ для них открыто только военное. Наложниц они могут иметь сколько пожелают, а женщины их – сколько угодно любовников, причем дело обходится без ревности со стороны тех и других; однако вступать в связь с женщинами другого сословия, кроме их собственного, – преступление непростительное, и оно карается смертью. Они почитают себя оскверненными, если кто-нибудь, проходя мимо, случайно притронется к ним, и так как их знатность подвергается в таких случаях тягчайшему оскорблению, – а они ее свято блюдут, – они убивают всякого, кто подойдет к ним слишком близко, так что незнатные вынуждены, идя по улице, предупреждать о себе криком, совсем как гондольеры в Венеции на перекрестках каналов, дабы не столкнуться друг с другом; и знатные по своему усмотрению велят им держаться определенных кварталов. Первые благодаря этому избегают упомянутого бесчестия, которое считается у них несмываемым, вторые же – верной смерти. Ни время, сколь бы продолжительным оно ни было, ни благоволение государя, ни заслуги, ни добродетели, ни богатство не могут превратить простолюдина в знатного человека. Этому способствует также и принятый здесь обычай, решительно воспрещающий браки между представителями родов, занимающихся неодинаковым ремеслом; никто из семьи сапожника не может сочетаться браком с кем-либо из семьи плотника, и родители обязаны обучать детей ремеслу, которым занимаются сами, и только ему и никакому другому, что приводит к сохранению между ними различий и к поддержанию на одном уровне их достатка [173].
Удачный брак, если он вообще существует, отвергает любовь и все ей сопутствующее; он старается возместить ее дружбой. Это – не что иное, как приятное совместное проживание в течение всей жизни, полное устойчивости, доверия и бесконечного множества весьма осязательных взаимных услуг и обязанностей. Ни одна женщина, которой брак пришелся по вкусу,
optato quam iunxit lumine taeda, [174]
не пожелала бы поменяться местами с любовницей или подругою своего мужа. Если он привязан к ней как к жене, то чувство это и гораздо почетнее и гораздо прочнее. Когда ему случится пылать и настойчиво увиваться возле какой-нибудь другой женщины, пусть тогда его спросят, предпочел бы он, чтобы позор пал на его жену или же на любовницу, чье несчастье опечалило бы его сильнее, кому он больше желает высокого положения; ответы, если его брак покоится на здоровой основе, не вызывают ни малейших сомнений. А то, что мы видим так мало удачных браков, как раз и свидетельствует о ценности и важности брака. Если вступать в него обдуманно и соответственно относиться к нему, то в нашем обществе не найдется, пожалуй, лучшего установления. Мы не можем обойтись без него и вместе с тем мы его принижаем. Здесь происходит то же, что наблюдается возле клеток: птицы, находящиеся на воле, отчаянно стремятся проникнуть в них; те же, которые сидят взаперти, так же отчаянно стремятся выйти наружу. Сократ на вопрос, что, по его мнению, лучше – взять ли жену или вовсе не брать ее, – ответил следующим образом: «Что бы ты ни избрал, все равно придется раскаиваться» [175]. Это – сговор, к которому точка в точку подходит известное изречение: homo homini или deus или lupus [176]. Для прочного брака необходимо сочетание многих качеств. В наши дни он приносит больше отрады людям простым и обыкновенным, которых меньше, чем нас, волнуют удовольствия, любопытство и праздность. Вольнолюбивые души, вроде моей, ненавидящие всякого рода путы и обязательства, мало пригодны для жизни в браке,
Et mihi dulce magis resoluto vivere collo. [177]
Руководствуйся я своей волей, я бы отказался жениться даже на самой мудрости, если бы она меня пожелала. Но мы можем сколько угодно твердить свое, а обычай и общепринятые житейские правила тащат нас за собой. Большинство совершаемых мною поступков вызвано примером со стороны и не вытекает из моего выбора. Я никоим образом не жаждал этого шага; меня взяли и повели, и я был подхвачен случайными и посторонними обстоятельствами. Ибо не только вещи сами по себе стеснительные, но и любая вещь, какой бы отвратительной, мерзкой и отнюдь не неизбежной для нас она ни была, не может не стать в конце концов приемлемой в силу известных случайностей и условий, – вот до чего шатки человеческие устои! И, разумеется, я был подготовлен к браку гораздо хуже и менее пригоден к нему, чем теперь, когда испытал его на себе. И сколь бы развращенным меня ни считали, я в действительности соблюдал законы супружества много строже, чем обещал или надеялся в свое время. Поздно брыкаться, раз дал стреножить себя. Свою свободу следует ревниво оберегать, но, связав себя обязательствами, нужно подчиняться законам долга, общим для всех, или, во всяком случае, прилагать усилия к этому. Кто заключает подобную сделку с тем, чтобы привнести в нее ненависть и презрение, тот поступает несправедливо и недостойно. И пресловутое правило, которое, как я вижу, переходит из рук в руки от одних женщин к другим, словно некий священный девиз:
О муже как рабыня пекись
И как врага его берегись,
что означает: оказывай ему, вопреки своей воле, почтение, однако враждебное и полное недоверия, – правило, похожее на боевой клич и вызов на поединок, – равным образом и оскорбительно и прискорбно.
Я слишком ленив, чтобы вынашивать в себе столь злостные умыслы. По правде говоря, я все еще не достиг той поистине совершенной ловкости и изворотливости ума, которая позволяет наводить тень на правое и неправое и насмехаться над любыми порядками и правилами, если они мне не по нраву. Какую бы ненависть ни возбуждали во мне суеверия, я не впадаю из-за этого тотчас в безверие. Если не всегда выполняешь свой долг, то нужно, по крайней мере, всегда помнить о нем и стремиться блюсти его. Жениться, ничем не связывая себя, – предательство. Однако продолжим.
Наш поэт изображает супружество, полное согласия и взаимной привязанности, в котором, впрочем, не очень-то много обоюдного уважения. Хотел ли он этим сказать, что вполне возможно предаваться неистовым утехам любви и, несмотря на это, сохранять должное почтение к браку и что можно наносить ему некоторый ущерб и все же не разрушить его? Иной слуга обкрадывает своего господина, хоть и не питает к нему ни малейшей ненависти. Красота, стечение обстоятельств, судьба (ибо и судьба прикладывает здесь руку),
fatum est in partibus illis
Quas sinus abscondit: nam, si tibi sidera cessent,
Nil faciet longi mensura incognita nervi, [178]
сблизили женщину с посторонним мужчиной, быть может, и не так прочно, чтобы в ней не оставалось кое-какой привязанности к законному мужу, которая и удерживает ее подле него. Это два совершенно различных чувства, пути которых расходятся и нигде не совпадают. Женщина может отдаться мужчине, за которого она не пожелала бы выйти замуж, и притом не в силу соображений, связанных с имущественной стороной дела, а просто потому, что он не вполне пришелся ей по душе. Лишь немногие из женившихся на своих прежних подругах не раскаивались в содеянном ими. И то же можно сказать об обитателях надзвездного мира. До чего же скверная пара вышла из Юпитера и его жены [179], которую он соблазнил до брака и которой досыта насладился, забавляясь с нею любовными шалостями!
Это, согласно пословице, не что иное, как сперва нагадить в корзину, а вслед за тем водрузить ее себе на голову.
В свое время я видел, – и, надо сказать, среди высокопоставленных лиц, – как бесстыднейшим и бесчестнейшим образом прибегали к браку ради исцеления от любви; однако сущность их слишком разная. Мы можем любить, не испытывая от этого никаких неудобств, две различные и друг другу противоположные вещи. Исократ говорил, что город Афины нравился посещавшим его подобно тому, как нравятся женщины, с готовностью расточающие свою любовь; всякий приезжал сюда, чтобы прогуляться по этому городу и проводить здесь с приятностью время, но никто не любил его настолько, чтобы сочетаться с ним браком, то есть обосноваться в нем и избрать его местом своего жительства [180]. Я с чувством досады смотрел на мужей, которые ненавидят жен только лишь потому, что сами грешны перед ними; а их, по-моему, не следует меньше любить из-за нашей вины; хотя бы вследствие нашего раскаяния и сострадания они должны сделаться нам дороже, чем были.
Цели, преследуемые любовью и браком, различны, и все же, как говорит Исократ, они некоторым образом совместимы друг с другом. За браком остаются его полезность, оправданность, почтенность и устойчивость; наслаждение в браке вялое, но более всеохватывающее. Что до любви, то она зиждется исключительно на одном наслаждении, и в ее лоне оно и впрямь более возбуждающее, более пылкое и более острое, – наслаждение, распаляемое стоящими перед ним преградами. А в наслаждении и нужна пряность и жгучесть. И в чем нет ранящих стрел и огня, то совсем не любовь. Щедрость женщин в замужестве чересчур расточительна, и она притупляет жало влечения и желаний. Поглядите, какие старания приложили в своих законах Ликург [181] и Платон, чтобы избежать этой помехи.
Женщины нисколько не виноваты в том, что порою отказываются подчиняться правилам поведения, установленным для них обществом, – ведь эти правила сочинили мужчины, и притом безо всякого участия женщин. Вот почему у них с нами естественны и неминуемы раздоры и распри, и даже самое совершенное согласие между ними и нами – в сущности говоря, чисто внешнее, тогда как внутри все бурлит и клокочет. По мнению нашего автора [182], мы ведем себя по отношению к женщинам до последней степени неразумно. Ведь мы хорошо знаем по личному опыту, до чего они ненасытней и пламенней нас в любовных утехах, – тут и сравнивать нечего! – Ведь мы располагаем свидетельством того жреца древности, который бывал поочередно то мужчиной, то женщиной,
Venus huic erat utraque nota. [183]
Ведь мы слышали, кроме того, из их собственных уст одобрительные отзывы об императоре, а также императрице римских, живших в разное время, но равно прославленных своими великими достижениями в этом деле (он в течение ночи лишил девственности десяток сарматских пленниц, а она за одну ночь двадцать пять раз насладилась любовью, меняя мужчин соответственно своим нуждам и своему вкусу) [184],
adhuc
Et lassata viris, nondum satiata, recessit. [185]
Ведь в связи с процессом, начатым в Каталонии одной женщиной, – она жаловалась на чрезмерное супружеское усердие своего мужа, к чему ее побудило, по моему разумению, не столько то, что оно было и вправду ей в тягость (я верую лишь в те чудеса, которые признает наша религия), сколько жажда свергнуть и обуздать под этим предлогом власть мужей над их женами даже в том, что есть первейшее и важнейшее в браке, и показать, что женской злобности и сварливости нипочем даже брачное ложе и они попирают все, что угодно, вплоть до радостей и услад Венеры; на каковую жалобу муж этой женщины (человек и впрямь распутный и похотливый) ответил, что даже в постные дни он не может обойтись самое малое без десятка сближений со своей женой, – ведь в связи с этим процессом последовал знаменательный приговор, вынесенный королевой Арагонской и гласивший, что после обстоятельного обсуждения этого вопроса Советом славная королева, дабы преподать четкие правила и показать впредь и навеки образец сдержанности и скромности, требующихся во всяком честном брачном союзе, повелела, имея в виду установить законный и необходимый предел, чтобы число ежедневных сближений между супругами ограничивалось шестью, ибо, значительно преуменьшая и урезывая истинные потребности и желания своего пола, она, по ее словам, тем не менее решилась навести в этом деле порядок и ясность, а стало быть, и достигнуть в нем устойчивости и неизменности [186]. Ведь о том же толкуют в своих сочинениях и ученые, обсуждая, каким должно быть влечение и любострастие женщин, поскольку их разум, нравственное самоусовершенствование и добродетели кроятся по той же мерке, и приводя разнообразнейшие суждения касательно их и нашего любострастия. И, наконец, нам также отлично известно, что глава законоведов Солон допускал самое большее три сближения в месяц, да и то, чтобы не последовало окончательного разрыва между супругами [187].
Лично удостоверившись в этом и прочитав все эти и подобные им наставления, мы все же назначили в удел женщинам какое-то особо строгое воздержание и к тому же под страхом наитягчайшего и беспощадного наказания.
Нет страсти более неистовой и неотвязной, чем эта; а мы хотим, чтобы они одни сопротивлялись ей не попросту как пороку, для которого существует своя определенная мера, но видели в ней предельную гнусность и святотатство, нечто еще более отвратительное, чем безверие или смертоубийство, тогда как мы сами предаемся ей, не впадая в грех и не заслуживая даже упрека. Иные из нашего брата пытались справиться с нею, и из их признаний достаточно ясно, насколько трудно или, правильнее сказать, невозможно, даже прибегая к различным вспомогательным средствам, смирить, ослабить и охладить плоть. Мы же, напротив, хотим, чтобы наши женщины были здоровыми, крепкими, всегда наготове нам услужить, упитанными и вместе с тем целомудренными, то есть, чтобы они были одновременно и горячими и холодными; а между тем, хотя мы утверждаем, что назначение брака – препятствовать женщинам пылать, он, вследствие принятых у нас нравов, дает им не очень-то много возможностей охладиться. Если они выходят замуж за человека, в котором еще кипят силы молодости, он пустится добывать себе славу, растрачивая их в другом месте:
Sit tandem pudor, aut eamus in ius:
Multis mentula millibus redempta,
Non est haec tua, Basse; vendidisti. [188]
Жена философа Полемона справедливо подала на него в суд за то, что он принялся засевать бесплодную ниву тем семенем, которым ему надлежало засевать плодоносную. Если же супруг – человек пожилой и расслабленный, то жена, пребывая в замужестве, оказывается в положении не в пример худшем, чем девица или вдова. Мы считаем ее полностью обеспеченной всем, что ей нужно, раз возле нее – законный супруг, подобно тому как римляне сочли весталку Клодию Лету оскверненной и обесчещенной только лишь потому, что к ней приблизился Калигула, хотя и было доказано, что он к ней даже не прикасался [189]; между тем в действительности это лишь распаляет желания женщины, ибо прикосновение и постоянное присутствие рядом с нею мужчины, кем бы он ни был, возбуждает в ней чувственность, которая была бы спокойнее, оставайся она в одиночестве. Весьма возможно, что, стремясь возвысить посредством этого обстоятельства и всего сопряженного с ним заслугу жить в воздержании, польский король Болеслав и его жена Кинга и дали на брачном ложе в день своей свадьбы по обоюдному согласию обет целомудрия и ни разу его не нарушили вплоть до того времени, пока в них не угасло супружеское влечение [190].
Мы воспитываем наших девиц, можно сказать, с младенчества исключительно для любви: их привлекательность, наряды, знания, речь, все, чему их учат, преследует только эту цель и ничего больше. Их наставницы не запечатлевают в их душах ничего, кроме лика любви, хотя бы уже потому, что без устали твердят поучения, рассчитанные на то, чтобы внушить им отвращение к ней. Моя дочь (она у меня единственная) в таком возрасте, в каком законы допускают замужество для наиболее пылких из них; но она, что называется, развития запоздалого, тоненькая и хрупкая, и к тому же взращена матерью в полном уединении и под неослабным надзором, так что только-только начинает освобождаться от детской бесхитростности и непосредственности. Так вот, как-то при мне она читала вслух французскую книгу. В ней встретилось некое слово, которым называют широко известное дерево. Так как это слово похоже на одно непристойное, женщина, приставленная наблюдать за поведением моей дочери, внезапно и чересчур резко оборвала ее и заставила пропустить это опасное место. Я предоставил ей действовать по своему усмотрению, чтобы не нарушать принятых у них правил, – я никогда не вмешиваюсь в дела по их ведомству: женскому царству присущи свои таинственные особенности, которых нам лучше не касаться. Но, если не ошибаюсь, общение с двадцатью слугами в течение полугода не могло бы с такой четкостью запечатлеть в ее воображении и самое слово и понимание, что именно обозначают эти преступные слоги и какие следствия оно влечет за собой, как это сделала славная старая женщина своим окриком и запрещением.
Motus doceri gaudet Ionicos
Matura virgo, et frangitur artubus
Iam nunc, et incestos amores,
De tenero meditatur ungui. [191]
Пусть они отбросят стеснение и развяжут свои язычки, и сразу же нам станет ясно, что в познаниях этого рода мы по сравнению с ними сущие дети. Послушайте, как они судачат о наших ухаживаниях и о разговорах, которые мы с ними ведем, и вы поймете, что мы не открываем им ничего такого, чего бы они не знали и не переварили в себе без нас. Уж не потому ли, что они были в прежнем существовании, как объясняет Платон, развращенными юношами? [192] Моим ушам случилось однажды оказаться в таком укромном местечке, в котором они могли не пропустить ни одного слова из того, что говорили между собою наши девицы, не подозревал, что их кто-то подслушивает; но разве я могу это пересказать? Матерь божья! – подумал я, – если мы теперь начнем изучать похвальбу Амадиса и иные описания Боккаччо и Аретино [193], чтобы казаться людьми понаторевшими в подобных делах, это будет просто потеря времени! Нет таких слов, примеров, уловок, которых они не знали бы лучше, чем все наши книги: это – наука, рождающаяся у них прямо в крови,
Et mentem Venus ipsa dedit, [194]
и ее непрерывно нашептывают им и вкладывают в их душу такие искусные учителя, как природа, молодость и здоровье; им не приходится даже изучать, они сами ее творят.
Nec tantum niveo gavisa est ulla columbo
Compar, vel si quid dicitur improbius,
Oscula mordenti semper decerpere rostro.
Quantum praecipue multivola est mulier. [195]
Если бы это вложенное в них природой неистовство страсти не сдерживалось страхом и сознанием своей чести, которые им постарались внушить, то мы были бы опозорены ими. Всякое побуждение в нашем мире направлено только к спариванию и только в нем находит себе оправдание: этим влечением пронизано решительно все, это средоточие, вокруг которого все вращается. И посейчас еще мы можем ознакомиться с распоряжениями древнего мудрого Рима, составленными на потребу любви, а также с предписаниями Сократа касательно обучения куртизанок:
Nec non libelli Stoici inter sericos
Iacere pulvillos amant. [196]
Зенон в составленных им законах поместил правила о положении ног и необходимых телодвижениях при лишении девственности. А что содержала в себе книга философа Стратона «О плотском соединении»? А о чем толковал Теофраст в своих сочинениях, озаглавленных им: одно – «Влюбленный», второе – «О любви»? А о чем Аристипп в своем «О наслаждениях древности»? А на что иное притязает Платон в своих пространных и столь живых описаниях самых изощренных любовных утех его времени? А книга «О влюбленном» Деметрия Фалерского? А «Клиний, или Поневоле влюбленный» Гераклида Понтийского? А сочинение Антисфена «О том, как зачинать детей, или О свадьбе» или еще «О повелителе или любовнике»? А Аристона «О любовных усилиях»? А Клеанфа: одно – «О любви» и другое – «Об искусстве любить»? А «Диалоги влюбленных» Сфера и «Сказка о Юпитере и Юноне» Хрисиппа, бесстыдная до невозможности, равно как и его «Пятьдесят писем», сплошь заполненных непристойностями? Не стану называть сочинения философов-эпикурейцев, о которых и говорить нечего. В былые времена насчитывалось до полусотни божеств, покровительствовавших этому делу и обязанных всячески его пестовать; а был и такой народ, который, чтобы смирять похоть тех, кто приходил помолиться, содержал при своих храмах девок и мальчиков, дабы ими мог насладиться всякий и всем вменялось в обязанность сначала сблизиться с ними и лишь после этого можно было присутствовать при обряде богослужения [197]. Nimirum propter continentiam incontinentia necessaria est; incendium ignibus extinguitur [198]. В большинстве стран мира эта часть тела обожествлялась. В одной и той же области одни изрезывали ее, чтобы предложить богам в качестве посвятительной жертвы кусочек от ее плоти, другие в качестве такой же посвятительной жертвы предлагали им свое семя. А в другом краю молодые мужчины на глазах у всех протыкали ее и, проделав в разных местах отверстие между кожей и мясом, продевали в эти отверстия такие длинные и толстые прутья, какие только были в состоянии вытерпеть; позднее они складывали из этих прутьев костер, посвящая его своим божествам, и те юноши, которых подавляла эта невероятно жестокая боль, почитались малосильными и недостаточно целомудренными. В других местах верховного жреца чтили и узнавали по этим частям и при совершении многих религиозных обрядов с превеликой торжественностью несли в честь различных божеств изображение детородного члена.
Египтянки на празднике вакханалий также носили на шее его деревянное изображение, сделанное весьма искусно, большое и тяжелое, каждая по своим силам, и, кроме того, на статуе их главного бога он был настолько большим, что превосходил своими размерами его тело.
В нашей округе замужние женщины сооружают из своей головной повязки нечто весьма похожее на него, и эта вещь свисает у них на лбы; делают они это затем, чтобы прославить его за наслаждения, которые он им доставляет; овдовев, они помещают эту вещицу сзади и прячут ее под прической.
Честь подносить богу Приапу цветы и венки предоставлялась тем из римских матрон, которые отличались чистотой нравов и безупречным образом жизни, а на его срамные части сажали обыкновенно девственниц при их вступлении в брак. Не знаю, не довелось ли и мне в свое время наблюдать нечто похожее на этот благочестивый обряд. А каково назначение той презабавной шишки на штанах наших отцов, которую мы еще и теперь видим у наших швейцарцев? И к чему нам штаны – а такие мы носим ныне, – под которыми отчетливо выделяются наши срамные части, частенько, что еще хуже, при помощи лжи и обмана превышающие свою истинную величину?
Мне хочется верить, что этот покрой одежды был придуман в лучшие и более совестливые века, с тем, чтобы не вводить в заблуждение людей и чтобы каждый у всех на глазах честно показывал, чем именно он владеет. Более бесхитростные народы и посейчас еще в этом случае точно воспроизводят действительность. Тогда это было попросту меркою для портных, подобно тому как теперь им нужны размеры руки и ноги.
Тот простак [199], который в дни моей юности оскопил в своем великом и славном городе множество великолепнейших древних статуй, чтобы они не вводили в соблазн наши глаза, разделяй он полностью мнение другого простака, на этот раз древнего, –
Flagitii principium est nudare inter cives corpora [200] –
должен был сообразить, – ведь на таинствах Доброй богини [201] все, даже отдаленно напоминавшее мужское начало, решительно устранялось, – что незачем было и браться за это дело, раз он не повелел оскопить также и жеребцов, и ослов, и, наконец, самое природу:
Omne adeo genus in terris hominumque ferarumque,
Et genus aequoreum, pecudes, pictaeque volucres,
In furias ignemque ruunt. [202]
Боги, как говорит Платон, снабдили нас членом непокорным и самовластным, который, подобно дикому зверю, норовит, побуждаемый ненасытною жадностью, подмять под себя все и вся. Точно так же одарили они и женщин животным прожорливым и вечно голодным, которое, если ему не дать в положенный срок потребной для него пищи, приходит в ярость и, сгорая от нетерпения, а также заражая своим бешенством их тела, препятствует правильному движению соков, приостанавливает дыхание и вызывает тысячи всевозможных недугов, пока не проглотит плод, являющийся предметом общего им всем вожделения, и он, обильно оросив дно их матки, не оставит в ней семени.
Моему законодателю подобало бы догадаться, что было бы, пожалуй, более целомудренным и полезным знакомить женщин с тем, что у нас есть на деле, чем допускать их строить на этот счет всяческие догадки в меру смелости и живости их воображения. Не имея точного представления об этих вещах, они, подстрекаемые желанием и мечтами, рисуют себе нечто чудовищное, втрое большее против действительности. Один мой знакомый погубил себя тем, что позволил рассмотреть некую часть своего тела при таких обстоятельствах, которые не допускали ни малейшей возможности использовать ее настоящим и более существенным образом.
А мало ли зла приносят изображения, оставляемые мальчишками, снующими в проходах и на лестницах общественных зданий? Они-то и порождают то убийственное презрение, которое питают наши девицы к этой мужской принадлежности, если она обычной величины. Кто знает, не имел ли в виду Платон именно это, когда предписал, по примеру других благоустроенных государств, чтобы мужчины и женщины, старые и молодые, присутствовали в его гимнасиях на виду друг у друга совершенно нагими [203]. Индианок, которые всегда видят мужчин, что называется, в чем мать родила, это зрелище нисколько не распаляет и оставляет спокойными. Женщины великого царства Пегу спереди прикрываются лишь ниспадающим с пояса крошечным лоскутком, к тому же настолько узким, что, как ни стараются они ходить возможно пристойнее, их на каждом шагу видят такими, как если бы на них ничего не было. Они утверждают, что это придумано с тем, чтобы привлекать мужчин к женскому полу и отвлекать от их собственного, к чему этот народ чрезвычайно привержен. Но, по-моему, можно решительно утверждать, что женщины от этого остаются скорее в проигрыше, нежели в выигрыше, поскольку вовсе не утоленный голод ощущается острее, чем утоленный наполовину, хотя бы одними глазами [204]. Говорила же Ливия [205], что нагой мужчина для порядочной женщины не что иное, как статуя. Спартанские женщины, более целомудренные, чем наши девицы, каждодневно видели молодых людей своего города обнаженными, когда те проделывали телесные упражнения, да и сами не очень-то следили за тем, чтобы их бедра при ходьбе были надежно прикрыты, находя, как говорит Платон [206], что они достаточно прикрыты своей добродетелью и поэтому ни в чем другом не нуждаются. Но те, о которых говорит св. Августин [207], те и впрямь считали искушение, исходящее от наготы, наделенным поистине колдовской силой и выражали в связи с этим сомнение, воскреснут ли женщины, чтобы предстать на Страшном суде, сохраняя свой собственный пол, или же сменят его на наш, дабы не искушать нас в этом царстве блаженных.
Короче говоря, женщин соблазняют, их распаляют всеми возможными средствами: мы без конца горячим и будоражим их воображение, а потом жалуемся на их ненасытность. Так давайте признаемся в истине: каждый из нас без исключения сильней страшится позора, который навлекают на него пороки его жены, чем того, что ложится на него из-за его собственных; в большей мере заботится (поразительная самоотверженность!) о совести своей драгоценной супруги, чем о своей собственной; предпочитает стать вором и святотатцем, видеть свою жену убийцей и еретичкой, чем допустить, чтобы она не была скромней и чище своего мужа.
Да и они сами охотнее пошли бы в суд, чтобы заработать на жизнь, и на войну – за славою, чем, живя в праздности и посреди наслаждений, с превеликим трудом оберегать самих себя от соблазнов. Разве им невдомек, что нет такого купца, прокурора, солдата, который не бросил бы своего дела, чтобы погнаться за тем, другим, и что так же поступает и крючник, и чеботарь, как бы они ни были изнурены и истощены работой и голодом?
Num tu, quae tenuit dives Achoemenes,
Aut pinguis Phrygiae Mygdonias opes,
Permutare velis crine Licinniae
Plenas aut Arabum domos,
Dum flagrantia detorquet ad oscula
Cervicem, aut facili saevitia negat,
Quae poscente magis gaudeat eripi,
Interdum rapere occupet? [208]
До чего же несправедлива оценка пороков! И мы сами и женщины способны на тысячи проступков, которые куда гаже и гнуснее, чем любострастие; но мы рассматриваем и оцениваем пороки не соответственно их природе, а руководствуясь собственной выгодой, от чего и проистекает такая предвзятость в нашем отношении к ним. Суровость наших понятий приводит к тому, что приверженность женщин к названному пороку становится в наших глазах отвратительнее и гаже, чем того заслуживает его сущность, и ведет к последствиям еще худшим, чем причина, его породившая. Не знаю, превосходят ли подвиги Цезаря и Александра по части проявленной ими стойкости и решительности незаметный подвиг прелестной молодой женщины, воспитанной на наш лад, живущей посреди блеска и суеты света, подавляемой столькими примерами противоположного свойства и все же не поддающейся натиску тысячи непрерывно и неотступно преследующих ее молодцов. Нет дела более трудного и хлопотливого, чем это ничегонеделанье. Я считаю, что легче носить, не снимая, всю жизнь доспехи, чем тяжкое бремя девственности, а обет безбрачия, на мой взгляд, – самый благородный из всех, ибо он самый тягостный: diaboli virtus in lumbis est [209], говорит св. Иероним.
Итак, наиболее мучительный и суровый долг, какой только можно придумать для человека, мы возложили на дам и честь выполнять его предоставили им одним. Это может служить им дополнительным побуждением упорно держаться его и достаточно веским основанием для пренебрежительного отношения к нам и для сведения на нет того преимущества в доблести и добродетели, которое мы, по нашему мнению, над ними имеем. Если они хорошенько поразмыслят над этим, то без труда обнаружат, что из-за этого мы не только их почитаем, но и гораздо сильнее любим. Порядочный человек, встретив отказ, не прекратит своих домогательств, если причина отказа – целомудрие, а не иной выбор. Мы можем сколько угодно клясться, и угрожать, и жаловаться – все ложь; мы любим их из-за этого пуще прежнего: нет приманки неотразимее, чем женская скромность, когда она не резка и не мрачна. Упорствовать, столкнувшись с ненавистью или презрением, – тупость и подлость; но упорствовать, столкнувшись с решительностью, исполненной добродетели и постоянства, к которым присоединяется немного благосклонности и признательности, – дело вполне подходящее для души открытой и благородной. Женщины могут допускать наши ухаживания лишь до определенных пределов и вместе с тем, нисколько не унижая своего достоинства, дать нам почувствовать, что отнюдь не гнушаются нами.
Ведь закон, требующий от них, чтобы они питали к нам отвращение за то, что мы поклоняемся им, и ненавидели нас за то, что мы любим их, разумеется, чрезмерно жесток, хотя бы уже потому, что его трудно придерживаться. Почему бы им не выслушивать наши предложения и мольбы, раз они не повинны в нарушении долга скромности? Зачем обязательно выискивать в наших словах якобы скрытый в них злонамеренный умысел? Одна королева, наша современница, заметила, что пресекать эти искательства – не что иное, как свидетельство слабости и признание собственной неустойчивости, и что дама, не испытавшая искушений, не вправе похваляться своим целомудрием.
Границы чести не так уж тесны: ей есть куда отступить, она может кое-чем поступиться, нисколько не умаляя себя. На окраине ее царства существует кое-какое пространство, на деле от нее независимое, для нее маловажное и предоставленное себе самому. Кто смог ее потеснить и принудить укрыться в ее убежище и твердыне и не удовлетворен своею удачей, тот поистине не блещет умом. Величие победы измеряется степенью ее трудности. Вы хотите знать, какое впечатление оставили в сердце женщины ваши ухаживания и ваши достоинства? Соразмеряйте свой успех с ее нравственностью. Иная, давая очень немного, дает очень много. Значительность благодеяний определяется только усилиями, которые требуются от воли того, кто их оказывает. Остальные сопутствующие благодеянию обстоятельства немы, мертвы и случайны. Дать это немногое стоит ей больше, чем ее подруге отдать все. Если редкость вообще способствует ценности чего бы то ни было, то больше всего в данном случае; думайте не о том, как это немного, а о том, сколь немногие это имеют. Стоимость монеты меняется сообразно чекану и доверию или недоверию к месту, в котором она отчеканена.
Хотя досада и нескромное легкомыслие могут побуждать некоторых крайне неуважительно отзываться о той или иной женщине, все же добродетель и истина всегда берут верх над подобными толками. И я знаю таких, чье доброе имя в течение долгого времени подвергалось несправедливым нападкам, но в конце концов они без всяких стараний и хитростей восстановили его и снискали всеобщее одобрение мужчин исключительно за свое постоянство; ныне всякий убеждается в том, что поверил лжи, и сожалеет об этом; в девичестве поведения несколько подозрительного, они стоят теперь в первом ряду наших наиболее почтенных и порядочных женщин. Некто сказал Платону: «Все поносят тебя». – «Пусть себе, – ответил Платон, – я буду жить таким образом, что заставлю их изменить свои речи» [210]. Кроме страха господня и награды, обретаемой в доброй славе, которые должны побуждать женщин блюсти себя в чистоте, их приневоливает к тому же и испорченность нашего века, и будь я на их месте, я скорее предпочел бы все, что угодно, чем отдавать свое доброе имя в столь опасные руки. В мое время удовольствие поверять свои любовные тайны (удовольствие, нимало не уступающее отрадам самой любви) мог позволить себе только тот, кто располагал верным и единственным другом; ныне же обычные разговоры в больших собраниях и за столом – это похвальба милостями, вырванными у дам, и тайными их щедротами. Поистине, эти неблагодарные, нескромные и до крайности ветреные люди проявляют величайшую гнусность и низость, позволяя себе так беспощадно терзать, топтать и разбрасывать столь нежные дары женской благосклонности.
Наша чрезмерная и несправедливая нетерпимость к разбираемому пороку вызывается самой глупой и беспокойной болезнью, какие только поражают людские души, а именно ревностью.
Quis vetat apposito lumen de lumine sumi?
Dent licet assidue, nil tamen inde perit [211]
Она, равно как и зависть, ее сестра, кажутся мне самыми нелепыми из всех пороков. О последней мне сказать нечего: эта страсть, которую изображают такой неотвязной и мощной, не соблаговолила коснуться меня. Что же касается первой, то она мне знакома, хотя бы с виду. Ощущают ее и животные: пастух Крастис воспылал любовью к одной из коз своего стада, и что же! ее козел, когда Крастис спал, боднул его в голову и размозжил ее [212]. Подобно некоторым диким народам, мы достигли крайних степеней этой горячки; более просвященные затронуты ею, – что правда, то правда, – но она их не захватывает и не подчиняет:
Ense maritali nemo confossus adulter
Purpureo Stygias sanguine tinxit aquas. [213]
Лукулл, Цезарь, Помпеи, Антоний, Катон и другие доблестные мужи были рогаты и, зная об этом, не поднимали особого шума. В те времена нашелся лишь один дурень – Лепид, – умерший от огорчения, которое ему причинила эта напасть [214].
Ahi tum te miserum malique fati,
Quem attractis pedibus, patente porta,
Percurrent mugilesque raphanique. [215]
И бог в рассказе нашего поэта, застав со своею супругой одного из ее дружков, ограничился тем, что пристыдил их обоих,
atque aliquis de diis non tristibus optat
Sic fieri turpis; [216]
и он не преминул воспылать от предложенных ею сладостных ласк, сетуя только на то, что она, видимо, перестала доверять горячности его чувства:
Quid causas petis ex alto, fiducie cessit
Quo tibi, diva, mei? [217]
Больше того, она обращается с просьбой, касающейся ее внебрачного сына,
Arma rogo genitrix nato, [218]
и он охотно выполняет ее; и об Энее Вулкан говорит с уважением:
Arma acri facienda viro. [219]
Все это полно человечности, превышающей человеческую. Впрочем, это сверхъизобилие доброты я согласен оставить богам:
nec divis homines componier aequum est. [220]
Хотя вопрос о брачном или внебрачном зачатии прижитых совместно детей и не затрагивает, в сущности, женщин, – не говорю уж о том, что самые суровые законодатели, умалчивая о нем в своих сводах, тем самым решают его, – все же они, неведомо почему, подвержены ревности больше мужчин, и она обитает в них, как у себя дома:
Saepe etiam Juno, maxima caelicolum,
Coniugis in culpa flagravit quotidiana. [221]
И когда эти бедные души, слабые и неспособные сопротивляться, попадают в ее цепкие лапы, просто жалость смотреть, до чего беспощадно она завлекает их в свои сети и как помыкает ими; сначала она пробирается в них тихой сапой под личиною дружбы, но едва они окажутся в ее власти, те же причины, которые служили основанием для благосклонности, становятся основанием и для лютой ненависти. Для этой болезни души большинство вещей служит пищею и лишь очень немногие – целебным лекарством. Добродетель, здоровье, заслуги и добрая слава мужа – фитили, разжигающие их гнев и бешенство:
Nullae sunt inimicitiae, nisi amoris, acerbae. [222]
Кроме того, эта горячка уродует и искажает все, что в них есть красивого и хорошего, и все поведение ревнивой женщины, будь она хоть воплощением целомудрия и домовитости, неизменно бывает раздражающе несносным. Неукротимое возбуждение увлекает ревнивцев к крайностям, прямо противоположным тому, что их породило. Прелюбопытная вещь произошла с одним римлянином – Октавием: предаваясь любовным утехам с Понтией Постумией, он до того распалился страстью от обладания ею, что стал настойчиво домогаться ее согласия сочетаться с ним браком, и так как она не поддалась на его уговоры, возросшая в нем до последних пределов любовь толкнула его на действия, свойственные жесточайшей и смертельной вражде, – он убил ее [223]. И вообще обычные признаки этой разновидности любовной болезни, – укоренившаяся в сердце ненависть, жажда безраздельно владеть, мольбы и заклинания,
notumque furens quid femina possit, [224]
и непрерывное бешенство, тем более мучительное, что считается, будто единственное возможное для него оправдание – это любовное чувство.
Итак, долг целомудрия весьма многогранен и многолик. Хотим ли мы, чтобы женщины держали в узде свою волю? Она – вещь очень гибкая и подвижная и слишком стремительная, чтобы ее можно было остановить. Да и как это сделать, если грезы уносят женщин порою так далеко, что они не в силах от них отступиться? Как в них, так, пожалуй, и в целомудренной чистоте, – и в ней тоже, – поскольку она женского рода, – нет ничего, что могло бы их защитить от вожделений и желаний. Если мы посягаем лишь на их волю, то многого ли мы этим достигнем? Представьте себе сонмы таких желаний, наделенных способностью лететь, как оперенные стрелы, не глядя перед собой и ни о чем не спрашивая, и готовых вонзиться во всякую, кого только настигнут.
Скифские женщины выкалывали глаза своим рабам и военнопленным, чтобы свободнее и бесстыднее предаваться с ними наслаждениям [225].
Просто ужас, какое великое преимущество – действовать в подходящее время! Всякому, кто спросит меня, что всего важнее в любви, я отвечу: уметь выбрать мгновение; второе по степени важности – то же, и то же самое – третье. Ибо в этом случае все возможно. Мне часто недоставало удачи, но порою и предприимчивости; сохрани боже от беды тех, кто вздумает посмеяться над этим. В наш век нужно побольше напористости, которую молодые люди нашего времени извиняют свойственной им горячностью чувств, но если женщины ближе присмотрятся к ней, они обнаружат, что она проистекает скорей из презрения. Я суеверно боялся нанести им оскорбление, и я всей душой уважаю то, что люблю. Не говорю уж о том, что это такой товар, который теряет свой блеск и тускнеет, если не относиться к нему с должным почтением. Я люблю, чтобы сюда вносилось кое-что от юношеской застенчивости, от робкой и преданной влюбленности. Впрочем, не только в этом, я и в другом знаю за собой кое-какие проявления нелепой застенчивости, о которой вспоминает Плутарх [226] и которая омрачала и портила мне жизнь на всем ее протяжении. В общем свойство это не очень подходит к моему душевному складу, но разве внутри нас не сплошные мятежи и раздоры? [227]
Итак, величайшая глупость пытаться обуздать в женщинах то желание, которое в них так могущественно и так естественно. И когда мне доводится слышать, как они похваляются тем, что их сердце исполнено девственной чистоты и холодности, я только посмеиваюсь над ними; они заходят, пожалуй, чересчур далеко. Если это беззубая и одряхлевшая женщина или молодая, но высохшая и чахоточного вида девица, то хотя им не очень-то веришь, их слова все же до некоторой степени правдоподобны. Но кто из них продолжает дышать и двигаться, те таким отпирательством немало вредят себе, ибо неразумные оправдания на пользу лишь обвинению. Так, например, один дворянин, мой сосед, которого подозревали в мужском бессилии,
Languidior tenera cui pendens sicula beta
Nunquam se mediam sustulit ad tunicam. [228]
по истечении трех или четырех дней после своей свадьбы, желая снять с себя давнее подозрение, пустился повсюду напропалую божиться, будто бы в минувшую ночь он двадцать раз насладился со своею супругой, что и послужило в дальнейшем к уличению его в полнейшем невежестве по мужской части и к расторжению его брака. Я не говорю уж о том, что кичиться своим целомудрием, как упомянутые мной дамы, в сущности, нечего, ибо где же воздержанность и добродетель, если нет побуждений обратного свойства? В таких случаях нужно сказать: «Да, мне этого очень хочется, но, тем не менее, я не собираюсь сдаваться». Даже святые, и те говорят не иначе. Само собой разумеется, я имею в виду лишь таких женщин, которые намеренно похваляются своей бесчувственностью и холодностью и, сообщая об этом с серьезным лицом, хотят, чтобы им безоговорочно верили. Ибо, когда на их лицах, вы без труда читаете, что они притворяются, когда произносимые ими слова опровергаются их глазами, когда они изъясняются на своем милом тарабарском наречии, где все шиворот-навыворот и шито белыми нитками, это мне и впрямь по душе. Я верный поклонник вольности в обращении и непосредственности; но тут не может быть серединки наполовинку: если в них нет настоящего простодушия и ребячливости, они просто нелепы, и дамам неуместно к ним прибегать: в такого рода общении они немедля переходят в бесстыдство. Уловки и хитрости способны обмануть только глупцов. Лжи в этих делах принадлежит почетное место – это окольный путь, ведущий нас к истине через заднюю дверь. Но если мы не можем сдержать женское воображение, чего же мы добиваемся? Внешне целомудренного поведения? Но бывают и такие поступки, которые совершаются без свидетелей, а между тем несут пагубу целомудрию,
Illud saepe facit quod sine teste facit. [229]
И те, которых мы меньше всего опасаемся, больше всего, пожалуй, и должны внушать нам опасение:
Offendor moecha simpliciore minus. [230]
Бывают вещи, которые, не являясь порочными, могут погубить беспорочность женщины, и притом даже без ее ведома и соучастия: Obstetrix, virginis cuiusdam integritatem manu velut explorans, sive malevolentia, sive inscitia, sive casu, dum inspicit, perdidit [231]. Иная лишила себя девственности нечаянно, желая в ней убедиться, иная потеряла ее, резвясь.
Мы не сумели бы дать нашим женщинам точного списка поступков, которые должны быть для них запретными. Наш закон пришлось бы изложить в общих и достаточно неопределенных выражениях и словах. Созданное нами самими представление об их целомудрии просто смешно, ибо наиболее совершенные его образцы, какими я только располагаю, это Фатуа, жена Фавна, которая, выйдя замуж, ни разу не дала взглянуть на себя ни одному мужчине [232], и жена Гиерона, не ощущавшая зловония, исходившего от ее мужа, считая, что это общее для всех мужчин свойство [233]. Чтобы удовлетворять нас и нравиться нам, нужно, чтобы женщины не видели и не чувствовали.
Итак, давайте признаем, что основа понимания этого долга заложена главным образом в нашей воле. Были мужья, которые претерпели неверность жен не только без единого обращенного к ним упрека и оскорбления, но с чувством глубочайшей признательности и глубочайшего уважения к их добродетели. Иная, дорожа своей честью больше, чем жизнью, отдала ее на поругание бешеной похоти смертельного врага ее мужа, дабы спасти ему жизнь, и сделала для него то, чего бы никогда не сделала для себя. Здесь не место умножать эти примеры: они слишком возвышенны и слишком прекрасны, чтобы попасть в этот перечень; сохраним их до рассуждений на более благородные темы.
Но что до примеров, подходящих для нашего перечня вещей более низменных, то не видим ли мы всякий день женщин, которые отдаются другим только ради выгоды, извлекаемой из этого их мужьями, по прямому их приказанию и при их посредничестве? В древности аргосец Фавлий предложил царю Филиппу свою жену из тщеславия; из любезности то же сделал и Гальба, пригласивший Мецената отужинать у него в доме; заметив, что гость и его жена принялись тайком переглядываться и объясняться знаками, он откинулся на подушки и сделал вид, будто его одолела дремота, дабы не мешать им столковаться друг с другом. И сам себя невольно разоблачил, ибо, увидев в это мгновение, что один из рабов осмелился запустить руку в стоявшее на столе блюдо, он крикнул ему: «Неужели ты не видишь, мошенник, что я сплю только для Мецената?» [234]
У одной нрав распутный, а воля благонамереннее, чем у другой, внешне придерживающейся правил приличия. И как мы встречаем таких, которые жалуются, что их обрекли на безбрачие прежде чем они вступили в сознательный возраст, точно так же я встречал и немало таких, кто жалуется, и вполне искренне, что, еще не достигнув сознательного возраста, они уже были обречены на разврат; причиною этого может быть порочность родителей, или насилие, или нужда, а она – злая советчица. В Восточных Индиях, где целомудрие чтут, как нигде, обычай, однако же, допускает, чтобы замужняя женщина отдалась всякому, кто подарит ей за это слона, – и она делает это даже не без некоторой гордости, что ее оценили так дорого [235].
Философ Федон, происходивший из хорошего рода, после захвата Элиды – его отечества – неприятелем, дабы прокормить себя, занялся тем, что стал за деньги продавать свою юность и красоту всякому, кто желал насладиться ими, и делал это, пока враги не ушли [236]. Солон, как говорят, был в Греции первым законодателем, предоставившим женщинам право открыто добывать для себя средства к существованию в ущерб своему целомудрию [237], – обыкновение, по словам Геродота [238], принятое и до Солона во многих других государствах.
Спрашивается к тому же, каковы плоды этой изнурительной заботы о целомудрии женщин? Ибо, сколь бы справедливой ни была наша страсть уберечь его, нужно выяснить, приносит ли она нам хоть чуточку пользы? Найдется ли среди нас хоть один, кто рассчитывал бы, что при любых стараниях ему удастся связать женщин по рукам и ногам?
Pone seram, cohibe; sed quis custodiet ipsos
Custodes? Cauta est, et ab illis incipit uxor. [239]
Какими только возможностями не располагают они в наш просвещенный век!
Излишнее любопытство вредит повсюду, но тут оно просто пагубно. Не безумие ли жаждать узнать про беду, если против нее нет лекарства, которое не усугубляло бы и не усиливало ее; если связанный с нею позор увеличивается и разглашается главным образом из-за ревности; если отмщение больше задевает наших детей, чем способствует нашему исцелению? Да вы иссохнете и умрете, пытаясь докопаться до столь темной истины! До чего же жалким был удел тех мужей моего времени, которым удавалось распутать этот клубок до конца! Если осведомляющий об этом несчастье не предлагает одновременно лекарства и своей помощи, то его сообщение оскорбительно и не столько разоблачает обман, сколько заслуживает удара кинжалом. Над домогающимся улик смеются не меньше, чем над пребывающим в полнейшем неведении. Быть рогоносцем – пятно несмываемое: к кому оно пристало хоть раз, на том оно остается навеки; отмщение запечатлевает его прочнее, чем самый проступок. Забавно смотреть, как мы извлекаем из тьмы и области неопределенных догадок наши личные горести, дабы с трагических подмостков трубить о них, и притом горести, которые удручают нас лишь потому, что о них повсюду судачат. Ибо хорошей женой и хорошим браком называют не ту жену и тот брак, которые и впрямь таковы, но о которых молчат. Нужно как можно искуснее уклоняться от этой докучной и бесполезной осведомленности. И римляне, возвращаясь из путешествия, имели обыкновение посылать домой нарочного, чтобы предупредить о своем прибытии жен и не застать их врасплох; а один народ завел у себя обычай, состоящий в том, что в день свадьбы жрец лишает новобрачную девственности, и делает это затем, чтобы муж, познавая впервые жену, не испытывал никаких сомнений и не доискивался, досталась ли она ему девственной или же оскверненной какой-либо прежней любовью [240].
Но все только и делают, что толкуют о вашей напасти! Я знаю добрую сотню весьма почтенных людей, которых украшают рога и которые, тем не менее, с достоинством и без особого позора носят их на себе. Порядочного человека жалеют за это, а не поносят и не лишают уважения. Добейтесь того, чтобы ваша добродетель затмевала постигшую вас беду, чтобы честные люди проклинали случившееся, чтобы ваш оскорбитель содрогался при одной мысли о том, что он наделал. И затем, – о ком только не говорят того же, начиная с наиничтожнейшего и кончая самым великим?
Tot qui legionibus imperitavit
Et melior quam tu multis fuit, improbe, rebus. [241]
Не видишь ли ты, на скольких честных людей выливают в твоем присутствии ушаты помоев, не задевая тебя? Неужели ты думаешь, что где-нибудь в другом месте тебя щадят больше, чем их? Но дамы, уж те не пожалеют насмешек! А что они в наши дни охотнее подвергают насмешкам, чем мирное и хорошо налаженное течение супружеской жизни? Каждый из нас сделал кого-нибудь рогоносцем, но природа только на том и держится, что уподобляет, уравновешивает и чередует. Широчайшее распространение случаев этого рода должно ослабить в дальнейшем их горечь – ведь они, можно сказать, стали почти обыденны.
Жалкая, однако же, страсть, носящая название ревности, и вдобавок ко всему остальному ею ни с кем не поделишься,
Fors etiam nostris invidit questibus aures. [242]
Ибо какому другу решитесь вы доверить свои печали? Ведь если он не посмеется над ними, то воспользуется проторенною дорожкой и своею осведомленностью, чтобы урвать дичины и на свою долю.
Как горести, так и услады супружества благоразумные люди таят про себя.
Среди прочих несносных докук, связанных с положением рогоносца, для людей говорливых, вроде меня, одна из главнейших состоит в том, что обычай считает мало пристойным и вредным рассказывать в таких случаях кому бы то ни было обо всем, что знаешь и чувствуешь.
Советовать женщинам то же, чтобы отбить у них вкус к ревности, было бы напрасной потерей времени: их существо настолько пропитано подозрительностью, тщеславием и любопытством, чтобы исцелить их обычными средствами – на это нечего и надеяться. Нередко они все же справляются с этим недугом и обретают здоровье, но это здоровье такого рода, что его следует бояться пуще самой болезни. Ибо подобно тому, как иные заговоры и заклинания не могут помочь беде иначе, как переложив ее на другого, так и они, освободившись от этой горячки, нередко заражают ею своих мужей. Как бы там ни было, по совести говоря, я не знаю, можно ли натерпеться от женщин чего-либо горшего, нежели ревность: это самое опасное из их качеств, подобно тому как в их естестве самое опасное – голова. Питтак говорил, что у всякого найдется своя напасть, а у него – дурная голова его женушки; не будь этого, он почитал бы себя счастливым во всех отношениях [243]. Это очень тяжелое бремя, и если столь справедливый, мудрый и доблестный человек находил, что оно ему портит жизнь, то что же тут делать нашему брату – мелким и жалким людишкам?
Сенат Марселя был вполне прав, удовлетворив ходатайство того горемыки, который просил разрешить ему покончить с собой, чтобы избавиться от грома и молний, извергаемых на него женою [244]; с этим злом и впрямь не разделаться, пока не разделаешься с тем, в чем оно коренится, – и тут не найти другого решения, кроме бегства или многострадального существования, хотя и первое и второе – вещи весьма тягостные.
Тот, кто сказал, что удачные браки заключаются только между слепою женой и глухим мужем, поистине знал толк в этих делах [245].
Подумаем над тем, не порождают ли крайне стеснительные и суровые обстоятельства, насильственно возлагаемые нами на женщин, последствия двоякого рода, равно противоположные нашей цели, а именно: не распаляют ли они любителей прекрасного пола и не толкают ли женщин сдаваться с большею легкостью на их домогательства; ибо, что касается первого, то чем выше мы ценим крепость, тем сильнее жаждем овладеть ею и тем выше оцениваем победу. И не сама ли Венера хитроумно набила цену на свой товар, столкнувшись с законами, чтобы они объявили его запретным, хорошо зная, до чего пресны наслаждения тех, кто не умеет сдабривать их фантазией и придавать им пряность? В конце концов, лишь подливка разнообразит все ту же свинину, как говорил хозяин Фламиния [246]. Купидон – вероломный бог: он забавляется, совращая благочестие и справедливость; его слава на том и основывается, что его могущество сокрушает любое другое могущество и что никто не смеет противиться его законам.
Materiam culpae prosequiturque suae. [247]
Что до второго, то не носили ли бы мы меньше рогов, если бы меньше страшились их, раз уж женщины устроены таким образом, что запретное лишь разжигает и манит их?
Ubi velis, nolunt; ubi nolis, volunt ultro; [248]
Concessa pudet ire via. [249]
Какое лучшее истолкование могли бы мы дать поведению Мессалины? [250] Вначале она наставляла своему супругу рога тишком и тайком, как это обычно проделывается. Но, заводя свои связи, вследствие его тупости, с чрезмерной легкостью и простотой, она вскоре прониклась презрением к своему образу действий. И вот она стала расточать свою любовь безо всякой опаски, не скрывать имена любовников, содержать их и оказывать им благосклонность на глазах всех и каждого. Ей хотелось расшевелить своего мужа. Но это животное, несмотря ни на что, не могло пробудиться от своей спячки, и когда ее наслаждения на стороне сделались вялыми и потускнели из-за той постыдной беспечности, с какою, казалось, он им попустительствовал и узаконивал их, как же она поступила? Жена императора, при живом и здоровом муже, и притом в Риме, перед всем светом, во время торжеств по случаю народного празднества, она среди бела дня, в полуденный час, когда ее муж был вне города, сочеталась браком, и притом с Силием, с которым у нее давно была близость. Нельзя ли предположить, что из-за равнодушия мужа она в конце концов стала бы целомудренной или нашла бы другого мужа, который своей ревностью распалил бы в ней страсть к нему и, донимая ее, возбуждал? Но первое препятствие, которое она встретила, оказалось и последним. Это животное внезапно проснулось. Шутки с такими тугоухими бывают нередко плохими. Мне самому довелось видеть, как доведенное до столь крайних пределов терпение, когда оно лопается, сменяется необузданной мстительностью, ибо, вспыхивая в мгновенье ока, гнев и бешенство, сплетаясь в один клубок, обрушиваются всеми своими силами на первое, что попадается на их пути,
irarumque omnes effundit habenas. [251]
Он приказал ее умертвить, а вместе с нею и всех тех, с кем она зналась, и среди них даже такого, который перестал быть мужчиной и которого она загоняла к себе на ложе только хлыстом.
Рассказанное Вергилием о Венере и Вулкане рассказал в более благопристойных словах и Лукреций, повествующий о ее тайных любовных утехах с Марсом:
belli fera moenera Mavors
Armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se
Reiicit, aeterno devinctus vulnere amoris:
Pascit amore avidos inhians in te, dea, visus,
Eque tuo pendet resupini spiritus ore.
Hunc tu, diva, tuo recubantem corpore sancto
Circumfusa super, suaves ex ore loquelas
Funde. [252]
Когда я перебираю в памяти эти reiicit, pascit, inhians, molli, fovet, medullas, labefacta, pendet, percurrit и это благородное circumfusa, мать прелестнейшего infusus [253], я испытываю презрение к тем мелочным выкрутасам и словесным намекам, которые появились позднее. Этим славным людям минувших времен не требовалось острых и изысканных выдумок; их язык полнится и переливается через край естественной и неиссякаемой мощью; все у них – эпиграмма; все, а не только хвост, – и голова, и желудок, и ноги. Ничто здесь не притянуто за волосы, ничто не волочится, – все выступает размеренным шагом. Contextus totus virilis est; non sunt circa flosculos occupati [254]. Это не вялое красноречие, которое всего лишь терпимо, но могучее и убедительное, – оно не столько нас услаждает, сколько воодушевляет и увлекает, и больше всего увлекает умы наиболее сильные. Когда я присматриваюсь к столь примечательным способам выражаться так живо и глубоко, я не называю это «хорошо говорить», но называю «хорошо мыслить». Неукротимость воображения – вот что возвышает и украшает речь. Pectus est quod disertum facit [255]. Наши люди зовут голое суждение – речью и остроумием – плоские измышления. Но картины древних обязаны своей силой не столько ловкой и искусной руке, сколько тому, что изображаемые ими предметы глубоко запечатлелись в их душах. Галл говорит просто, потому что и мыслит просто [256]. Гораций никоим образом не довольствуется поверхностными, внешне красивыми выражениями; они предали бы его. Его взгляд яснее и проникает вещи насквозь; его ум обыскивает и перерывает весь запас слов и образов, чтобы облечься в них; и они ему нужны не обыденные, потому что не обыденны и творения его мысли. Плутарх говорил, что он видит латинский язык через вещи; здесь то же самое: разум освещает и порождает слова – не подбитые ветром, но облеченные плотью. Они обозначают больше того, что высказывают. Даже самые заурядные люди имеют об этом кое-какое смутное представление: так, например, в Италии я говорил все, что мне вздумается, в обычных беседах по-итальянски; но что касается предметов глубокомысленных, тут я не решался довериться тому языку, которым я владел не настолько, чтобы выворачивать и сгибать его больше, чем нужно в обычном разговоре. Я хочу располагать возможностью вносить в свою речь кое-что и от себя.
Использование и применение языка великими умами придает ему силу и ценность; они не столько обновляют язык, сколько, вынуждая его нести более трудную и многообразную службу, раздвигают его пределы, сообщают ему гибкость. Отнюдь не внося в него новых слов, они обогащают свои, придают им весомость, закрепляют за ними значение и устанавливают, как и когда их следует применять, приучают его к непривычным для него оборотам, но действуя мудро и проницательно. Как редок подобный дар, можно убедиться на примере многих французских писателей нашего века. Они достаточно спесивы и дерзки, чтобы идти общей со всеми дорогой, но недостаток изобретательности и скромности безнадежно их губит. У них мы замечаем лишь жалкие потуги на вычурность и напыщенность, холодную и нелепую, которые, вместо того чтобы возвысить их тему, только снижают ее. Гоняясь за новизной, они и не помышляют о выразительности и ради того, чтобы пустить в оборот новое слово, забрасывают обычное, порою более мужественное и хлесткое [257].
Я нахожу, что сырья у нашего языка вдосталь, хотя оно и не блещет отделкой; ведь чего только ни нахватали мы из обиходных выражений охоты и войны – этого обширного поля, откуда было что позаимствовать; к тому же, при пересадке на новую почву формы речи, подобно растениям, улучшаются и набираются сил. Итак, я нахожу наш язык достаточно обильным, но недостаточно послушливым и могучим. Под бременем сильной мысли, он, как правило, спотыкается. Когда, оседлав его, вы несетесь во весь опор, то все время ощущаете, что он изнемогает и засекается, и тогда на помощь вам приходит латынь, а иным – греческий. Среди слов, только что подобранных мной ради изложения этой мысли, найдутся такие, которые покажутся вялыми и бесцветными, так как привычка и частое обращение некоторым образом принизили и опошлили заложенную в них прелесть. Точно так же и в нашем обыденном просторечии попадаются великолепные метафоры и обороты, красота которых начинает блекнуть от старости, а краски тускнеть от слишком частого употребления. Но это не отбивает к ним вкуса у каждого, кто наделен острым чутьем, как не умаляет славу старинных писателей, которые, надо полагать, и придали этим словам их былой блеск.
Науки рассматривают изучаемые ими предметы чересчур хитроумно, и подход у них к этим предметам чересчур искусственный и резко отличающийся от общепринятого и естественного. Мой паж отлично знаком с любовью и кое-что разумеет в ней. Но почитайте ему Леона Еврея или Фичино [258]; у них говорится о нем, его мыслях, его поступках, но тут он решительно ничего не уразумеет. У Аристотеля я обычно не узнаю большинства свойственных мне душевных движений – их скрыли, перерядив применительно к потребностям школы. Да поможет им в этом бог! Но, занимайся я их ремеслом, я бы оприродил науку, как они онаучивают природу. Так оставим же в покое Бембо и Эквиколу [259]! Когда я пишу, то стараюсь обойтись без книг и воспоминаний о них, опасаясь, что они могут нарушить мой стиль изложения. Признаюсь к тому же, что хорошие авторы, можно сказать, отвлекают меня и отнимают у меня смелость. Я бы охотно последовал примеру того живописца, который, нарисовав как-то крайне неумело и беспомощно петухов, наказал затем своим подмастерьям не впускать в мастерскую ни одного живого представителя петушиного племени. И чтобы придать себе немного блеску, мне надлежало бы прибегнуть к уловке музыканта Антинонида, который, когда ему доводилось исполнять свою музыку, устраивал так, чтобы до него или после него собравшихся вдосталь потчевали пением скверных певцов [260].
Но отделаться от Плутарха мне гораздо труднее. Он до того всеобъемлющ и так необъятен, что в любом случае, за какой бы невероятный предмет вы ни взялись, вам не обойтись без него, и он всегда тут как тут и протягивает вам свою неоскудевающую и щедрую руку, полную сокровищ и украшений. Меня злит, что всякий обращаюшийся к нему бесстыдно его обворовывает, да и я сам, когда бы его ни навестил, не могу удержаться, чтобы не стянуть хотя бы крылышка или ножки.
Исходя из этих моих намерений, мне легче всего писать у себя, в моем диком краю, где ни одна душа не оказывает мне помощи и не поддерживает меня, где я обычно не вижусь ни с кем, кто понимал бы латынь своего молитвенника, а тем более по-французски. В другом месте я мог бы написать лучше, но мой труд был бы меньше моим, а его главнейшая цель и его совершенство в том именно и состоят, чтобы быть моим, и только моим. Я с готовностью исправляю случайно вкравшуюся ошибку, которых у меня великое множество, так как я несусь вперед, не раздумывая; но что касается несовершенств, для меня обычных и постоянных, то отказываться от них было бы просто предательством. Допустим, что мне сказали бы или я сам себе сказал: «Ты слишком насыщен образами. Вот словечко, от которого так и разит Гасконью. Вот опасное выражение (я никоим образом не избегаю тех выражений, которые в ходу на французских улицах: силящиеся побороть с помощью грамматики принятое обычаем занимаются пустым и бесплодным делом). Вот невежественное суждение. А вот суждение, противоречащее себе самому. А вот слишком шалое (ты частенько дурачишься; сочтут, что ты говоришь в прямом смысле, тогда как ты шутишь)». На это я бы ответил: «Все это верно, но я исправляю лишь те ошибки, в которых повинна небрежность, но не те, что свойственны мне, так сказать, от природы. Разве я говорю тут иначе, чем всюду? Разве я изображаю себя недостаточно живо? Я сделал то, чего добивался: все узнали меня в моей книге и мою книгу – во мне».
Но у меня есть склонность обезьянничать и подражать: когда я силился писать стихи (а я никогда не писал других, кроме латинских), от них ясно отдавало последним поэтом, которого я читал, и кое-какие из моих первых опытов изрядно попахивают чужим. В Париже я говорю на несколько ином языке, чем в Монтене. Кого бы я пристально ни рассматривал, я неизбежно запечатлеваю в себе кое-что от него. Все, что я наблюдаю, то и усваиваю: нелепую осанку, уродливую гримасу, смешные способы выражаться. Так же пороки: и поскольку они, приставая ко мне, цепляются за меня, я бываю вынужден стряхивать их. И клятвенные выражения я употребляю чаще из подражания, чем по склонности.
Итак, мне свойственна эта пагубная черта, такая же, как у тех страшных своею величиной и силою обезьян, с которыми царь Александр столкнулся в одной из областей Индии. Избавиться от них было бы крайне трудно, если бы своей страстью перенимать все, что делалось перед ними, они сами не доставили удобного средства к этому. Открыв его, охотники принялись надевать у них на виду свою обувь, стягивая ее изо всей силы и завязывая ремешки глухими узлами, закреплять свои головные уборы множеством скользящих завязок и притворно мазать себе глаза клеем, который употребляют для ловли птиц. И вот обезьяньи повадки обрекли этих неразумных и несчастных тварей на гибель. Они сами себя заклеили, сами себя взнуздали и сами себя удушили [261]. Что до способности намеренно воспроизводить чужие движения и чужой голос, – а это нередко доставляет удовольствие окружающим и вызывает их восхищение, – то ее во мне не больше, чем в любом полене.
Когда я клянусь на свой собственный лад, то не употребляю ничего, кроме «ей-богу», что, по-моему, самая сильная клятва изо всех существующих. Говорят, что Сократ клялся псом, а Зенон прибегал к тому самому выражению, которое и посейчас принято у итальянцев, – я имею в виду «Cappari!»; Пифагор клялся водою и воздухом [262].
Я до того восприимчив, совершенно не отдавая себе в этом отчета, к внешним и поверхностным впечатлениям, что если три дня подряд у меня не сходило с уст «ваше величество» или «ваше высочество», то еще с добрую неделю они будут срываться с них вместо «вашей светлости» или «вашей милости». И что я примусь говорить в шутку или ради забавы, то на следующий день я скажу совершенно всерьез. Вот почему я с большой неохотой пользуюсь в моих сочинениях простыми доводами и доказательствами – я страшусь, как бы они не были позаимствованы мной у других. Всякий довод для меня одинаково плодотворен. Я извлекаю их из любой безделицы – и да пожелает господь, чтобы и те, которыми я сейчас пользуюсь, не были подхвачены мною по внушению столь своенравной воли. И что из того, что я начинаю с тех доводов, которые мне почему-либо понравились; ведь все, о чем бы я ни говорил, связано друг с другом неразрывными узами.
Но я недоволен моею душой, потому что все свои наиболее глубокие мысли, наиболее дерзкие и больше всего захватывающие меня, она порождает, как правило, неожиданно и тогда, когда я меньше всего гоняюсь за ними; эти мысли приходят внезапно и в таких местах, где я не могу их закрепить; они настигают меня, когда я на коне, за столом, в постели, но больше всего, когда я еду верхом и веду сам с собой наиболее продолжительные беседы. Моя речь несколько щепетильна и нуждается во внимании и тишине, если я говорю о чем-либо важном: кто прерывает меня, тот вынуждает замолчать. В путешествии необходимость следить за дорогой пресекает беседу; к тому же я чаще всего путешествую без попутчиков, способных поддержать связные разговоры; вот почему у меня в пути бывает сколько угодно досуга беседовать с собою самим. И тут происходит то же, что и с моими снами; видя сны, я препоручаю их моей памяти (я то и дело вижу во сне, что мне снится сон), но назавтра я могу представить себе не более, чем их краски – веселые, или грустные, или какие-то странные; но в чем, собственно, состояло содержание моих снов, сколько бы я ни силился установить, я все глубже погружаюсь в забвение. Так же обстоит дело и с этими случайными, западающими в мою фантазию мыслями; у меня в памяти запечатлевается лишь их расплывчатый образ, который только побуждает меня к тщетным попыткам восстановить забытое и бессильно досадовать на самого себя.
Итак, оставив в стороне книги и переходя к вещам более осязательным и простым, я нахожу, что любовь, в конце концов, не что иное, как жажда вкусить наслаждение от предмета желаний, а радость обладания – не что иное, как удовольствие разгрузить свои семенные вместилища, и что оно делается порочным только в случае неумеренности или нескромности.
Для Сократа любовь – это стремление к продолжению рода при посредстве и с помощью красоты. Но если обдумать все: забавные содрогания, неотделимые от этого удовольствия, нелепые, дикие и легкомысленные телодвижения, на которые оно толкает даже Зенона или Кратиппа [263], непристойную одержимость, нашу ярость и жестокость, искажающие лицо человека в самые сладостные мгновения любви, и затем какую-то непреклонную, суровую, исступленную важность при выполнении столь пустых действий, а также то, что здесь вперемешку свалены и наши восторги и отбросы нашего тела и что высшее наслаждение связано с обмиранием и стонами, как при страдании, – я считаю, что Платон прав, утверждая, что человек – игрушка богов [264],
[quaenam] ista iocandi
Saevitia! [265]
и что природа, насмешки ради, оставила нам это самое шалое и самое пошлое из наших занятий, дабы таким способом сгладить различия между нами и уравнять глупого с мудрым и нас с животными. И когда я представляю себе за таким делом самого вдумчивого и благонравного человека, он начинает казаться мне наглым обманщиком, выдающим себя за вдумчивого и благонравного; это ноги павлина, принижающие его величие:
ridentem dicere verum
Quid vetat? [266]
Кто, предаваясь забавам, отметает от себя серьезные мысли, те, как сказал кто-то, похожи на боящихся приложиться к фигуре святого, если она не прикрыта набедренною повязкой.
Мы едим и пьем совсем как животные, однако это такие занятия, которые не препятствуют деятельности нашей души. В этом мы сохраняем преимущество перед ними; но что до занятия, являющегося предметом нашего рассмотрения, то оно сковывает всякую мысль, затемняет и грязнит данной ему над нами безграничною властью все высокоумное и возвышенное, что только ни есть у Платона в его теологии и философии, и тот все же ничуть на это не жалуется. Во всем другом вы можете соблюдать известную благопристойность; все прочие ваши занятия готовы подчиниться правилам добропорядочности, но это – его и представить себе нельзя иначе, как распутным или смешным. Попытайтесь-ка, ради проверки, найти в нем хоть что-нибудь разумное или скромное! Александр говаривал, что оно-то, главным образом, да еще потребность во сне побуждают его признавать себя смертным; сон гасит и подавляет способности нашей души; половое сближение также рассеивает и поглощает их. И оно, разумеется, – свидетельство не только нашей врожденной испорченности, но и нашей суетности и нашего несовершенства.
С одной стороны, природа, связав с этим желанием самое благородное, полезное и приятное изо всех своих дел, толкает нас на сближение с женщинами; однако, с другой стороны, она же заставляет нас поносить его, и бежать от него, и видеть в нем нечто постыдное и бесчестное, и краснеть, и проповедовать воздержание.
Ессеи [267], как сообщает Плиний [268], обходились на протяжении многих столетий без кормилиц и без пеленок, что было, впрочем, возможно благодаря притоку к ним чужестранцев, которых привлекали их простые и благочестивые нравы и которые постоянно пополняли их численность. То был целый народ, предпочитавший скорее исчезнуть с лица земли, чем оскверниться в объятиях женщин, и скорее потерять сонмы людей, чем зачать хоть одного человека. Передают, что Зенон лишь один-единственный раз имел дело с женщиной, да и то, можно сказать, из вежливости, дабы о нем не подумали, что он упорный ненавистник этого пола [269]. Всякий избегает присутствовать при рождении человека, и всякий торопится посмотреть на его смерть. Чтобы уничтожить его, ищут просторное поле и дневной свет; чтобы создать его – таятся в темных и тесных углах. Почитается долгом прятаться и краснеть, чтобы создать его, и почитается славой – и отсюда возникает множество добродетелей – умение разделаться с ним. Одно приносит позор, другое – честь, и получается совсем как в том выражении, которое, как говорит Аристотель, существовало в его стране и согласно которому оказать кому-нибудь благодеяние означало убить его.
Афиняне, дабы подчеркнуть, что они испытывают равную неприязнь как к первому, так и к второму, и стремясь освятить остров Делос и оправдаться пред Аполлоном, воспретили в пределах этого острова и роды и погребения [270].
Nostri nosmet poenitet. [271]
Наше существование мы считаем порочным.
Известны народы, у которых принято есть, накрывшись [272]. Я знаю одну даму – и из самого высшего круга, – которая уверяет, что смотреть на жующих малоприятно и что при этом они очень теряют в привлекательности и красоте, так что на людях она крайне неохотно притрагивается к пище. И я знаю одного человека, который не выносит ни вида едящих, ни того, чтобы кто-нибудь видел его за едой, и он больше избегает чьего-либо присутствия, когда наполняет себя, чем когда облегчается.
В империи Султана можно встретить множество людей, которые, дабы возвыситься над остальными, насыщаются так, чтобы никто их при этом не видел, и они делают это всего раз в неделю; которые раздирают и надрезывают себе лицо и другие части своего тела; которые никогда ни с кем не перемолвятся ни единым словом, – все это люди, считающие, что они воздают честь своему естеству, лишая его естественности, возвыщаются, уничижаясь, и улучшаются, портя себе жизнь [273].
Но до чего же чудовищно животное, которое внушает ужас самому себе, которому его удовольствия тягостны и которое по собственной воле обрекает себя несчастьям!
Есть и такие, которые таят свою жизнь,
Exilioque domos et dulcia limina mutant, [274]
и прячут ее от других, которые бегут от здоровья и веселости, как от качеств злостных и пагубных. И не только немало сект, но и немало народов проклинает свое рождение и осыпает благословеньями смерть. Есть и такой народ, которому солнце представляется отвратительным и который поклоняется мраку [275].
Мы щедры на выдумки лишь в одном, а именно, как бы причинить себе зло, и оно, поистине, дичь, гонясь за которой, мы растрачиваем силы своего ума, этого опасного орудия нашей беспутности!
О miseri! quorum gaudia crimen habent. [276]
О несчастный человек! У тебя и так достаточно неотвратимых невзгод, а ты еще умножаешь их надуманными; ты и так достаточно жалок, незачем тебе умышленно делать свою участь еще более жалкой. У тебя более чем довольно ощутительных и самых что ни на есть настоящих уродств, чтобы создавать вдобавок и воображаемые. Ужели ты мнишь, что слишком благоденствуешь, если к твоему благоденствию не примешивается неудовольствие? Ужели ты мнишь, что выполнил все обязанности, которые на тебя возложила природа, и что она покинет тебя или перестанет тебя направлять, если ты не возьмешь на себя новых? Ты ничуть не страшишься преступать ее бесспорные и всеобъемлющие законы и цепляешься за свои собственные, фантастические и личные, и чем причудливее, туманнее и противоречивей эти законы, тем больше ты силишься следовать им. Непреклонные правила, которые ты сам изобрел, и правила, принятые в твоем приходе, владеют тобой и связывают тебя, но божественные установления и законы всего мироздания нисколько тебя не трогают. Окинь взглядом примеры, подтверждающие эти мои слова: в них – вся твоя жизнь.
Стихи двух поэтов, повествующих о любострастии со свойственной им сдержанностью и скромностью [277], раскрывают, как мне кажется, и освещают его с возможною полнотой. Дамы прикрывают грудь кружевами, священники набрасывают покровы на многие предметы священной утвари, художник накладывает тени на произведения, созданные его искусством, чтобы тем ярче заиграл на них свет, и, как говорят, лучи солнца и дуновения ветра наделены большей силою не тогда, когда они прямые, как нитка, но когда они преломляются. Один египтянин мудро ответил тому, кто спросил его: «Что ты прячешь там под плащом?!» – «Потому-то оно и спрятано под плащом, чтобы ты не знал, что там такое» [278]. Но существуют иные вещи, которые только затем и прячут, чтобы их показать. Послушайте-ка вот этого: он не в пример откровеннее,
Et nudam pressi corpus adusque meum [279].
да я читаю эти слова, точно бесполое существо. Сколько бы Марциал ни задирал Венере подол, ему все равно не показать ее в такой наготе. Кто говорит все без утайки, тот насыщает нас до отвала и отбивает у нас аппетит; кто, однако, боится высказать все до конца, тот побуждает нас присочинять то, чего нет и не было. В скромности этого рода таится подвох, и он-то выводит нас, как эти двое [280], на упоительную дорогу воображения. И в делах любви и в изображении их должна быть легкая примесь мошенничества.
Мне нравится любовь у испанцев и итальянцев; она у них более почтительная и робкая, более чопорная и скрытная. Не знаю, кто именно заявил в древности, что ему хочется иметь глотку такую же длинную, как журавлиная шея, дабы он мог подольше наслаждаться тем, что глотает. Подобное желание, по-моему, еще уместнее, когда дело идет о столь бурном и быстротечном наслаждении, как любовное, и особенно у людей вроде меня, склонных к поспешности. Чтобы задержать и продлить удовольствие в предвкушении главного, испанцы и итальянцы используют все, что усиливает взаимную благосклонность и взаимное влечение любящих: взгляд, кивок головой, слово, украдкой поданный знак. Кто обедает запахом жаркого и ничем больше, не сберегает ли груду добра? Ведь это такая страсть, в которой существенного и осязательного самая малость, а все остальное – суетность и лихорадочный бред; отплачивать и служить ей следует тем же. Так давайте научим дам набивать себе цену, относиться к себе самим с уважением, доставлять нам развлечение и плутовать с нами. Мы начинаем с того, чему подобает быть завершением, и здесь, как повсюду, – причина в нашей французской стремительности. Затягивая милости дам и смакуя каждую такую милость в подробностях, любой из нас, вплоть до печальной и жалкой старости, будет располагать, в меру своих сил и достоинств, хоть каким-нибудь их лоскутком. Но кто не знает других наслаждений, кроме этого наслаждения, кто жаждет лишь сорвать банк, кто любит охоту лишь ради добычи, тому незачем идти в нашу школу. Чем больше пролетов и ступеней на лестнице, тем выше и почетнее место, которого вы достигаете, поднявшись по ней. Нам должно нравиться, когда нас ведут, как это бывает в великолепных дворцах, через всевозможные портики и переходы, длинные и роскошные галереи, делая множество поворотов. Это отвлечение идет нам на пользу; мы задерживаемся и любим дольше; без надежд и желаний мы не доберемся ни до чего стоящего. Нет для женщины ничего опаснее и страшнее, чем наше господство и безраздельное обладание ею: едва они отдают себя во власть нашей честности и нашего постоянства, как их доля делается сомнительной и незавидной. Это – добродетели редкие, и соблюдать их до крайности трудно; как только женщина становится нашей, мы перестаем ей принадлежать.
Postquam cupidae mentis satiata libido est
Verba nihil metuere, nihil periuria curant. [281]
И юноша-грек Фрасонид был настолько влюблен в свою собственную любовь, что, завоевав сердце возлюбленной, не пожелал насладиться ею из опасения убить, насытить и угасить наслаждением то беспокойное горение страсти, которым он так гордился и которое питало его [282].
Лакомствам придает вкус их цена. Заметьте, насколько ныне принятый способ здороваться, особенно распространенный в нашем народе, снизил, ввиду их доступности, значение и очарование поцелуев, о которых Сократ говорит, что они так всесильны и так легко похищают наши сердца [283]. Пренеприятный и наносящий оскорбление дамам обычай – подставлять свои губы всякому, кого сопровождает трое лакеев, как бы противен он ни был,
Cuius livida naribus caninis
Dependet glacies rigetque barba:
Centum occurrere malo culilingis. [284]
Да и мы, мужчины, ничего от него не выигрываем, ибо, – так уже устроен мир, – чтобы поцеловать трех красавиц, надо проделать то же самое с полусотней дурнушек. А для желудка нежного и чувствительного, каков он у людей моего возраста, невкусный поцелуй обходится много дороже вкусного.
В Италии находятся поклонники и воздыхатели даже у тех, кто торгует собою, и эти влюбленные в свое оправдание говорят следующее: в наслаждении может быть несколько степеней, и своими ухаживаниями они жаждут добиться той, где оно наиболее самозабвенно и целостно. Женщины эти торгуют только своим телом; волю их невозможно пустить в продажу, она для этого слишком независима и своенравна. Таким образом, их поклонники заявляют, что хотят завоевать волю, и их желание вполне обоснованно. Именно за волей нужно ухаживать, именно ее нужно пленять. Я не могу представить себе без содрогания свое тело свободным от всякого чувства влюбленности, и мне кажется, что подобное исступленное и голое вожделение мало чем отличается от вожделения юноши, набросившегося в любовном чаду на чудесное изваяние Венеры, созданное Праксителем [285], или от вожделения того бешеного египтянина, который воспылал страстью к трупу, отданному ему для бальзамирования и облачения в погребальное одеяние, – последнее и дало повод к обнародованию закона, введенного позднее в Египте и содержавшего в себе предписание выдерживать трое суток трупы молодых и красивых женщин, а также женщин знатного рода и лишь после этого доверять их тем, кому будет поручено приготовить их к погребению [286]. А Периандр – его поступок еще чудовищнее, ибо, охваченный супружеским влечением (более упорядочным и правомерным), он наслаждался и со своей покойной женою Мелиссой [287].
Не является ли подлинно лунатической причудой Луны то, что она, не имея возможности наслаждаться с Эндимионом, своим милым, усыпила его на несколько месяцев, чтобы трепетать от счастья с юношей, содрогавшимся только во сне? [288].
Равным образом, я утверждаю, что любить тело без его согласия и желания – то же самое, что любить тело без души или без чувств. Наслаждение никоим образом не одинаково: бывают наслаждения, так сказать, чахоточные и чахлые: тысячи других причин, кроме благоволения, могут доставить нам эту снисходительность женщин. Она не может быть сочтена достаточным свидетельством их влечения; в ней может таиться предательство, как и во всем остальном; порою они участвуют в любовном соитии только своими бедрами и ничем больше,
tanquam thura merumque parent:
Absentem marmoreamve putes. [289]
Я знаю таких, которые предоставляют вам это охотнее, чем свою карету, и которые не знают других видов общения, кроме этого. Нужно выяснить, нравится ли им ваше общество еще чем-нибудь, или вы нужны им только для этого, как какой-нибудь здоровенный конюх, и как они к вам относятся, и насколько вас ценят,
tibi si datur uni,
Quo lapide illa diem candidiore notet. [290]
А что, если она насыщается вашим хлебом, сдабривая его вкусной подливкой, изготовленной ее воображением?
Те tenet, absentes alios suspirat amores. [291]
Не видели ли мы в наши дни кое-кого, кто использовал любовные ласки, чтобы свершить ужасную месть, чтобы отравить и убить в эти мгновения, как он и сделал, честную и ни в чем не повинную женщину?
Кто знает Италию, те никогда не сочтут странным, если я не стану отыскивать для своей темы примеры в каком-нибудь ином месте, ибо в делах этого рода она ведет, можно сказать, за собою весь мир. Женщины Италии чаще всего хороши собою, и безобразных там меньше, чем среди нас; но что касается редкостных и совершенных красавиц, в этом отношении, по-моему, у нас с нею полное равенство. То же я думаю и об уме итальянцев. Умов, скроенных на обычный лад, у них много больше, да и грубости у них несомненно не в пример меньше нашего; но что касается душ необыденных и вознесенных высоко над всеми другими, то в этом мы им не уступим. Если б мне нужно было распространить это сравнение и на все остальное, я мог бы сказать, кажется, что доблесть, напротив, по их же оценке, у нас повсеместна и дана нам от природы; зато у них ее видишь порою такой законченной и неодолимой, что она превосходит все те примеры, которые мы могли бы найти у себя. Браки в этой стране, однако, прихрамывают, и вот в чем их слабость: итальянские нравы обычно предписывают женщинам законы такие суровые и до того рабские, что даже самое далекое знакомство с кем-нибудь посторонним карается у них так же строго, как и самое близкое. От этого проистекает, что всякое сближение поневоле становится у них любовною связью, и так как за все в равной мере нужно держать ответ, они не очень-то колеблются в выборе. И если такая-то преступила эти границы, то знайте, что она вся в огне: luxuria ipsis vinculis, sicut fera bestia, irritata, deinde emissa [292]. Нужно немножко ослабить поводья, на которых их держат:
Vidi ego nuper equum, contra sua frena tenacem,
Жажда общения заметно ослабевает, если ей предоставить хоть некоторую свободу.
Мы подвергаемся почти такой же опасности, как итальянцы. Они доходят до крайностей в стеснении своих женщин, мы – в предоставлении им свободы. У нашего народа есть хороший обычай, состоящий в том, что наших детей принимают в богатые и знатные семьи пажами, дабы растить их там и воспитывать в своего рода школе знатности и благородства. И отказать дворянину в этом – как говорят, вопиющая нелюбезность и оскорбление. Я заметил (ибо в каждом доме свои порядки и нравы), что дамы, пожелавшие предписать состоящим в их свите девицам наиболее строгие правила, добились этим не очень-то многого. Здесь требуется умеренность; определяя, как им подобает себя вести, нужно во многом полагаться на их собственную скромность, ибо, как ни старайся, нет такой дисциплины, которая могла бы обуздать их во всем. Но верно и то, что девица, которой посчастливилось, пройдя свободное воспитание, ускользнуть от соблазнов и сохранить целомудрие, внушает гораздо больше доверия, нежели та, которую такая же школа сделала суровой и неприступной.
Наши отцы стремились добиться благопристойного поведения своих дочерей, вселяя в них стыдливость и страх (впрочем, их сердца и желания были такими же), а мы – дерзость, ибо в этих вещах мы решительно ничего не смыслим. Это пристало каким-нибудь савроматам, у которых женщине дозволялось лечь вместе с мужчиною лишь после того, как она своими руками убьет на войне мужчину [294]. Что до меня, чьи права покоятся только на их добром желании выслушивать мое мнение, то я буду доволен, если женщины станут обращаться ко мне как к советчику, принимая во внимание привилегии моего возраста. И я посоветую им (как и нам) воздержность; но поскольку наш век с нею в таких неладах, пусть женщины не нарушают, по крайней мере, благопристойности и приличий. Ибо, как повествуется в рассказе об Аристиппе, он ответил тем юношам, которым стало за него стыдно, когда они увидели его входящим к гетере: «порок в том, чтобы не выходить отсюда, а не в том, чтобы сюда войти» [295]. Кто не хочет сохранять в чистоте свою совесть, пусть сохранит незапятнанным хотя бы имя: если сущность не заслуживает доброго слова, пусть стоит его хотя бы внешность.
Я одобряю тех женщин, которые жалуют нам свои милости постепенно и растягивая их на длительный срок. Платон говорит, что во всяком виде любви доступность и готовность не приличествуют тем, кого домогаются [296]. Если женщины сдаются с легкостью и поспешностью, не оказывая сопротивления, – это свидетельствует об их жадности к наслаждению, а им подобает скрывать ее со всем их искусством и ловкостью. Распределяя свои дары умеренно и последовательно, они гораздо успешнее распаляют наши желания и прячут свои. Пусть они всегда убегают от нас, и даже те среди них, кто не прочь позволить себя поймать, – они верней побеждают нас, убегая, как делали скифы. И действительно, в соответствии с теми особенностями, которыми их наделила природа, им не дано выражать свои чаянья и желания, – их доля терпеть, подчиняться и уступать; вот почему природа вложила в них никогда не угасающее влечение, у нас сравнительно редкое и достаточно смутное; их час бьет в любое мгновение, дабы они были неизменно готовы, когда бы ни пробил наш, – pati natae [297]. И пожелав, чтобы наше вожделение выказывало и явно выражало себя, природа сделала так, чтобы у них оно таилось внутри, и снабдила их ради этого органами, неспособными его обнаруживать и пригодными лишь к обороне.
Настойчивость в делах подобного рода подобает лишь свободе, царившей в племени амазонок. Александр, проходя по Гиркании, встретился с царицею амазонок Фалестрис, поспешившей к нему с тремястами воинов своего пола – на отличных конях и отлично вооруженных, – опередив все свое сильное войско, которое следовало за ней и находилось по ту сторону ближних гор. Она прямо и открыто сказала, что слух о его победах и доблести привел ее в эти места, чтобы увидеть его и предложить ему все, в чем он нуждается, а также свое могущество, и оказать ему таким образом помощь в его предприятиях; и что, увидев его столь прекрасным, юным и мощным, она, столь же совершенная, советует ему разделить с нею ложе, дабы от самой доблестной в мире женщины и самого доблестного из всех ныне живущих мужчин родилось для будущего нечто великое и поистине редкостное. Александр поблагодарил ее за все остальное и, согласившись исполнить последнюю из ее просьб, остановился тут на тринадцать дней, и пировал в течение этого срока так весело и беззаботно, как только мог, в честь столь смелой властительницы [298].
Мы почти во всем – несправедливые судьи совершаемых женщинами поступков, как они – наших. Я признаюсь в истине, когда она мне во вред, ничуть не меньше, чем когда она мне на пользу. Отвратительное распутство – вот что так часто заставляет женщин менять возлюбленных и мешает им сосредоточить свое чувство на ком-либо одном, кем бы он ни был, как мы это видим на примере той самой богини, которой приписывается столько измен и дружков [299]; но, с другой стороны, верно и то, что природа любви не терпит, чтобы она была лишена пылкости, а природа пылкости – чтобы любовь была прочной. И те, кто удивляется этому, сокрушается по этому поводу и выискивает причины этой болезни в женщинах, считая ее чем-то противоестественным и поразительным, почему-то не видят, до чего часто они сами заражаются ею, нисколько не пугаясь ее и не находя в ней ничего необычного! Было бы, пожалуй, более странным, если бы любовь могла оставаться неизменною: ведь это не просто телесная страсть; если нет предела алчности и честолюбию, то точно так же нет предела и распутству. Оно не прекращается с пресыщением, и ему нельзя предписать, чтобы оно удовлетворилось раз навсегда, как нельзя положить ему навеки предел: оно неизменно влечется к тому, что вне его власти, и, пожалуй, женщинам оно в некоторой мере простительнее, чем нам. Они могут ссылаться в свое оправдание, наравне с нами, на свои склонности, такие же, как у нас, на потребности в разнообразии и новизне, но, кроме того, и на то, на что мы ссылаться не можем, а именно, что они, как говорится, покупают кота в мешке (Иоанна, неаполитанская королева, повелела удавить своего первого мужа Андреаццо на решетке окна своей спальни изготовленным ею собственноручно шнурком из золотых и шелковых нитей, и все из-за того, что не обнаружила в нем на супружеском ложе ни силы, ни усердия, которые отвечали бы упованиям, возникшим в ней при виде его прекрасного стана, красоты, молодости и прочих особенностей телосложения – всего того, что пленило и обмануло ее [300]). Наконец, они могут сказать, что действовать всегда много труднее, чем терпеть я оставаться в бездействии, и если их не пугают трудности, то это, по крайней мере, вызвано необходимостью, тогда как у нас дело может обстоять совсем по-иному. Именно по этой причине Платоновы законы мудро повелевают, чтобы судьи, заботясь о прочности браков, подвергали осмотру собирающихся жениться юношей раздетыми донага, а девушек обнаженными только до пояса [301].
Испытав наши объятия, женщины порой находят, что мы недостойны быть их избранниками,
Experta latus, madidoque simillima loro
Inguina, nec lassa stare coacta manu,
Deserit imbelles thalamos. [302]
Не все зависит от воли, сколь бы добропорядочной она ни была. Мужское бессилие и недостаточность служат законными поводами к разводу:
Et quaerendum aliunde foret nervosius illud,
Quod posset zonam solvere virgineam, [303]
а почему бы и нет? Почему бы в соответствии со своими потребностями женщине не искать возлюбленного более проницательного, жадного и неутомимого,
si blando nequeat superesse labori. [304]
Но не величайшее ли бесстыдство приносить наши слабости и недостатки туда, где мы жаждем понравиться и оставить по себе хорошее мнение и добрые воспоминания? Несмотря на ничтожность того, что мне ныне нужно,
ad unum
Mollis opus, [305]
я не хотел бы вызвать досаду в той, перед кем мне полагается благоговеть и чьего неудовольствия я должен страшиться:
Fuge suspicari,
Cuius undenum trepidavit aetas
Claudere lustrum. [306]
Природе надлежало бы ограничиться тем, что она сделала пожилой возраст достаточно горестным, и не делать его к тому же еще и смешным. Мне противно смотреть на того, кто, обретая трижды в неделю жалкую крупицу любовного жару, суетится и петушится в этих случаях с такою горячностью, как если бы ему предстоял целый день доблестных и великих трудов, – настоящий пороховой шнур, да и только. И я дивлюсь на его горение, столь бурное и стремительное, которое, однако, мгновенно сникает и гаснет. Этому безудержному влечению подобало бы быть принадлежностью лишь цветущей поры нашей неповторимой юности. Попытайтесь-ка ради проверки поддержать этот пылающий в вас неутомимый, яркий, ровный и жгучий огонь, и вы убедитесь, что он изменит вам посередине дороги и в самую решительную минуту! Лучше дерзко несите его к какой-нибудь хрупкой юной девице-полуребенку, испуганной и неопытной в этих делах и все еще дрожащей и краснеющей, лежа в ваших объятиях,
Indum sanguineo veluti violaverit ostro
Si quis ebur, vel mista rubent ubi lilia multa
Alba rosa. [307]
Но кто сможет дождаться рассвета и не умереть от стыда, прочитав презрение в этих прекрасных глазах – свидетелях вашей подлости и наглой самоуверенности.
Et taciti fecere tamen convitia vultus, [308]
тот никогда не ощущал удовлетворения и гордости собою самим от того, что его усердие и неутомимое рвение в минувшую ночь заставило их померкнуть и потускнеть. Когда я замечал, что та или иная моя подруга начинает мной тяготиться, я не торопился обвинять ее в легкомыслии; я принимался раздумывать, нет ли у меня оснований обижаться скорей на природу. Это, конечно, она обошлась со мной несправедливо и нелюбезно,
Si non longa satis, si non bene mentula crassa:
Nimirum sapiunt, videntque parvam
Matronae quoque mentulam illibenter [309],
и нанесла мне величайший ущерб.
Любая моя принадлежность в такой же мере является частичкою моего «я», как и все остальное. И никакая другая не делает меня мужчиною в подлинном смысле слова больше, чем эта.
Я должен нарисовать для читателей мой портрет во всех частностях и подробностях. Вся мудрость моих наставлений – в их правдивости, независимости, существенности; презирая мелочные, надуманные, обиходные и никчемные правила, она не находит их для себя обязательными; она целиком естественна, неизменна, всеобъемлюща; учтивость и церемонность – лишь побочные ее дочери. Мы легко одолеем внешние недостатки, если победим внутренние. А разделавшись с ними, примемся за какие-нибудь другие, если решим, что от них нужно избавиться. Ведь существует опасность, что, стремясь извинить наше пренебрежение своими естественными обязанностями, мы измыслим для себя новые и постараемся свалить те и другие в общую кучу. А что дело обстоит именно так, подтверждается тем, что в местах, где проступки считаются преступлениями, преступления считаются не более чем проступками и что народы, у которых законы благоприличия менее многочисленны и более снисходительны, нежели принятые у нас, не в пример лучше нашего соблюдают законы естественные и всеобщие, ибо бесчисленное множество обременяющих нас обязанностей подавляет, изматывает и сводит на нет наше старание. Приверженность к малым делам отвлекает нас от насущно необходимых. До чего же путь, избранный этими безмятежными и бесхитростными людьми, легче и похвальнее нашего! Ведь все, чем мы прикрываемся и чем платим друг другу дань, – бесплотные тени. А ведь судье, великому и всесильному, срывающему с наших срамных мест тряпье и лохмотья и не брезгающему смотреть на нас в чем мать родила, как и на наши испражнения, мы не платим никакой дани и тем самым умножаем свой долг перед ним. Это проявление благопристойности, внушенной нам поистине девическою стыдливостью, могло бы быть очень полезным, если бы препятствовало ему обнаруживать наши мерзости. Короче говоря, отучив людей от излишней щепетильности в выборе выражений, мы не причиним миру большого вреда. Наша жизнь складывается частью из безрассудных, частью из благоразумных поступков. Кто пишет о ней почтительно и по всем правилам, тот умалчивает о большей ее половине. Я ни в чем сам перед собою не извиняюсь; если бы я когда-нибудь это делал, то извинялся бы скорее за свои извинения, чем за что-либо другое. Но извиняюсь я перед теми, кого, как мне сдается, больше, чем тех, кто на моей стороне. Имея в виду именно их, я еще скажу следующее (ибо мне хочется угодить всем и каждому, а это дело исключительно трудное, esse unum hominem accommodatum ad tantam morum ac sermonum et voluntatum varietatem) [310], чтобы они не бранили меня за приводимые мной на этих страницах слова общепризнанных и одобряемых всеми авторитетов; и еще я хочу добавить, что несправедливо лишать меня, только из-за того, что в моих сочинениях отсутствует рифма, той снисходительности, которою пользуется в наш век столько моих соотечественников, и среди них лица духовные, и притом занимающие очень высокое положение. Вот два примера:
Rimula, dispeream, ni monogramma tua est.
Un vit d’ami la contente et bien traitte. [311]
А сколько других? Я люблю скромность и отнюдь не умышленно избрал этот рискованный способ изложения своих мыслей; он избран для меня самою природой. Я не восхваляю его, как не восхваляю и других форм обхождения, противоречащих общепринятым, но я его извиняю и, исходя как из общих, так и из частных соображений, нахожу для него целый ряд смягчающих обстоятельств. Но продолжим. Равным образом, откуда может проистекать то присвоение нами верховной власти, которое мы позволяем себе по отношению к женщинам, расточающим нам милости за свой собственный счет? И почему,
Si furtiva dedit nigra munuscula nocte, [312]
мы тотчас же принимаемся проявлять по отношению к такой женщине своекорыстие, супружескую власть и супружеский холодок? Это ведь свободное соглашение; так на каком основании мы не считаем для себя обязательным выполнять его так же, как хотим, чтобы его выполняли женщины? Где все покоится на добровольных началах, там нет места для приказаний.
Хотя это и противоречит общему правилу, но, вступая в свое время в подобные сделки, я и вправду соблюдал, насколько это можно совместить с их природою, все вытекающие из них обязательства с честностью и добросовестностью, которой придерживался в других сделках, и притом не забывая о справедливости; и при таких отношениях с женщинами я всегда изображал им свою страсть такою, какою она представлялась мне самому, сообщая со всей искренностью и непосредственностью о ее ослаблении, ее пылкости, ее зарождении, ее приливах и ее отливах. Ведь не всегда идешь одной и той же походкой. Я был настолько скуп на обещания, что неизменно давал, как мне кажется, сверх того, что было мною обещано и что я должен был дать. И я был настолько верен моим возлюбленным, что порою даже содействовал их изменам. Я говорю об изменах, в которых они мне признавались и которые, случалось, совершали неоднократно. И никогда я с этими женщинами не рвал, если меня привязывала к ним хотя бы тончайшая ниточка; а в тех немногочисленных случаях, когда они вынуждали меня пойти на разрыв, я порывал с ними так, что не уносил с собой ни презрения к ним, ни ненависти, ибо близость этого рода, даже тогда, когда она даруется нам на самых постыдных для женщин условиях, заслуживает хотя бы крупицы признательности. Что касается гнева и нетерпения, хватавших у меня иногда несколько через край, то от них я не всегда мог удержаться; это бывало, когда меня донимали женские хитрости и отговорки и когда у нас разгорались ссоры, ибо по своему душевному складу я подвержен внезапным вспышкам, которые мне часто вредят в отношениях с людьми и в делах, хотя они кратковременны и не очень яростны. Если мои приятельницы выражали желание, чтобы я говорил о них со всей откровенностью, я никогда не вилял, не уклонялся от отеческих и нелицеприятных советов и пощипывал их там, где им было от этого больно. И если они впоследствии вспоминали обо мне с теплым чувством и сожалением, то это происходило главным образом потому, что они находили во мне – и особенно по сравнению с современными нравами – любовь на редкость и до нелепости совестливую. Я свято соблюдал свое слово и в таких случаях, когда меня от него легко могли бы освободить; в те времена женщины порою сдавались, не заботясь о своем добром имени и условиях, которые они легко позволяли нарушать победителю. Что до меня, то, заботясь об их чести, я не раз отказывался от наслаждения в самый разгар его; и когда меня побуждало к этому благоразумие, я сам вкладывал в руки женщин оружие против меня, и если они со всей искренностью следовали преподанным мною правилам, то вели себя и более рассудительно и более строго, чем если бы руководствовались своими собственными.
Я всегда принимал риск, связанный с нашими встречами, по возможности на себя одного, дабы полностью снять его с них. И я всегда устраивал наши свидания в местах, казалось бы, непригодных для этого и неожиданных, потому что это подает меньше поводов к подозрениям и, сверх того, по-моему, гораздо спокойнее и безопаснее. Чаще всего любовников накрывают именно там, где, по их мнению, им всего безопаснее. Чего меньше боятся, против того меньше принимают меры предосторожности и за тем меньше следят; и с большей решимостью можно отважиться на то, на что, по общему мнению, вы не отважитесь и что становится легким вследствие своей трудности.
Никто никогда не занимался любовью так несуразно, как я. Этот способ любить более добропорядочен, но кому, как не мне, знать, насколько он смешон для моих соотечественников и как малоуспешен. И все же я нисколько и ни в чем не раскаиваюсь; да и терять мне теперь больше нечего:
me tabula sacer
Votiva paries indicat uvida
Suspendisse potenti
Vestimenta maris deo. [313]
Пришла пора сказать об этом открыто. Но совсем так же, как я сказал бы при случае всякому: «Друг мой, ты бредишь; в твое время любовь имеет мало общего с искренностью и честностью».
haec si tu postules
Ratione certa facere, nihilo plus agas,
Quam si des operam, ut cum ratione insanias; [314]
если бы мне пришлось начинать сызнова, я бы пошел, наперекор всему, той же походкой и по той же дороге, сколь бы бесплодным это для меня ни было. Бездарность и глупость в том, что непохвально, – похвальны. Чем дальше я отхожу от общего взгляда на эти вещи, тем ближе я подхожу к своему.
И все же я не позволял себе погружаться в подобные дела с головой; я получал удовольствие, но не забывался; я полностью сохранял в себе ту малую толику здравого смысла и рассудительности, которыми меня наделила природа, чтобы они всегда могли быть к услугам как женщин, так и моим; я бывал немного взволнован, но не впадал в беспамятство. Бывало, что я поступал вопреки своей совести и доходил до излишеств и до распутства, но что касается неблагодарности, предательства, злобы и жестокости – нет, в этом я неповинен. Я не покупал наслаждения любой ценой; я платил за него не больше, чем оно действительно стоило. Nullum intra se vitium est [315]. В почти равной мере мне ненавистны как сонная и оцепеневшая праздность, так и усеянная шипами, докучная занятость. Одна меня усыпляет, другая держит в тисках. По мне все равно – что раны, что побои; что порезы, что синяки. Когда я был пригоднее к этим делам, я умел держаться должной умеренности, пребывающей посередине между обеими крайностями. Любовь – бодрое, оживленное, веселое возбуждение; она никогда не вселяла в меня тревогу, и я никогда от нее не терзался; я бывал ею разгорячен, и она вызывала у меня жажду: на этой черте и следует останавливаться; любовь вредна лишь глупцам.
Один юноша спросил у философа Панэция, пристойно ли мудрецу влюбляться. Тот ответил: «Оставим мудреца; а вот ты да я, отнюдь не мудрецы, давай-ка лучше остережемся столь беспокойной и буйной страсти, порабощающей нас другому и внушающей нам презрение к себе» [316]. Он был прав, утверждая, что столь неукротимую по своей сущности страсть нельзя доверять душе, бессильной устоять перед ее натиском и лишенной средств опровергнуть на деле мнение Агесилая, считавшего, что благоразумие и любовь несовместимы [317]. Любовь – и вправду занятие непристойное, постыдное и недозволенное; но если не выходить из указанных мною рамок, она, по-моему, делается целительною, способной расшевелить отяжелевшие ум и тело; и будь я врачом, я бы с такой же готовностью, как и всякие другие лекарства, прописывал ее людям моего сложения и образа жизни, дабы возбуждать и поддерживать их в пожилом возрасте и тем самым замедлить наступление старости. И пока мы еще на окраине, пока у нас бьется пульс,
Dum nova canities, dum prima et recta senectus,
Dum superest Lachesi quod torqueat, et pedibus me
необходимо, чтобы нас будоражило и подстегивало какое-нибудь сильное возбуждение, а его-то и приносит с собою любовь. Взгляните-ка, сколько молодости, мощи и бодрости вернула она мудрому Анакреонту! [319] А Сократ, когда он был старше меня, говоря о том, к кому его влекло любовное чувство, рассказывает: «Опершись плечом о его плечо и приблизив голову к его голове так, чтобы нам обоим можно было смотреть в ту же книгу, я внезапно почувствовал – ив этом нет ни капельки лжи, – как в мое плечо вонзилось острое жало, точно меня укусил какой-нибудь зверь; после этого я в течение пяти дней ощущал в том же месте резкое жжение, вливавшее в мое сердце непрерывно мучившее меня желание» [320]. Прикосновение, и к тому же случайное, и не более чем плечом, разгорячило и опалило душу, успевшую с годами охладеть и увянуть, и притом душу, намного опередившую все остальные на стезе самоусовершенствования! А почему бы и нет? Сократ был человек и не хотел ни быть, ни казаться чем-либо иным.
Философия нисколько не ополчается против страстей естественных, лишь бы они знали меру, и она проповедует умеренность в них, а не бегство от них; ее усилие в борьбе с ними направлены лишь против тех страстей, которые чужды нашей природе и привносимы извне. Она говорит, что побуждения нашего тела не должно усиливать измышлениями ума, и мудро предостерегает нас от желания возбуждать в себе голод пресыщением, от желания набить свой живот вместо того, чтобы его наполнить; она увещевает избегать всякого наслаждения, заставляющего нас алкать еще больше, избегать еды и питья, обостряющих наши голод и жажду; так и в любви она предписывает нам избирать для себя предмет, утоляющий потребность нашей плоти, но не задевающий нашей души, которая должна оставаться невозмутимой, и единственное, что ей надлежит делать, это – следовать по пятам за плотью и ей соприсутствовать [321].
Но разве у меня нет достаточных оснований считать, что эти предписания философии, – к тому же, по-моему, слишком суровые, – относятся лишь к такой плоти, которая безотказно выполняет свои обязанности, и что, следовательно, изнуренную плоть, так же как и вялый желудок, извинительно согревать и поддерживать искусственно, усилием воображения возвращая ей бодрость и чувственное влечение, раз она их утратила? Не можем ли мы сказать, что в нас, пока мы пребываем в этой земной темнице, нет ничего ни чисто плотского, ни чисто духовного и что мы беспощадно разрываем на части живого человека; и разве, как мне кажется, не было бы гораздо справедливее, если бы мы относились к принятым среди нас любовным утехам по крайней мере с таким же сочувствием, какое испытываем к страданию? Оно, например, доходило в душе у святых, всем своим существом предававшихся покаянию, можно сказать, до крайних пределов; и вследствие тесных уз, связывающих плоть с душою, плоть, разумеется, тоже несла при этом свою долю страдания, хотя могла быть и непричастной к причине, его породившей; и все же этим святым было мало, чтобы плоть лишь следовала за скорбящей душой и ей соприсутствовала; они подвергали ее жестоким и только ей одной предназначенным истязаниям, дабы и душа и плоть, соревнуясь друг с другом, погружали человека в страдание, тем более благотворное, чем оно было мучительней.
Подобным же образом справедливо ли отвращать нашу душу от плотских утех и говорить, что она должна вовлекаться в них как бы по обязанности, в силу неизбежной и рабской необходимости? Но ведь именно душе и подобает вынашивать их и пестовать, влечься к ним и управлять ими, ибо всем руководит только она; ведь как раз она и присущие ей наслаждения и должны, по-моему, внушать и передавать плоти все свойственные их сущности ощущения и заботиться о том, чтобы они были для нее сладостными и благодетельными. Ибо если разумно утверждение тех, кто говорит, что плоть не должна удовлетворять свои желания и стремления в ущерб духу, то почему не разумно и обратное утверждение, то есть что дух не должен удовлетворять свои желания и стремления в ущерб плоти?
У меня нет другой страсти, которая могла бы меня захватить. То, что людям, не имеющим, как и я, постоянных занятий, дают алчность, честолюбие, ссоры, судебные тяжбы, – все это – и с большей приятностью – дала бы мне любовь; она вернула бы мне проницательность, трезвость, любезность, стремление заботиться о своей особе; она придала бы уверенность моей внешности, так что ее не искажали бы гримасы старости, жалкие и отвратительные черты; она побудила бы меня к занятиям здравым и мудрым, и я стал бы и более уважаемым и более любезным; она избавила бы мой дух от отчаянья в себе и своем одиночестве и примирила бы его с самим собою; она отвлекла бы меня от тысячи тягостных мыслей и тысячи печалей и огорчений, насылаемых на нас в пожилом возрасте праздностью и плохим здоровьем; она согрела бы по крайней мере во сне эту кровь, уже забываемую природой, она заставила бы меня выше держать голову и продлила бы хоть немного силу, и крепость, и бодрость души в том несчастном, который стремительно идет навстречу своему концу. Но я хорошо знаю, что вновь обрести подобное счастье – редкостная удача. Из-за немощности и чрезмерной опытности наш вкус стал более нежным и изысканным; мы требуем большего, тогда как сами приносим меньше, чем прежде; мы становимся прихотливее, тогда как возможностей для завоевания благосклонности у нас меньше, чем когда бы то ни было; зная за собой слабости, мы делаемся менее смелыми и более недоверчивыми: никто не в состоянии убедить нас, что мы, и в самом деле, любимы, – ведь нам отлично известно, каковы мы и каковы женщины. Я стыжусь бывать в обществе зеленой и кипучей молодежи,
Cuius in indomito constantior inguine nervus,
Quam nova collibus arbor inhaeret [322].
К чему среди такой жизнерадостности выставлять наше убожество?
Possint ut iuvenes visere fervidi,
Multo non sine risu
Dilapsam in cineres facem? [323]
На их стороне сила и справедливость; им честь и место; нам же только и остается, что потесниться.
К тому же этот росток расцветающей красоты не терпит прикосновения наших закоченевших рук; да и обладание им не достигается при помощи одних материальных средств. Ибо, как ответил некий древний философ насмешнику, подтрунивавшему над ним за то, что он не сумел пленить сердце юной девицы, которую преследовал своими ухаживаниями: «За столь свежий сыр, друг мой, крючок не цепляется» [324].
Ведь это отношения, требующие взаимной приязни и сродства; все прочие доступные нам удовольствия можно испытывать за то или иное вознаграждение. Но это – оплачивается только той же монетой. И в самом деле, когда я предаюсь любовным восторгам, наслаждение, которое я дарю, представляется моему воображению более сладостным, нежели испытываемое мною самим. Таким образом, кто может срывать цветы удовольствия, ничего не давая взамен, в том нет ни капли благородства: это возможно только для человека с низкой душой, всегда берущего в долг, никогда не отдавая; ему нравится поддерживать отношения с теми, кому он в тягость. Нет такой чарующей и совершенной красоты, прелести, близости, которых порядочный человек домогался бы подобной ценой. Если женщины не могут оказывать нам благоволение иначе, как только из жалости, то, по мне, лучше вовсе не жить, чем жить подаянием. Я хотел бы иметь право требовать их любви, делая это, скажем, по образцу нищих в Италии: «Fate ben per voi» [325]; или так, как делал Кир, обращавшийся к своим воинам со словами: «Кто хочет себе добра, пусть идет за мной» [326].
– Раз так, – могут мне на это сказать, – сходитесь с женщинами вашего возраста; благодаря общности их и вашей судьбы вы с ними скорее поладите. О нелепая и жалкая связь!
Nolo
Barbam vellere mortuo leoni; [327]
Ксенофонт, понося и обвиняя Менона, выставляет в качестве довода и его исключительное пристрастие к перезревшим возлюбленным [328].
Я нахожу несравненно большее наслаждение в том, чтобы присутствовать как простой свидетель при естественном сближении двух юных и прекрасных существ или даже представлять себе его в моем воображении, нежели быть участником сближения грустного и безобразного. Я уступаю эту причудливую и дикую склонность императору Гальбе, который признавал только жесткое и старое мясо [329], и еще этому несчастному горемыке,
O ego di faciant talem te cernere possim
Caraque mutatis oscula ferre comis,
Amplectique meis corpus non pingue lacertis. [330]
Но самое большое уродство в моих глазах – это красота поддельная и достигнутая насилием над природой. Эмон, юноша с Хиоса, считая, что ловкими ухищрениями ему удалось заменить природную красоту, которой он был обделен, пришел к философу Аркесилаю и спросил его, может ли мудрец ощутить в своем сердце влюбленность. «Почему же, – ответил Аркесилай, – лишь бы его не пленила красота искусственная и лживая, вроде твоей» [331]. Откровенное уродство, по-моему, не так уродливо и откровенная старость не так стара, как они же, нарумяненные и молодящиеся.
Могу ли я сказать то, что хочу, не боясь, что меня огреют за это по голове? Естественная истинная пора любви, как мне кажется, – это возраст, непосредственно следующий за детством.
Quem si puellarum insereres choro
Mille sagaces falleret hospites
Discrimen obscurum, solutis
Crinibus ambiguoque vultu. [332]
И то же самое относится к красоте.
Если Гомер удлиняет время ее цветения вплоть до того момента, когда на подбородке начинает проступать первый пушок, то зато сам Платон находил, что об эту пору она – величайшая редкость.
Хорошо известна причина, по которой софист Дион остроумно прозвал непокорные вихры отрочества Аристогитонами и Гармодиями [333]. В зрелом возрасте любовь, по-моему, уже не та; ну, а про старость и говорить нечего:
Importunus enim transvolat aridas
Quercus. [334]
И Маргарита, королева Наваррская, сама женщина, намного преувеличивает к выгоде своего пола продолжительность женского века, заявляя, что только после тридцати лет им пора менять свой эпитет «прекрасная» на эпитет «добрая» [335].
Чем короче срок, отводимый нами владычеству любви над нашею жизнью, тем лучше для нас. Взгляните-ка на отличительную черту ее облика: это мальчишеский подбородок. Кто не знает, до чего же все в ее школе идет кувырком? Наше усердие в любовных делах, наш опыт, наша привычка – все это пути, ведущие нас к бессилию; властители любви – новички. Amor ordinem nescit [336]. Конечно, она для нас более обольстительна, когда к ней примешиваются волнения и неожиданности; наши промахи и неудачи придают ей остроту и прелесть; лишь бы она была горячей и жадной, а благоразумна ли она, это неважно. Взгляните на ее поступь, взгляните, как она пошатывается, спотыкается и проказничает; наставлять ее уму-разуму и во всяческих ухищрениях – означает налагать на нее оковы; отдать ее в эти волосатые и грубые руки – значит стеснить ее божественную свободу.
Кстати, мне частенько приходится слышать, как женщины расписывают на все лады духовную связь, забывая при этом о чувствах и их доле участия в отношениях этого рода. Ведь здесь все идет в дело. Однако я могу засвидетельствовать, что нередко видел, как мы прощали женщинам немощность духа ради телесной их красоты; но я еще ни разу не видел, чтобы ради красоты духа, сколь бы возвышенным и совершенным он ни был, они пожелали снизойти к телу, которое хотя бы немного начало увядать. Почему ни одну из них не охватывает желание совершить тот благородный обмен тела на дух, который так превозносил Сократ, и купить ценой своих бедер, самой высокой ценой, какую они могут за них получить, философскую и духовную связь, а заодно и наделенное теми же качествами потомство? Платон в своих законах велит [337], чтобы, пока длится война, совершивший выдающийся и полезный подвиг, независимо от внешности этого человека и от его возраста, не получал отказа в поцелуе или какой-либо другой любовной усладе, от кого бы он ни захотел их вкусить. Почему бы то, что Платон считает столь справедливой наградой за воинские заслуги, не стало также наградою и за заслуги другого рода? И почему ни одной из женщин не вознестись над своими товарками этой целомудренной славой? Да, я умышленно говорю – целомудренной,
nam si quando ad proelia ventum est,
Ut quondam in stipulis magnus sine viribus ignis
Incassum furit. [338]
Пороки, которые не идут дальше мыслей, – не из числа наихудших.
Чтобы заключить эти пространные рассуждения, схожие с потоком болтовни, потоком стремительным и порой вредоносным,
Ut missum sponsi furtivo munere malum
Procurrit casto virginis e gremio,
Quod miserae oblitae molli sub veste locatum,
Dum adventu matris prosilit, excutitur,
Atque illud prono praeceps agitur decursu;
Huic manat tristi conscius ore rubor, [339]
я скажу, что мужчины и женщины вылеплены из одного теста; если отбросить воспитание и обычаи, то разница между ними невелика.
Платон в своем «Государстве» [340] призывает безо всякого различия и тех и других к занятиям всеми науками, всеми телесными упражнениями, ко всем видам деятельности на военном и мирном поприщах, к отправлению всех должностей и обязанностей.
А философ Антисфен не делает различия между добродетелями женщин и нашими [341].
Гораздо легче обвинить один пол, нежели извинить другой. Вот и получается, как говорится в пословице: потешается кочерга над сковородой, что та закоптилась.
Глава VI. О средствах передвижения
Нетрудно удостовериться, что большие писатели, перечисляя причины того или иного явления, не ограничиваются теми из них, которые они сами считают подлинными, но наряду с ними приводят также причины, не внушающие доверия и им самим, лишь бы они привлекали внимание и казались правдоподобными. Они говорят достаточно правдиво и с пользою, если говорят умно. Мы не имеем возможности установить главную и основную причину; мы сваливаем их в одну кучу в надежде, что, быть может, случайно в их числе окажется и она,
namque unam dicere causam
Non satis est, verum plures, unde una tamen sit. [342]
Вы спросите меня, откуда берет начало обычай желать здоровья чихающим? Мы производим три вида ветров: тот, который исходит низом, слишком непристоен; исходящий из нашего рта навлекает на нас некоторый упрек в чревоугодии; третий вид – это чихание; и так как оно исходит из головы и ничем не запятнано, мы и оказываем ему столь почетную встречу. Не потешайтесь над этими тонкостями; говорят, что они принадлежат Аристотелю [343].
Кажется, я прочел у Плутарха [344] (а он лучше всех известных мне авторов умеет сочетать искусство с природою и рассуждение с знанием), там, где он разъясняет причину тошноты, возникающей у путешествующих по морю, что она вызывается у них якобы страхом, ибо, опираясь на некоторые доводы, Плутарх доказывает, что страх может производить подобные действия. Что до меня, то, весьма подверженный ей, я хорошо знаю, что это объяснение на меня отнюдь не распространяется, и я знаю это не умозрительно, а по своему личному опыту. Не стану приводить здесь того, о чем мне рассказывали, а именно, что морскою болезнью так же часто страдают животные, и особенно свиньи, хотя они, разумеется, не имеют ни малейшего представления об опасности, не стану передавать и рассказ одного из моих знакомых, также очень подверженного этой болезни, о том, как у него раза два или три бесследно проходили позывы ко рвоте, подавленные обуявшим его во время разыгравшейся бури ужасом, совсем как у некоего древнего автора: Peius vexabar quam ut periculum mihi succurreret [345], укажу лишь на то, что, находясь на воде, как, впрочем, и в любых других обстоятельствах, я никогда не испытывал страха (а у меня было немало случаев, когда он был бы вполне оправдан, если грозящая тебе гибель – достаточное для него оправдание), который хотя бы немного меня смутил или заставил потерять голову.
Иногда он рождается столько же от недостатка благоразумия, сколько от недостатка мужества. Всем опасностям, с которыми я сталкивался лицом к лицу, я всегда открыто смотрел в глаза взглядом ясным, зорким и ничем не стесненным; чтобы бояться, тоже потребна храбрость. И однажды это мне очень помогло, когда я бежал, ведя за собой моих людей и сохраняя во время бегства порядок, не в пример лучший, чем у других; бежали мы, не то чтобы не зная боязни, но во всяком случае не объятые ужасом и не сломя голову; мы были, конечно, встревожены, но не ошалели от страха и не утратили способности соображать.
Люди великой души идут в этом гораздо дальше, и если им приходится обращаться в бегство, они проявляют при этом не только сдержанность и уравновешенность, но, сверх того, даже гордость. Приведем рассказ Алкивиада о бегстве Сократа, его товарища по оружию [346]: «Я увидел его, – говорит Алкивиад, – после поражения нашего войска, его и Лахеса, среди последних в толпе беглецов; я мог рассмотреть его спокойно и неторопливо, потому что был на хорошем коне, а он пешим, как мы и сражались в бою. Прежде всего я заметил, насколько в нем, по сравнению с Лахесом, больше рассудительности и решимости; затем я обратил внимание на непринужденность его походки, нисколько не отличавшейся от обычной, на его взор, твердый и сосредоточенный, на то, как он непрерывно наблюдал за происходившим вокруг и оценивал положение, обращая взгляд то на одних, то на других, на друзей и врагов, и ободряя им первых и предупреждая вторых, что он дорого продаст свою кровь и свою жизнь, если кому-нибудь вздумается на них посягнуть; так они и спаслись, ибо никто не жаждет напасть на подобного беглеца; гонятся только за обезумевшими от страха». Таково свидетельство этого великого полководца, и от него мы слышим о том же, в чем убеждаемся на каждом шагу, а именно, что наибольшие опасности навлекает на нас именно неразумное стремление поскорее от них уйти. Quo timoris minus est, eo minus ferme periculi est [347]. Наш народ неправ, когда говорит, что такой-то боится смерти, в то время как хочет выразить в этих словах, что такой-то размышляет о ней и ее предвидит. Предвидение может равно относиться и к тому, что для нас зло, и к тому, что благо. Рассматривать и оценивать угрожающую опасность означает до некоторой степени не бояться ее.
Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы выдержать удары и натиск страсти, именуемой страхом, или какой-либо другой, столь же могущественной, как эта. Если бы она одолела меня и повергла наземь, я бы уже никогда не встал как следует на ноги. Кто сдвинул бы мою душу с того основания, на которое она опирается, тот никогда бы не смог водворить ее на прежнее место; она слишком рьяно исследует себя и в себе копается и никогда бы не дала зарубцеваться и зажить нанесенной ей ране. Какое счастье, что пока еще ни одна болезнь не проделала этого с моей душой! При всяком совершаемом на меня нападении я встречаю его и сопротивляюсь ему, облаченный во все доспехи; это значит, что, окажись я побитым, у меня не останется никаких средств к обороне. Я ничего не держу про запас, и в каком бы месте наводнение ни прорвало мою плотину, я окажусь беззащитным и утону окончательно и бесповоротно. Эпикур говорит, что мудрый не может превратиться в безмозглого [348]. Что до меня, то я считаю справедливой и изнанку этого изречения, а именно: кто хоть раз был по-настоящему глупым, тот никогда не станет по-настоящему мудрым.
Господь дает каждому крест по силам его, – а мне он дал страсти по моим возможностям справиться с ними. Природа, обнажив меня с одной стороны, прикрыла с другой; лишив меня оружия силы, она вооружила меня нечувствительностью и ограниченной или притупленной восприимчивостью.
Так вот, я плохо переношу (а в молодости переносил еще хуже) длительную поездку в карете, конных носилках или на судне; я ненавижу всякий другой способ передвижения, кроме езды верхом, как в городе, так и среди полей. Впрочем, носилки для меня еще несноснее, чем карета, и по той же причине я легче переношу сильное волнение на воде, вселяющее в нас страх, чем небольшое покачивание, ощущаемое нами при тихой погоде. От легких толчков, производимых веслами и словно бы вырывающих из-под нас лодку, я начинаю ощущать какое-то замешательство в голове и желудке, и я не выношу этого так же, как когда подо мной шаткое кресло. Но если судно, на котором я нахожусь, плавно уносят паруса или течение, или его ведут на буксире, однообразное покачивание этого рода на меня совершенно не действует; раздражает меня только прерывистое движение, и тем больше, чем оно медленнее. Лучше и обстоятельнее обрисовать его я не могу. Врачи велели мне стягивать тугой перевязкой низ живота, уверяя, что в таких случаях это хорошее средство; однако я ни разу не воспользовался этим их указанием, так как привык бороться с присущими мне недостатками и справляться с ними, ни к кому не обращаясь за помощью.
Будь моя память не такой немощной, я бы не пожалел времени, чтобы пересказать здесь все то, что сообщает история о бесконечно разнообразном использовании боевых колесниц, у всякого народа и во всякий век имевших свои особенности в устройстве, и насколько они были полезны и, как мне кажется, даже необходимы; так что просто диву даешься, что мы утратили о них всякое представление. Я опишу только ту их разновидность, что совсем недавно, на памяти наших отцов, была с большим успехом применена венграми против турок; в каждой из таких колесниц помещались один щитоносец и один стрелок, и в ней было известное количество установленных, изготовленных к стрельбе и заряженных аркебуз; вся она со всех сторон была покрыта щитами, как это делается на галиотах. Венгры выстраивали на поле сражения лицом к неприятелю тысячи таких колесниц и по пушечному сигналу высылали вперед, чтобы они обрушили на противника, прежде чем начнут действовать в его гуще, залп своих аркебуз, что бывало для него не очень-то приятным задатком; или бросали эти свои колесницы на эскадроны врага, чтобы прорвать их и сделать в них брешь, не говоря уже о той помощи, которую извлекали из них, прикрывая с флангов в уязвимых местах войска, передвигавшиеся по открытому полю, или обороняя и спешно укрепляя полевой лагерь [349]. В мое время некий дворянин, проживавший поблизости от одной из наших границ, калека и до того тучный, что для него нельзя было подобрать лошадь, способную выдержать его вес, опасался мести со стороны человека, с которым у него произошла ссора, и потому разъезжал по округе в повозке, похожей на колесницы описанного устройства, и находил ее очень удобной. Но довольно об этих боевых колесницах. Короли нашей первой династии ездили по стране в колымаге, которую тащили две пары быков.
Марк Антоний первым пожелал прокатиться по Риму вместе с сопровождавшей его флейтисткой в колеснице, влекомой четырьмя львами. Впоследствии то же повторил и Элагабал [350], утверждая, что он – Сивилла, праматерь богов, а в другой раз, когда в колесницу были впряжены тигры, он изображал бога Вакха; иногда он также запрягал в свою колесницу пару оленей; однажды его везли четыре собаки, а еще как-то раз он приказал, чтобы его, совсем голого, торжественно провезли четыре обнаженные женщины. Император Фирм [351] повелел впрячь в его колесницу страусов поразительной величины, так что казалось, будто она скорее летит по воздуху, чем катится по земле. Причудливость этих выдумок внушает мне следующую, не менее причудливую мысль: стремление монархов возвеличиться в глазах окружающих, постоянно приковывать к себе внимание непомерными тратами есть род малодушия и свидетельствует о том, что эти государи не ощущают по-настоящему, что именно они собой представляют. Это – вещь простительная для государя, пребывающего в чужих краях, но поступать таким образом, когда он среди своих подданных, где ему все подвластно и все позволено, – значит низводить свое достоинство с наивысшей ступени почестей, какая только ему доступна. Точно так же и дворянину незачем, по-моему, особенно тщательно одеваться, когда он в своем кругу; его дом, образ жизни, кухня достаточно говорят за него.
Мне кажется не лишенным основания тот совет, который Исократ преподал своему государю. А сказал он ему вот что: пусть у него будет великолепная домашняя утварь и соответствующая посуда, ибо потраченные на это средства не вылетают на ветер, – все эти вещи останутся в наследство его преемникам; но пусть он, вместе с тем, избегает расходов на такие роскошества, которые тотчас выходят из употребления и улетучиваются из памяти [352].
Пока я жил на положении младшего сына, я любил щегольнуть своими нарядами за невозможностью щеголять чем-либо другим, и это мне было на пользу: это бывает на пользу всем тем, кому идет красивое платье. Нам известны рассказы о поразительной бережливости наших королей в расходовании средств на себя и на подарки, – королей, великих своею славой, доблестью и удачливостью в делах. Демосфен с крайним ожесточением нападает [353] на тот закон своего города, которым предусматривалось использование общественных денег на устройство торжественных игр и празднеств; он хотел бы, чтобы величие его города находило свое выражение в многочисленности хорошо снаряженного флота и в сильном, хорошо вооруженном войске.
И Феофраста не без оснований порицают за то, что в своем сочинении о богатстве он выдвигает противоположное мнение и утверждает, что траты подобного рода – естественный и неизбежный плод изобилия [354]. Но эти удовольствия, говорит Аристотель, нравятся только самой низменной черни, и ни один положительный и здравомыслящий человек не придает им ни малейшей цены [355]. Расходование всех этих средств, как мне кажется, было бы более под стать королям и более полезным, действенным и оправданным, если бы они шли на постройку портов, гаваней, укреплений и городских стен, на роскошные здания, церкви, госпитали, учебные заведения, на благоустройство улиц и дорог; именно благодаря всему этому папа Григорий XIII [356] в мое время оставил по себе благодарную память, и на все это наша королева Екатерина [357] распространяла бы в течение долгих лет свою врожденную щедрость и свое стремление благотворительствовать, если бы ее средства были достаточны для удовлетворения ее пожеланий. Судьба преподнесла мне сильное огорчение, прервав работы над сооружением в нашей великой столице замечательного Нового моста [358] и отняв у меня надежду дожить до того времени, когда его откроют для общего пользования.
Кроме того, подданным, зрителям всех этих торжеств, кажется, что перед ними выставляют напоказ их же собственные богатства и что их потчуют празднествами за их собственный счет. Ибо народы смотрят в этом отношении на своих королей совсем так же, как мы – на услужающих нам, а именно: они должны взять на себя заботу о том, чтобы доставлять нам в изобилии все, что нам нужно, но никоим образом не должны уделять себе хотя бы крупицу изо всего этого. И император Гальба, получив во время ужина, удовольствие от игры одного музыканта и повелев принести свой ларец, дал ему целую пригоршню извлеченных им оттуда золотых монет и сказал: «Это не государственное, это лично мое» [359]. Как бы там ни было, но чаще случается, что народ прав и что его глаза насыщают тем, чем ему полагалось бы насыщать свое брюхо. Щедрость в руках королей – не такое уж блестящее качество; частные лица имеют на нее больше права, ибо, в сущности, у короля нет ничего своего: он сам принадлежит своим подданным.
Судье вручается судебная власть не ради его блага, а ради блага того, кто ему подсуден. Высшего назначают не ради его выгоды, а ради выгоды низшего; врач нужен больному, а не себе. Цели, преследуемые как всякою властью, так равно и всяким искусством, пребывают не в них, а вне их: nulla ars in se versatur [360].
Вот почему наставники будущих государей, стараясь вложить в них с раннего детства пресловутую добродетель щедрости и внушая им, чтобы они никогда не отказывали в денежных просьбах и считали, что нет расходов полезнее, чем расходы на дары и раздачи (наставление, в мое время считавшееся чрезвычайно разумным), или думают больше о своей выгоде, чем о выгоде своего господина, или не понимают того, о чем говорят. Очень легко приучить к щедрости того, кто может проявлять ее за чужой счет, сколько бы ему ни заблагорассудилось. И поскольку ее ценность определяется не размерами дара, а размерами доходов дарителя, щедроты, расточаемые столь могущественными руками, стоят немногого. Юные принцы превращаются в расточителей прежде, чем становятся щедрыми. По сравнению с другими королевскими добродетелями от щедрости мало проку, и она, как говорил тиран Дионисий, – единственная из них, которая хорошо уживается с тиранией [361].
Я бы с большей охотой научил этих принцев следующему присловью земледельца:
Τη Χειρι δει σπε?ρειν, αλλα μη ολω τω θυλακω [362],
означающему, что кто хочет собрать урожай, тому нужно сеять руками, а не сыпать семена из мешка (нужно зерно разбрасывать, а не бросать), и еще я бы им прибавил, что, будучи в необходимости дарить или, правильнее сказать, платить и воздавать стольким людям по их заслугам, они должны беспристрастно и вдумчиво распределять эти блага. Если щедрость властителя прихотлива и чрезмерна, я предпочитаю, чтобы он был скупым.
Из всех добродетелей королям всего нужнее, по-моему, справедливость; а из всех частных ее проявлений – справедливость в пожаловании щедрот, ибо осуществление справедливости в этих случаях они полностью оставили за собой, тогда как во всем остальном охотно осуществляют ее с помощью других. Чрезмерная щедрость – плохое средство добиться расположения; она чаще отталкивает людей, чем их привлекает: Quo in plures usus sis, minus in multos uti possis. Quid autem est stultius quam quod libenter facias, curare ut id diutius facere non possis? [363]. И если кого-нибудь незаслуженно осыпают щедротами, тому становится от этого стыдно и они не порождают в нем благодарности. Сколько тиранов было отдано в жертву народной ненависти руками тех, кого они несправедливо возвысили! Ведь люди этой породы считают, что они закрепляют за собой владение неправедно нажитым, выказывая свое презрение и свою ненависть к тому, кому они им обязаны, и присоединяясь к негодующей и выносящей приговор толпе.
Подданные государя, не знающего меры в щедротах, теряют меру в своих требованиях к нему: они руководствуются не разумом, а примером. И нам полагалось бы частенько краснеть за наше бесстыдство; нас оплачивают более чем справедливо, когда вознаграждают соответственно нашей службе, ибо ужели мы все-таки ничего не должны государю в силу наших естественных обязательств пред ним? Если он покрывает наши расходы, он делает для нас больше, чем нужно; вполне достаточно, если он нам помогает; ну, а если мы получаем от него сверх наших трат, то очевидно, что это – благодеяние, которого нельзя требовать: ведь в нашем языке слова для обозначения щедрости и свободы образованы от одного корня [364]. У нас, однако, повелось совсем по-другому: полученное в счет не идет; любят лишь будущие щедроты. Вот почему, чем более тощей делается мошна государева из-за его щедрых раздач, тем беднее он становится и по части друзей.
Как же ему удовлетворить желания своих подданных, если эти желания возрастают по мере того, как они выполняются? Кто думает только о том, как бы побольше ухватить для себя, тот не думает об уже ухваченном. Неотъемлемая черта жадности – неблагодарность. Здесь, пожалуй, уместно вспомнить о том, что некогда сделал Кир; его пример мог бы послужить пробным камнем и для королей нашего времени, чтобы выяснить, с пользой или без пользы осыпали они дарами своих приближенных, и они убедятся, что названный властелин раздавал их не в пример удачнее, чем они. А им из-за этого приходится обращаться за займами к своим подданным, которых они вовсе не знают и которым причинили скорее зло, чем добро. И в помощи, которую те им оказывают, нет ничего добровольного, кроме ее названия. А история с Киром заключается в следующем: однажды Крез упрекал его в расточительности и тут же прикинул, какой была бы его казна, если бы у того были бережливые руки. Кир пожелал доказать, что его щедрость вполне оправданна; разослав во все стороны гонцов к тем вельможам своей страны, которых он особенно облагодетельствовал, он попросил их помочь ему, кто сколько сможет, деньгами, так как у него в них большая нужда, и сообщить, на что он может рассчитывать. Когда их письма были доставлены, выяснилось, что друзья Кира, все как один, сочтя недостаточным предложить ему только то, что получили из его рук, добавили к этому крупные суммы из своих собственных средств и что общая сумма значительно превышает итог, подведенный Крезом. И тогда Кир сказал: «Я люблю богатства не меньше других государей, но распоряжаюсь ими разумнее, чем они. Ты видишь, при каких ничтожных затратах я собрал с помощью столь многих друзей казну поистине баснословной ценности и насколько они более верные и надежные казначеи, нежели люди наемные, ничем мне не обязанные и не питающие ко мне ни малейшей любви; вот и получается, что мое добро помещено у них много лучше, чем если бы оно лежало в моих сундуках, навлекая на меня ненависть, зависть и презрение других государей» [365].
Римские императоры оправдывали излишества своих общественных пиров и представлений тем, что их власть в некоторой мере зависит (по крайней мере, формально) от воли римского народа, с незапамятных пор привыкшего к тому, что его привлекали на свою сторону подобными зрелищами и другими роскошными увеселениями. Ввели и закрепили этот обычай частные лица, чтобы ублажать сограждан и приближенных всем этим великолепием и изобилием, причем делали это главным образом за свой собственный счет; но когда им стали подражать в этом их повелители, дело обернулось совсем по-другому.
Pecuniarum translatio а iustis dominis ad alienos non debet liberalis videri [366]. Филипп, узнав о том, что его сын пытается подарками снискать благоволение македонян, отправил ему письмо, в котором следующим образом попенял ему: «Вот как! Тебе, стало быть, хочется, чтобы твои подданные считали тебя не своим царем, а своим казначеем. Если ты стремишься привлечь к себе благосклонность, привлекай ее благодеяниями твоих добродетелей, а не благодеяниями твоего сундука» [367].
И все же это было великолепно – доставить и посадить на арене множество взрослых деревьев, раскидистых и зеленых, изображавших огромный тенистый лес, разбитый с необычайным искусством, и в первый день выпустить в него тысячу страусов, тысячу оленей, тысячу вепрей и тысячу ланей, предоставив народу охотиться на этих животных и воспользоваться дичиной; назавтра перебить в его присутствии сто крупных львов, сто леопардов и триста медведей и на третий день заставить биться насмерть триста пар гладиаторов, как это было устроено императором Пробом [368]. А что за наслаждение было видеть этот громадный амфитеатр, снаружи облицованный мрамором и украшенный изваяниями и статуями, а внутри сверкающий редким по богатству убранством;
Balteus en gemmis, en illita porticus auro; [369]
и со всех сторон этого огромного пустого пространства заполняющие и окружающие его снизу доверху не то шестьдесят, не то восемьдесят рядов сидений, тоже из мрамора, покрытых подушками,
exeat, inquit,
Si pudor est, et de pulvino surgat equestri,
Cuius res legi non sufficit; [370]
где могло разместиться со всеми удобствами сто тысяч человек, видеть, как сначала при помощи искусных приспособлений расступается самое дно амфитеатра, – где и даются игры, – и на нем образуются глубокие трещины и расщелины, изображающие пещеры, откуда появлялись дикие звери, назначенные к участию в представлении; как затем это же место заливают водой и оно превращается в глубокое море, которое бороздят бесчисленные морские чудовища, по которому плавают и вступают в сражения боевые суда; как после этого оттуда спускают воду, арена выравнивается и снова осушается для сражения гладиаторов и как напоследок ее вместо песка посыпают киноварью в росным ладаном, чтобы устроить на ней торжественное пиршество для этого бесконечного сонма людей; и это четвертая и последняя перемена в течение одного дня [371];
quoties nos descendentis arenae
Vidimus in partes, ruptaque voragine terrae
Emersisse feras, et iisdem saepe latebris
Aurea cum croceo creverunt arbuta libro.
Nec solum nobis silvestria cernere monstra
Contigit, aequoreos ego cum certantibus ursis
Spectavi vitulos, et equorum nomine dignum,
Sed deforme pecus. [372]
Иногда на той же арене вырастала высокая гора с посаженными на ней плодовыми и всевозможными другими деревьями, из чащи которых на самой вершине изливался ручей, как если б там было начало естественного источника. Иногда тут передвигался взад и вперед большой корабль, который сам собой раскрывался и разверзал свое чрево и, исторгнув из него четыреста или пятьсот диких зверей, назначенных к травле, так же самостоятельно, без чьей-либо помощи, закрывался и исчезал. Иногда снизу, с самого дна арены, начинали бить мощные фонтаны или тоненькие струйки воды, вздымавшиеся высоко вверх, чтобы, вознесясь на эту невероятную высоту, рассыпаться там мельчайшими благовонными капельками, освежающими несметную людскую толпу. Чтобы укрыться от палящего солнца или от непогоды, над всем этим огромным пространством растягивали то навесы из пурпурной ткани с богатою вышивкой, то навесы из шелка того или иного цвета и по своему усмотрению ставили их или снимали в одно мгновение:
Quamvis non modico caleant spectacula sole,
Vela reducuntur, cum venit Hermogenes. [373]
Сетка, отделявшая амфитеатр от арены, чтобы оградить зрителей от ярости выпущенных на волю зверей, была выткана из чистого золота:
auro quoque torta refulgent
Retia. [374]
И если что во всех этих излишествах извинительно, так это вызывавшие всеобщее восхищение изобретательность и новизна, но отнюдь не издержки на них.
Даже на примере этих суетных и пустых забав мы видим, как много было в те времена умов, ничуть не похожих на современные. Подобное изобилие создается природой точно так же, как порою она создает изобилие во всем, что порождается ею. Я отнюдь не хочу сказать, что эти умы были наивысшим ее достижением. Мы не идем в одном направлении, мы скорее бродим взад и вперед, сворачивая то туда, то сюда. Мы топчем свои собственные следы. Боюсь, что наши познания крайне слабы во всех отношениях; мы ничего не видим ни перед собой, ни позади себя; наше познание обнимает очень немногое и видит очень немногое, оно крайне ограничено и во времени и в охвате явлений:
Vixere fortes ante Agamemnona
Multi, sed omnes illacrimabiles
Urgentur ignotique longa
Nocte. [375]
Et supera bellum Troianum et funera Troiae
Multi alias alii quoque res cecinere poetae. [376]
И рассказ Солона о том, что ему сообщили египетские жрецы из истории длительного существования их государства и об их способе изучать и запечатлевать истории чужеземных народов, не кажется мне свидетельством, опровергающим только что высказанное мной мнение [377]. Si interminatam in omnes partes magnitudinem regionum videremus et temporum, in quam se iniiciens animus et intendens ita late longeque peregrinatur, ut nullam oram ultimi videat in qua possit insistere: in hac immensitate infinita vis innumerabilium appareret formarum [378].
Если бы все дошедшие до нас сведения о минувшем были действительно достоверными и какой-нибудь человек держал их все в своей голове, то и тогда это было бы меньше чем ничто по сравнению с тем, что нам не известно. До чего же ничтожно даже у людей наиболее любознательных знание того мира, который движется перед нами, пока мы проходим свой жизненный путь! От нас ускользает во сто раз больше, нежели та малость, которую мы постигаем, и это относится не только к отдельным событиям, становящимся порой по воле судьбы первостепенными и важными по последствиям, но и к положению целых государств и народов. Мы кричим, словно о чуде, о таких изобретениях, как артиллерия или книгопечатание; а между тем другие люди в другом конце света, в Китае, пользовались ими уже за тысячу лет до нас. Если бы мы видели такую же часть нашего мира, какой не видим, мы бы, надо полагать, поняли, насколько бесконечно разнообразие и многоразличие форм. И если взглянуть на сущее глазами природы, то окажется, что на свете нет ничего редкого и неповторимого; оно существует только для нашего знания, которое является весьма ненадежной отправной точкой наших суждений и которое то и дело внушает нам крайне ложное представление о вещах. И подобно тому, как мы ныне приходим к нелепым выводам о дряхлости и близком конце мира, опираясь на доводы, которые извлекаем из картины нашей собственной слабости и нашего собственного упадка,
Iamque adeo affecta est aetas, affectaque tellus; [379]
точно так же к нелепым выводам о его недавнем рождении и его юности пришел и древний поэт, видевший столько мощи и живости в умах своего времени, щедрых на новшества и изобретения разного рода:
Verum, ut opinor, habet novitatem summa, recensque
Natura est mundi, neque pridem exordia coepit;
Quare etiam quaedam nunc artes expoliuntur,
Nunc etiam augescunt, nunc addita navigiis sunt
Multa. [380]
Наш мир только что отыскал еще один мир (а кто поручится, что это последний из его братьев, раз демоны, сивиллы и, наконец, мы сами до сих пор не имели понятия о существовании этого нового мира?), мир не меньший размерами, не менее плодородный, чем наш, и настолько свежий и в таком нежном возрасте, что его еще обучают азбуке; меньше пятидесяти лет назад он не знал ни букв, ни веса, ни мер, ни одежды, ни злаков, ни виноградной лозы. Он был наг с головы до пят и жил лишь тем, что дарила ему мать-кормилица, попечительная природа. Если мы пришли к правильным выводам о конце нашего века и не менее правильны выводы цитированного поэта о юности того века, в который он жил, то вновь открытый мир только-только выйдет на свет, когда наш погрузится во тьму. Вселенная впадет в паралич; один из ее членов станет безжизненным, другой – полным силы. Я очень боюсь, как бы мы не ускорили упадка и гибели этого юного мира, продавая ему по чрезмерно высокой цене и наши воззрения и наши познания. Это был мир-дитя. И все же нам до сих пор не удалось, всыпав ему порцию розог, подчинить его нашим порядкам, хотя мы и располагаем перед ним преимуществом в доблести и природной силе, не удалось покорить справедливостью и добротой, не удалось привлечь к себе великодушием. Большая часть ответов тамошних жителей и их речи во время переговоров, которые с ними велись, свидетельствуют о том, что они нисколько не уступают нам в ясности природного ума и в сообразительности [381]. Потрясающее великолепие городов Куско и Мехико и среди прочих диковинок сад их короля, где все деревья, все плоды и все травы, расположенные так же, как они обычно произрастают в садах, и с соблюдением их натуральной величины, были поразительно искусно выполнены из золота, каковыми были в его приемной и все животные, которые водились на его землях и в водах его морей, и, наконец, красота их изделий из камня, перьев и хлопка, а также произведения их живописи наглядно показывают, что они нисколько не ниже нас и в ремеслах. Но что касается благочестия, соблюдения законов, доброты, щедрости, честности, искренности, то нам оказалось весьма и весьма кстати, что всего этого у нас не в пример меньше, чем у них; из-за этого преимущества перед нами они сами себя погубили, продали и предали. Что до смелости и отваги, до твердости, стойкости, решительности перед лицом страданий, голода, смерти, то я не побоюсь сопоставить находимые мной среди них образцы с наиболее прославленными образцами античности, все еще бережно хранимыми памятью нашего мира по эту сторону океана. Но что касается тех, кто подчинил их своей власти, то пусть они примут во внимание хитрости и фиглярство, которые были ими использованы для обмана обитателей вновь открытых земель, и естественное изумление этих народов при виде нежданно-негаданно явившихся к ним бородатых существ, отличавшихся от них языком, верованиями, телосложением, всем своим обликом, явившихся к тому же из столь отдаленных мест, что они никогда и представить себе не могли, будто и там могут существовать какие-нибудь поселения, и притом верхом на огромных, неведомых им чудовищах, к ним, не только никогда не видевшим лошади, но и не знавшим никакого иного животного, приученного носить на себе человека или другие тяжести; так вот, повторяю, пусть они примут во внимание их изумление при виде людей, облаченных в блестящую кожу и вооруженных сверкающим и разящим оружием и действующих им против тех, кто, потрясенный таким невиданным чудом, как зеркало или блестящий нож, отдавал за них целое богатство в золоте и жемчугах, против тех, кто не имел ни знаний, ни средств, чтобы пробивать по своему желанию нашу сталь; добавьте сюда также громы и молнии наших пушек и аркебуз, которые нагнали бы ужас на самого Цезаря, если бы он столкнулся с ними, так же не имея о них понятия и так же врасплох, как эти народы, и которые были пущены в ход против них, ходящих совсем нагишом, если не считать, что к этому времени они уже научились ткать кое-что из хлопковой пряжи, и к тому же не располагавших никаким другим вооружением, кроме лука, камней, копьев и деревянных щитов; к тому же народы эти были введены в заблуждение притворным простодушием и дружелюбием белых пришельцев и охвачены любопытством и жаждой увидеть вещи, для них чуждые и неизвестные. Так вот, говорю я, отнимите у победителей все эти благоприятствующие им обстоятельства, и вы лишите их всякой возможности одерживать столько побед.
Наблюдая неукротимый пыл, с каким тысячи мужчин, женщин и детей столько раз выходили и устремлялись навстречу неизбежным опасностям, отстаивая своих богов и свою свободу; наблюдая их благородную стойкость в претерпевании всевозможных бедствий и трудностей и даже смерти, лишь бы не подпасть владычеству тех, кем они были так бесстыдно обмануты, причем некоторые, будучи захвачены в плен, предпочитали скорее умереть от голода и истощения, чем принять жизнь из рук врага, столь подлым образом добившегося над ними победы, я предвижу, что любому, кто пойдет на них при равных условиях – в смысле вооружения, боевой опытности и численности, – придется испытать все те же опасности, которыми, как мы видим, чревата всякая другая война.
Какая жалость, что это столь благородное приобретение не было сделано при Александре или при древних греках и римлянах и столь великие преобразования и перемены в судьбе стольких царств и народов не произошли при тех, кто мог бы бережно смягчить и сгладить все, что тут было дикого, и вместе с тем поддержать и вырастить добрые семена, брошенные здесь самою природой, не только привнося в обработку земли и украшение городов искусство Старого Света, но также привнося в добродетели туземцев добродетели греческие и римские! Каким это было бы улучшением и каким усовершенствованием нашей планеты, если бы первые образцы нашего поведения за океаном вызвали в этих народах восхищение добродетелью и подражание ей и установили между ними и нами братское единение и взаимопонимание! До чего же легко было бы ей завоевать души столь девственные, столь жадные к восприятию всего нового, в большинстве своем с прекраснейшими задатками, вложенными в них природою! Мы же поступили совсем по-иному, воспользовались их неведеньем и неопытностью, чтобы тем легче склонить их к предательствам, роскоши, алчности и ко всякого рода бесчеловечности и жестокости по образу и подобию наших собственных нравов. Кто когда-нибудь покупал такою ценой услуги, доставляемые торговлей и обменом товарами? Столько городов разрушено до основания, столько народов истреблено до последнего человека, столько миллионов людей перебито беспощадными завоевателями, и богатейшая и прекраснейшая часть света перевернута вверх дном ради торговли перцем и жемчугом: бессмысленная победа! Никогда честолюбие, никогда гражданские распри, толкавшие людей друг на друга, не приводили их к столь непримиримой вражде и не причиняли им столь ужасающих бедствий.
Плывя вдоль побережья в поисках золотых копей и серебряных рудников, несколько испанцев высадились на сушу в области плодородной и приятной. Здесь они представились местным жителям, как это делают обычно, а именно, заявляя, что они люди мирные, прибывшие из дальних стран, посланные по повелению и от имени короля кастильского, самого могущественного государя обитаемой земли, которому папа, наместник бога на земле, отдал во владение всю Индию, и что если местные жители пожелают стать его данниками, с ними будут хорошо обращаться. Затем испанцы попросили съестных припасов и золота, якобы необходимого им для некоторых лекарств; они рассказали также о вере в единого бога и говорили об истинности нашей религии, которую советовали поскорее принять; ко всему этому они присовокупили и кое-какие угрозы. Выслушанный ими ответ был таков: что касается их заявления о том, что они люди мирные, то, если бы они и впрямь были такими, то выглядели бы совсем по-другому; что до их короля, то раз он обращается с просьбами, значит он беден и терпит нужду; что до сделавшего ему этот подарок, то это человек, любящий сеять раздоры, ибо, отдавая третьему лицу то, что ему отнюдь не принадлежит, он вовлекает его в ссоры с давними собственниками; что до съестных припасов, то их они предоставят; золота у них очень мало, и это вещь совсем не ценимая ими, так как она бесполезна и не нужна им для жизни, ибо вся их забота заключается в том, чтобы прожить счастливо и приятно; тем не менее все, что пришельцы смогут найти, кроме того, что требуется им самим для служения их богам, пусть смело забирают с собой; что до единого бога, то речи о нем пришлись им по душе, но они не желают менять религию, поскольку она столь долгое время служила им с такою пользою; ну, а что до угроз, то угрожать тем, чей характер и чьи средства защиты неведомы, – признак нерассудительности; итак, пусть пришельцы поторопятся очистить их землю, ибо они не привыкли доверять любезности и посулам людей вооруженных и им неизвестных; в противном случае с ними обойдутся так же, как со всеми другими. И пришельцам показали несколько человеческих голов, объяснив, что это – головы казненных в их городе. Вот образец их якобы детского лепета. Но как бы там ни было, ни здесь, ни в других местах, где испанцы не находили того, что искали, их не задержали и на них не напали, какие бы возможности к их истреблению ни представлялись, и свидетели этому – мои каннибалы [382].
Из двух наиболее могущественных монархов Нового Света, а может быть и Старого, двух владык над владыками, двух последних государей из многих свергнутых испанцами с тронов, государь Перу был захвачен ими в плен в одном из сражений, и за него был назначен настолько несоразмерный выкуп, что даже трудно поверить, который все же был полностью и честно внесен, и этот государь обнаружил в беседах и разговорах прямодушное, снисходительное и стойкое мужество и ум ясный и здравый. Однако, получив с него один миллион триста двадцать пять тысяч пятьсот золотых безамов [383], кроме серебра и других вещей, стоивших самое малое столько же, так что после этого испанцы подковали своих лошадей тяжелыми золотыми подковами, победители возымели желание выяснить, не останавливаясь ни перед какими бесчестными средствами, каковы же оставшиеся у этого государя сокровища, и получить в свое распоряжение все, что ему удалось сохранить. Ради этого против него было выдвинуто лживое обвинение и собраны лжесвидетельства, якобы уличавшие его в том, что он собирается возмутить свои земли и вырваться на свободу. На этом основании по справедливому и нелицеприятному приговору тех же самых, кто состряпал этот поклеп, его присудили к публичному повешению и удавлению, заставив сожжение заживо на костре купить ценою крещения, которое и было совершено над ним на месте казни. Ужасный, неслыханный случай, но он вытерпел все эти муки, не унизив себя ни выражением лица, ни единым словом, и держался все время с поистине королевским достоинством. По совершении этой казни испанцы, чтобы успокоить оцепеневший от столь небывалой вещи и потрясенный народ, притворились, будто глубоко скорбят о его смерти, и устроили ему пышные похороны.
Другой государь, король Мексики, после того как долго защищал свой осажденный город и выказал во время этой осады упорство и твердость, какие едва ли были когда-нибудь выказаны другими государями и другими народами, на свое несчастье живым отдался в руки врагов при условии, что с ним будут обращаться по-королевски (и, пребывая в тюрьме, он не сделал ничего не достойного этого титула); не обнаружив после этой победы всего того золота, которое они сами себе обещали в мечтах, и перерыв и перекопав все на свете, испанцы принялись добывать желательные им сведения при помощи жесточайших пыток, какие только могли придумать, над томившимися у них узниками. Но, ничего от них не добившись, так как их мужество оказалось сильнее пыток, они впали в такую ярость, что в нарушение своего слова и международного права порешили подвергнуть пытке на глазах друг у друга самого короля и одного из его виднейших придворных.
Этот придворный, чувствуя, что ему не устоять перед болью, окруженный со всех сторон жаровнями с раскаленным углем, обратил на своего господина опечаленный взор, как бы прося у него прощения за то, что больше не может терпеть. Король, вперив в него надменный и строгий взгляд, чтобы бросить ему упрек в трусости и малодушии, сказал всего несколько слов, произнеся их жестким и твердым голосом: «А я? или, быть может, я в бане? Или мне легче, чем тебе?» Этот придворный вскоре после этого был сломлен болью и умер тут же на месте. Короля же, наполовину изжаренного, унесли оттуда – не из сострадания (ибо какое сострадание трогало когда-нибудь души людей, способных смотреть, как поджаривается у них на глазах человек, больше того – король, в сомнительной надежде выведать от него, где находится золотая ваза, которую они жаждут присвоить), но потому, что его стойкость все больше и больше вгоняла в стыд их жестокость. Впоследствии они его все же повесили, так как он предпринял отчаянную попытку с оружием в руках освободиться от длительного плена и рабства; он умер, как подобает умереть государю со столь возвышенною душой.
В другой раз они решили сжечь заживо на огромном костре четыреста шестьдесят человек – четыреста из простого народа и шестьдесят из наиболее знатных сановников той области, где это произошло, – самых обыкновенных военнопленных. Мы знаем об этом от самих испанцев, ибо они не только признаются во всех этих зверствах, но и похваляются ими и всячески их превозносят. Было ли это свершением правосудия или проявлением религиозного рвения? Разумеется, подобный путь совершенно не совместим со столь священной целью и, больше того, уводит от нее в прямо противоположную сторону. Если бы они действительно стремились распространить нашу веру, они бы сообразили, что способствует этому не завоевание новых земель, а завоевание душ человеческих; они бы довольствовались теми убийствами, которые по необходимости приносит война, и не добавляли к ним истребления всех без разбора, словно перед ними – дикие звери. Они уничтожили столько людей, сколько можно было уничтожить огнем и мечом, намеренно сохраняя в живых только тех, кого они хотели превратить в своих жалких рабов для работы на рудниках. В конце концов дело дошло до того, что несколько испанских военачальников, справедливо возмущенных и пришедших в ужас от чинимых ими насилий по повелению королей Кастилии были преданы смерти в местах, где они одерживали победы [384], и почти все другие военачальники подверглись немилости и опале. И, воздавая им по заслугам, господь попустил, чтобы эти награбленные ими сокровища неисчислимой ценности при перевозке были поглощены океанской пучиной и погибли в междоусобных войнах, в которых завоеватели безжалостно истребляли друг друга; и большая часть испанцев полегла в этих заморских землях, так и не вкусив плодов от своих побед.
Что же касается поступлений оттуда, то даже в руках столь бережливого и благоразумного государя [385], как нынешний, они не отвечают надеждам, которые обольщали его предшественников и основывались на первоначальном изобилии всевозможных богатств, сразу же обнаруженных на этих вновь найденных землях (ибо, хотя и сейчас из них извлекается достаточно много, все же это так ничтожно по сравнению с тем, чего можно было ожидать). Причина же в том, что народам Нового Света были совершенно неизвестны употребление и чеканка денег и вследствие этого все их золото собиралось где-нибудь в одном месте – ведь оно использовалось лишь для того, чтобы выставляться напоказ, как утварь, наследуемая от отца к сыну на протяжении многих поколений могущественных государей, опустошавших свои рудники исключительно с целью накапливать всю эту груду сосудов и статуй для украшения дворцов и храмов, тогда как наше золото находится в обращении и в торговле. Мы его расточаем и портим в тысячах изделий, мы его разбрасываем и рассеиваем. Попробуем же представить себе, что получилось бы, если бы и наши короли так же в течение многих веков занимались накоплением золота, где бы они его ни находили, и так же сохраняли его без всякого употребления.
Жители мексиканского королевства были в некоторой мере цивилизованнее и искуснее, чем все остальные народы за океаном. Вот и они, подобно нам, полагали, что вселенная близится к своей гибели, и видели предзнаменование этого в опустошениях, которые мы им принесли. Они верили, что существование мира подразделяется на пять периодов и это связано с жизнью пяти последовательно сменявших друг друга солнц, из которых четыре уже прожили свои сроки, а то, что их освещает, – пятое. Первое погибло вместе со всем сущим при всеобщем потопе; второе – из-за падения на нас неба, раздавившего все живое, и этот век они отводят гигантам, чьи кости они показывали испанцам (исходя из пропорций нашего тела, можно предполагать, что рост этих людей достигал двадцати пядей); третье – от огня, охватившего и пожравшего все; четвертое – от движения воздуха и от ветра, опрокинувшего даже многие горы, – на этот раз люди не умерли, а превратились в обезьян (каких только нелепостей не принимает за истину человеческое легковерие!); после гибели этого четвертого солнца мир в течение двадцати пяти лет был погружен в непрерывную тьму, причем на пятнадцатый год были созданы мужчина и женщина, восстановившие род человеческий, а спустя десять лет, в определенный по их счету день, появилось вновь сотворенное солнце, и с этого дня они и ведут свое летосчисление. На третий день по его сотворении умерли древние боги; новые появились позднее, рождаясь каждый день один за другим. Каким образом, по их мнению, погибнет последнее солнце, этого мой автор не выяснил. Но принятая у них дата гибели четвертого солнца совпадает по времени с тем сочетанием небесных светил, которое, как полагают наши астрологи, приблизительно восемьсот лет назад принесло миру великие и многочисленные новшества и изменения.
Что касается пышности и роскоши, с чего я и начал рассмотрение моего предмета, то ни Греция, ни Рим, ни Египет не могут сравнить ни одно из своих творений – ни в смысле полезности, ни в отношении трудности выполнения, ни в благородстве – с большой дорогой, которую можно увидеть в Перу и которую проложили прежние владыки этой страны от города Кито до города Куско (ее протяженность – триста лье), прямою, гладкой, мощеной, огражденной с обеих сторон прекрасными и высокими стенами, с текущими вдоль них с внутренней стороны двумя никогда не иссякающими ручьями, обсаженными красивыми деревьями, которые на их языке называются «молли».
Где они встречали на своем пути горы и скалы, они пробивали их и выравнивали, а где им попадались ямы, они закладывали их камнями, скрепленными известью. В начале каждого древнего перегона у них были большие дворцы, где хранились съестные припасы, одежда и оружие как для нужд путешественников, так и для проходящего войска. Воздавая должное этой работе, я принимаю в расчет трудности ее исполнения, которых в этих местах было особенно много. Они строили из камней размером не менее десяти квадратных футов; и у них не было других средств перемещения строительных материалов, кроме их собственных рук, и они тащили свои грузы волоком; и не было у них также способов поднимать тяжести, кроме единственного приема, состоявшего в том, чтобы возле возводимого ими строения по мере его возрастания насыпать землю, а затем убирать ее прочь.
Коснемся вопроса об их средствах передвижения. Вместо всяких колесниц и повозок они пользовались для своих переездов людьми, которые и носили путешественников на плечах. Упомянутого выше короля Перу в тот день, когда он был захвачен испанцами, носили на золотых носилках, и, находясь в гуще сражения, он сидел на золотом кресле. По мере того как убивали его носильщиков, чтобы он упал наземь, – ибо его хотели захватить живым, – их место по собственному желанию занимали другие, так что его никак не могли ссадить с кресла, пока один всадник-испанец не схватил его и не опустил на землю.
Глава VII. О стеснительности высокого положения
Не имея возможности достичь высокого положения, давайте в отместку его очерним. Впрочем, найти в чем-либо известные недостатки не значит очернить; их можно найти в любой вещи, как бы хороша и вожделенна она ни была, тем более что у высокого положения есть то преимущество, что с ним можно по собственному желанию расстаться, и почти всегда есть возможность выбора более высокой или более низкой ступени: ведь не со всякой высоты непременно падаешь, гораздо чаще можно благополучно опуститься. Сдается мне, что мы вообще склонны переоценивать высокое положение, равно как и давать непомерную оценку решимости тех, кто на наших глазах презрел его, или же уверяет, что полон к нему презрения, или же добровольно от него отказался. Само по себе оно вовсе не так приятно, чтобы всякий отказ от него рассматривать как чудо.
Я считаю тягостными усилия, необходимые для того, чтобы перенести страдание, но не усматриваю никакой доблести в удовлетворенности скромной долей и в бегстве от величия. По-моему, это добродетель, которой и я, не бог весть кто, достиг без особого напряжения. Что же сказать о тех, кто примет во внимание и славу, сопутствующую такому отказу, с которым может быть связано больше честолюбивых помыслов, чем со стремлением к высокому положению и с радостью от того, что оно достигнуто? Ведь честолюбие для удовлетворения своего часто избирает пути обходные и необычные.
Мужеством я вооружаюсь преимущественно для терпения, а не для достижения каких-либо желаний. Их у меня не меньше, чем у кого-либо другого, и предоставляю я им не меньше свободы и самостоятельности. Однако же мне и в голову не приходило мечтать ни о державе и престоле, ни о величии, которое обретаешь в столь высоком положении. Я на это не зарюсь, ибо слишком люблю себя. Если я и стремлюсь к росту, то не в высоту, и применяюсь ко всему, что ему препятствует: я хочу расти в том, что мне доступно, достигая большей решимости, рассудительности, привлекательности и даже богатства. Но всеобщий почет, но могущество власти подавляющим образом действуют на мое воображение. И, в противоположность одному великому человеку [386], я предпочту быть вторым или третьим в Периге, чем первым в Париже, или, во всяком случае, не кривя душой, – занимать в Париже скорее третье, чем самое первое место. Я не хочу быть ни таким жалким и никому не известным существом, чтобы мне приходилось вступать в споры с привратниками, ни с трудом пробивать себе дорогу среди обступившей меня с великим обожанием толпы. Я и самой судьбой и личными склонностями предназначен к некоему среднему положению. И всем своим жизненным поведением и начинаниями своими я показал, что всегда скорее отступлюсь, чем стану перепрыгивать через ступень, определенную мне господом богом от рождения.
Всякое естественное состояние есть тем самым и справедливое и наиболее удобное.
Будучи от природы осмотрительным, я, в погоне за счастьем, ищу не столько высоты, сколько легкости достижения.
Но если сердцу моему недостает мужества, то зато оно искренно, что и заставляет меня прямо говорить о его слабости. Если бы мне пришлось провести следующее сравнение: с одной стороны, жизнь Луция Тория Бальба [387], человека благородного, красивого, образованного, здорового, который мог и умел пользоваться всеми радостями и наслаждениями жизни, вел существование спокойное и независимое, укрепив душу против страха смерти, суеверия, страдания и всех забот, неизбежно выпадающих на долю человека, и в конце концов встретил смерть в бою, с оружием в руках защищая отечество; с другой – жизнь Марка Регула [388], всем известная своим величием и доблестью, – и ее достославный конец; одна – не отмеченная людской молвой и хвалами; другая – озаренный славой пример людям. Я без сомнения сказал бы о них так же, как Цицерон, если бы обладал в той же степени искусством слова. Но, мерь я их по своей мерке, я добавил бы также, что первая настолько же подходит мне и моим стремлениям, которые я соразмеряю со своей природой, насколько вторая от них далека, что ко второй я могу отнестись лишь с величайшим восхищением, а первой охотно подражал бы на деле. Примем же ту свою величину, которая нам дана в жизни и из которой мы исходим.
Противны мне и владычество и покорность.
Отан, один из семи, имевших право притязать на трон Персии, принял решение, которое и мне было бы по сердцу: он передал сотоварищам свое право достичь верховной власти путем избрания или же волей судьбы с тем лишь условием, что ему и его близким предоставлена будет возможность жить в персидской державе, не пользуясь властью, но и не подчиняясь ничему, кроме древних обычаев, и обладая всею той свободой, которая не нарушает их, – так, чтобы и не повелевать, и не выполнять никаких повелений [389]. Самое, на мой взгляд, тягостное и трудное на свете дело – это достойно царствовать. Ошибки, совершаемые королями, я сужу более снисходительно, чем это вообще принято, ибо со страхом думаю о тяжком бремени, лежащем на властителях. Трудно соблюдать меру в могуществе столь безмерном. И надо сказать, что для добродетели тех из них, кто от природы менее благороден, величайшее испытание – занимать место, где нельзя сделать ничего хорошего так, чтобы это сразу же не было учтено и взвешено, где малейшее доброе дело, совершенное вами, касается стольких людей зараз и где своим поведением вы воздействуете прежде всего на народ, судью недостаточно справедливого, которого легко и обморочить и ублажить.
Мало есть на свете вещей, о которых мы способны высказать нелицемерное суждение, ибо среди них мало таких, которые так или иначе не вызывали бы в нас корысти. Более высокое или более низкое положение, владычество или подчиненность естественным образом вынуждаются к соперничеству и спору, неизбежно и неизменно противостоят друг другу. Ни тому ни другому не могу я верить, когда они судят о правах соперника: пусть же говорит разум, ибо он непоколебим и беспристрастен, когда мы ему доверяемся. Без малого месяц назад я просмотрел две книги шотландских авторов, споривших по этому поводу. Сторонник народовластия считает, что король – ниже ломового извозчика; поклонник монархической власти возносит его по могуществу власти на несколько саженей над самим господом богом [390].
Между тем тягостность высокого положения, в которой я мог убедиться воочию, так как недавно мне представился для этого случай, состоит в следующем. В отношениях между людьми нет, может быть, ничего увлекательнее, чем то соревнование в чести и доблести, в которое мы вступаем друг с другом, упражняя свои физические и духовные силы, и в котором никогда не могут по-настоящему принять участие носители верховной власти. По правде сказать, мне часто казалось, что при этом именно от великого почтения к ним относятся с обидным пренебрежением. Ибо в детстве, например, мне было всего оскорбительнее, если соревнующиеся со мною в чем-либо делали это вполсилы, считая меня не достойным их соперником; нечто подобное постоянно происходит с королями – никто не осмеливается вступать с ними в настоящее соревнование. Если становится заметным, что своей победе они придают большое значение, каждый старается им поддаться и, чтобы не нанести ущерба их славе, всегда готов поступиться своей, прилагая лишь столько усилий, сколько нужно для того, чтобы оказать им честь. Какое же участие принимают они в борьбе, где все – за них? Это напоминает мне паладинов былых времен, которые на состязания и битвы являлись наделенные волшебной силой или вооруженные заколдованным мечом. Брисон, состязавшийся в беге с Александром, поддался; Александр выбранил его за это, а следовало всыпать ему плетей [391]. Карнеад говорил, что дети царей лишь верховой езде учатся по-настоящему, ибо в любых других упражнениях им все уступают, чтобы они могли быть первыми, а конь, не будучи придворным льстецом, сбросит с себя царского сына так же просто, как сына какого-нибудь грузчика [392]. Для того, чтобы столь нежной богине, как Венера, придать черты мужества и храбрости, свойств, которые присущи лишь тем, кто может подвергнуться опасности, Гомер вынужден был изобразить, как в битве за Трою она была ранена [393]. Богов заставляют испытывать гнев, страх, заставляют их обращаться в бегство, жаловаться, подпадать человеческим страстям, чтобы можно было наделить их доблестью, которую порождают в нас все эти несовершенства. Тот, кто не подвержен случайностям и трудностям, не может также притязать на честь и радость, вознаграждающие за смелый поступок. Жалостная участь – обладать такой властью, что все перед вами склоняется. Высокая доля слишком далеко отбрасывает от вас других людей, препятствует их общению с вами, и вы оказываетесь в стороне от всех. Легкая, безо всяких усилий дающаяся возможность все себе подчинять враждебна какому бы то ни было удовольствию: это означает скользить, а не ходить, дремать, а не жить. Представьте себе человека, наделенного всемогуществом: оно бы умалило его; ведь он должен был бы, как милости, просить у вас, чтобы вы ставили ему препятствия и оказывали сопротивление; он обделен – и всем существом своим и благами жизни.
Добрые качества земных владык мертвы, не могут проявиться: ведь о них можно судить лишь по сравнению с чем-либо, а сравнение-то как раз и делают невозможным. Подлинного одобрения они почти вовсе не знают, постоянно осыпаемые одними и теми же неизменными хвалами. Даже имея дело с самым глупым из своих подданных, они не имеют возможности по-настоящему превзойти его в чем-либо. Тот скажет: «Ведь это же мой государь», – и, по его мнению, всем уже ясно, что он дал себя одолеть. Верховная власть – качество, которое подавляет все прочие, существенные и подлинные качества: они в ней растворяются, и им дано проявляться лишь в действиях, с ней непосредственно связанных и ей служащих, – в делах царствования и правления. Так велико королевское достоинство, что облеченный им – только государь. Окружающее его, извне идущее сияние скрывает от нас человека: взор наш ничего не различает, – наполненный и отягощенный этим слишком ярким светом, он оказывается как бы отброшенным назад. Римский сенат присудил Тиберию первую награду за красноречие; тот отказался от нее, полагая, что, даже если она им заслужена, присуждение не было сделано по свободному волеизъявлению и никакой чести оно ему не принесет [394].
Уступая государям во всем, что касается чести и славы, утверждают и укрепляют также их недостатки и пороки не только простым одобрением, но и подражанием. Каждый из свиты Александра старался держать, подобно ему, голову склоненной на сторону. А льстецы Дионисия в его присутствии натыкались друг на друга, толкали и опрокидывали все, что попадалось им под ноги, чтобы показать, будто они так же близоруки, как он. Иногда рекомендацией и средством войти в милость служила грыжа. Я наблюдал, как люди из лести изображали глухоту, а Плутарх рассказывает, что у властителя, возненавидевшего жену, придворные разводились со своими женами, хотя и любили их [395]. Более того, по временам в моду входили разврат и всяческая распущенность, а также вероломство, кощунство, жестокость, а также ересь, а также суеверие, безверие, изнеженность и еще худшие пороки, если такие имеются. Можно привести пример гораздо более пагубный, чем тот, что явили льстецы Митридата, которые давали своему владыке, притязавшему на честь считаться хорошим врачом, резать и прижигать их члены [396]: я имею в виду тех, кто позволяет калечить себе душу, орган гораздо более благородный и нежный.
Но, дабы кончить тем же, с чего начал, приведу еще кое-что. Когда император Адриан спорил с философом Фаворином о значении некоторых слов, тот очень скоро с ним во всем согласился. Друзья его вознегодовали по этому поводу, но он ответил: «Смеетесь вы надо мной, что ли? Как может он, начальствуя над тридцатью легионами, не быть ученее меня?» [397] Август писал эпиграммы на Азиния Поллиона: «А я, – сказал Поллион, – буду молчать. Неблагоразумно писать против того, кто может предписать мне отправиться в ссылку» [398]. И оба они были правы. Ибо Дионисий, не будучи в состоянии сравняться в искусстве поэзии с Филоксеном и в красноречии с Платоном, одного приговорил к работам в каменоломнях, а другого велел продать в рабство на остров Эгину [399].
Глава VIII. Об искусстве беседы
У нашего правосудия существует обычай осуждать одних в пример другим.
Осуждать их за то, что они провинились, было бы, как говорит Платон, нелепым [400], ибо того, что сделано, переделать нельзя. Но осуждают затем, чтобы они больше не совершали тех же провинностей, или же затем, чтобы другим неповадно было делать то же самое.
Когда человека вешают, его этим не исправишь, но другие на этом примере исправляются. Так же поступаю и я. Заблуждения мои порою свойственны самой природе моей и неисправимы. Но как люди достойные представляют всем другим пример для подражания, так и я окажу им известную услугу, показав, чего следует избегать.
Nonne vides Albi ut male vivat filius, utque
Barrus inops? magnum documentum, ne patriam rem
Perdere quis velit. [401]
Выставив напоказ и осудив свои собственные недостатки, я научу кого-нибудь опасаться их. По свойствам своей натуры, на мой взгляд наиболее ценным, я склонен скорее себя обвинять, чем превозносить. Вот почему я постоянно возвращаюсь к этому и останавливаюсь на этом. Но, рассказывая про себя, поступаешь в ущерб себе: самообвинениям твоим всегда охотно верят, самовосхвалениям – никогда.
Есть, может быть, и другие люди, вроде меня, которые полезный урок извлекут скорее из вещей неблаговидных, чем из примеров, достойных подражания, и скорее отвращаясь от чего-то, чем следуя чему-то. Этот род науки имел в виду Катон Старший, когда говорил, что мудрец большему научится от безумца, чем безумец от мудреца [402], а также упоминаемый Павсанием древний лирик, у которого в обычае было заставлять своих учеников прислушиваться к игре жившего напротив плохого музыканта, чтобы на его примере учились они избегать неблагозвучия и фальши. Отвращение к жестокости увлечет меня по пути милосердия гораздо дальше, чем удалось бы любому образцу мягкосердечия. Отличнейший наездник не так искусно научит меня хорошо сидеть в седле, как судейский чиновник или моряк-венецианец верхом на коне. А чтобы блюсти чистоту языка, неправильную речь мне слушать полезнее, чем правильную. Нелепое поведение глупца постоянно служит мне предупреждением и советом. То, что вызывает возмущение, больше волнует и будоражит, чем то, что нравится. Нашему времени гораздо свойственнее исправлять людей дурными примерами, разладом больше, чем слаженностью, противоположным больше, чем сходным. Не видя кругом хороших примеров, я пользуюсь дурными, ибо их сколько угодно. Наблюдая людей докучных, я старался быть тем приятнее, наблюдая слабых, воспитывал в себе большую твердость и у резких учился быть как можно снисходительнее. Однако той же меры, что они, я достичь не мог.
Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума – по-моему, беседа. Из всех видов жизненной деятельности она для меня наиболее приятный. Вот почему, если бы меня принудили немедленно сделать выбор, я наверно предпочел бы скорее потерять зрение, чем слух или дар речи. Афиняне, а вслед за ними и римляне придавали в своих Академиях высокое значение этому искусству. В наше время итальянцы сохранили в нем некоторые навыки к большой для себя выгоде, если сравнить их способность суждения с нашей. Учась чему-либо по книгам, движешься вперед медлительно, слабо, безо всякого пыла; живое же слово и учит и упражняет. Если я веду беседу с человеком сильной души, смелым соперником, он нападает на меня со всех сторон, колет и справа и слева, его воображение разжигает мое. Дух соревнования, стремление к победе, боевой пыл увлекают меня вперед и возвышают над самим собой. Полное согласие – свойство для беседы весьма скучное.
Так как ум наш укрепляется общением с умами сильными и ясными, нельзя и представить себе, как много он теряет, как опошляется в каждодневном соприкосновении и общении с умами низменными и ущербными. Это самая гибельная зараза. По опыту своему я знаю, чего это стоит. Я люблю беседы и споры, но лишь с немногими и в тесном кругу. Ибо выставлять себя напоказ перед сильными мира сего, щеголять своим умом и красноречием я считаю делом, недостойным порядочного человека.
Глупость – свойство пагубное, но неспособность переносить ее, терзаясь раздражением, как это со мною случается, – тоже недуг, не менее докучный, чем глупость, и я готов признать за собою этот недостаток.
В беседу и спор я вступаю с легкостью, тем более что общепринятые мнения не находят во мне благоприятной почвы, где они могли бы укорениться. Никакое суждение не поразит меня, никакое мнение не оскорбит, как бы они ни были мне чужды. Нет причуды столь легкомысленной и странной, которую я не счел бы вполне допустимым порождением человеческого ума. Мы, не признающие за суждением своим права выносить приговоры, должны снисходительно относиться к самым различным мнениям, и если мы с ними не согласны, будем их все же спокойно выслушивать. Если одна чаша весов совсем пуста, пусть на другую, колебля ее, лягут хотя бы сонные грезы какой-нибудь старушки. Полагаю также вполне извинительным предпочитать нечетные числа, четверг, а не пятницу, стараться быть за столом не тринадцатым, а двенадцатым или четырнадцатым, охотнее наблюдать, как заяц бежит вдоль дороги, по которой путешествуешь, чем как он перебегает ее, и при обувании протягивать слуге сперва правую ногу. Все эти выдумки, которым верят окружающие, заслуживают хотя бы того, чтобы их выслушивать: по мне, это бабьи сказки, но и бабьи сказки уже кое-что. Народные приметы и гадания все же не ничто, а нечто. Тот же, кто думает иначе, стремясь избежать суеверия, впадает в порок бессмысленного упрямства.
Противные моим взглядам суждения не оскорбляют и не угнетают меня, а только возбуждают и дают толчок моим умственным силам. Мы не любим поучений и наставлений; однако надо выслушивать их и принимать, особенно когда они преподносятся в виде беседы, а не какой-нибудь нотации. При малейшем возражении мы стараемся обдумать не основательность или неосновательность его, а каким образом, всеми правдами или неправдами, его опровергнуть. Вместо того, чтобы раскрыть объятия, мы сжимаем кулаки. Я же готов выслушать от друзей самую резкую отповедь: ты дурак, ты городишь вздор. Я люблю, чтобы порядочные люди смело говорили друг с другом и слова у них не расходились с мыслями. Нам следует иметь уши более стойкие и выносливые и не изнеживать их, слушая одни только учтивые слова и выражения. Я люблю общество людей, у которых близкие отношения основаны на чувствах сильных и мужественных, я ценю дружбу, не боящуюся резких и решительных слов, так же как любовь, которая может кусаться и царапаться до крови.
Ей не хватает пыла и великодушия, если она не задириста, если она так благовоспитанна и изысканна, что боится резких толчков и все время старается сдерживаться.
Neque enim disputari sine reprehensione potest. [403]
Тот, кто возражает мне, пробуждает у меня не гнев, а внимание: я предпочитаю того, кто противоречит мне и тем самым учит меня. Общим делом и его и моим должна быть истина. Что сможет он ответить, если ярость уже помутила ему рассудок, а раздражение вытеснило разум? Было бы полезно биться в наших спорах об заклад, чтобы за ошибки мы платились бы чем-то вещественным, вели им счет и чтобы слуга мог сказать нам: в прошлом году вы потеряли сотню экю на том, что двадцать раз проявили невежество и упрямство. Кто бы ни преподносил мне истину, я радостно приветствую ее, охотно сдаюсь ей, протягиваю ей свое опущенное оружие, даже издалека видя ее приближение. Если, критикуя мои писания, принимают не слишком высокомерный и наставительный тон, я охотно прислушиваюсь и многое меняю в написанном мною скорее из соображений учтивости, чем для того, чтобы действительно произвести какие-то улучшения. Даже в ущерб себе я готов легко уступать критикам, чтобы поддерживать и поощрять в них желание свободно выражать свои мнения. Однако современников моих крайне трудно вовлечь в такой спор: у них нет мужества указывать собеседнику на его ошибки; не хватает у них духу и на то, чтобы самим принимать его замечания, и друг с другом они всегда говорят неискренно. Я настолько люблю, чтобы люди обо мне судили и узнавали мою подлинную сущность, что мне почти безразлично, идет ли речь о том или о другом. В воображении своем я так склонен противоречить самому себе и осуждать самого себя, что мне все равно, если это делает кто другой: главное ведь то, что я придаю его мнению не больше значения, чем это мне в данный момент угодно. Но я прекращаю спор с тем, кто уж слишком заносится: я знавал одного человека, который обижается за свое мнение, если ему недостаточно верят, и считает оскорблением, если собеседник колеблется, последовать ли его совету. То, что Сократ весело принимал все возражения, которые ему делали, может быть, происходило потому, что он хорошо сознавал свою силу и, будучи уверен, что окажется прав, усматривал в этих возражениях лишнюю возможность утвердить свою славу. Напротив, мы видим, что больше всего задевает нас сознание превосходства нашего противника и его презрение, а между тем именно слабому следует, по справедливости, со всей готовностью стать на правильный путь. И я, действительно, больше ищу общества тех, кто меня поучает, чем тех, кто меня побаивается. Иметь дело с людьми, которые восхищаются нами и во всем нам уступают, – удовольствие весьма пресное и даже вредное для нас. Антисфен наставлял своих детей никогда не выражать ни малейшей благодарности тому, кто их хвалит [404]. Я гораздо больше горжусь победой, которую одерживаю над самим собою, когда в самом пылу спора заставляю себя склониться перед доводами противника, чем радуюсь, одолевая противника из-за его слабости. Одним словом, я готов принимать и парировать все удары, которые наносят мне по правилам поединка, даже самые неумелые, но не переношу ударов неправильных. Суть дела меня трогает мало, высказываемые мнения безразличны, и я более или менее равнодушен к исходу спора. Я готов хоть целый день спокойно вести спор, если в нем соблюдается порядок. Я требую не столько силы и тонкости аргументов, сколько порядка, того порядка, который всегда соблюдают в своих словесных распрях пастухи или молодцы, стоящие за прилавками, но никогда не соблюдаем мы. Если беспорядок и возникает, то потому, что спор переходит в перебранку, а это случается и у нас. Но пыл и раздражение не уводят их от сути спора: речь идет все о том же. Если они перебивают друг друга, не выслушивают до конца, то во всяком случае все время понимают, о чем идет речь. По-моему, любой ответ хорош, если он к месту. Но когда спор превращается в беспорядочную свару, я отхожу от сути дела и увлекаюсь формой, злюсь, раздражаюсь и начинаю проявлять в споре упрямство, недобросовестность, высокомерие, а потом мне приходится за все это краснеть.
Невозможно вести честный и искренний спор с дураком.
Воздействие такого неистового советчика, как раздражение, губительно не только для нашего разума, но и для совести. Брань во время споров должна запрещаться и караться, как другие словесные преступления. Какого только вреда не причиняет и не нагромождает она, неизменно порождаемая злобным раздражением!
Враждебное чувство вызывают в нас сперва доводы противников, а затем и сами люди. Мы учимся в споре лишь возражать, а так как каждый только возражает и выслушивает возражения, это приводит к тому, что теряется, уничтожается истина. Вот почему Платон в своем государстве лишал права на спор людей с умом ущербным и неразвитым [405].
Зачем отправляться на поиски истины со спутником, не умеющим идти так ровно и быстро, как надо? Предмету не наносится никакого ущерба, если от него отступают, чтобы найти правильный способ рассуждать о нем. Я имею в виду не приемы схоластических силлогизмов, а естественный путь здравого человеческого разумения. К чему это все может привести? Один из спорщиков устремляется на запад, другой – на восток, оба они теряют из виду самое главное, плутая в дебрях несущественных частностей. После часа бурного обсуждения они уже сами не знают, чего ищут: один погрузился на дно, другой залез слишком высоко, третий метнулся в сторону. Тот цепляется за одно какое-нибудь слово или сравнение; этот настолько увлекся своей собственной речью, что не слышит собеседника и отдается лишь ходу своих мыслей, не обращая внимания на ваши. А третий, сознавая свою слабость, всего боится, все отвергает, с самого начала путает слова и мысли или же в разгаре спора вдруг раздраженно умолкает, напуская на себя горделивое презрение от досады на свое невежество либо из глупой ложной скромности уклоняясь от возражений. Одному важно только наносить удары и все равно, что при этом он открывает свои слабые места. Другой считает каждое свое слово, и они заменяют ему доводы. Один действует только силой своего голоса и легких. Другой делает выводы, противоречащие его же собственным положениям. Этот забивает вам уши пустословием всяческих предисловий и отступлений в сторону. Тот вооружен лишь бранными словами и ищет любого пустякового предлога, чтобы рассориться и тем самым уклониться от беседы с человеком, с которым он не может тягаться умом. И, наконец, еще один меньше всего озабочен разумностью доводов, зато он забивает вас в угол диалектикой своих силлогизмов и донимает формулами своего ораторского искусства.
Кто же, видя, какое употребление мы делаем из наук, этих nihil sanantibus litteris [406], не усомнится в них и в том, что они могут принести какую-нибудь пользу в жизни? Кого логика научила разумению? Где все ее прекрасные посулы? Nec ad melius vivendum nec ad commodius disserendum [407]. Разве рыночные торговки сельдью городят в своих перебранках меньше вздора, чем ученые на своих публичных диспутах? Я предпочел бы, чтобы мой сын учился говорить в каких-нибудь кабачках, чем в этих школах для говорения. Наймите магистра свободных искусств, побеседуйте с ним. Пусть бы он дал нам почувствовать весь блеск своего искусства, пусть бы он восхитил женщин и жалких невежд вроде нас основательностью своих доводов и стройной логичностью рассуждений, пусть бы он покорил нас, убедил, как ему будет угодно! Для чего человеку, обладающему такими преимуществами как в предмете своей науки, так и в умении рассуждать, пользоваться в словесной распре оскорблениями, нескромными, гневными выпадами? Сбрось он с себя свою ермолку, мантию, свою латинскую ученость, не забивай он вам слух самыми чистыми, беспримесными цитатами из Аристотеля, и вы найдете, что он не лучше любого из нас грешных, а пожалуй и хуже. Мне кажется, что с их витиеватыми и путаными речами, которыми они нас морочат, обстоит так же, как с искусством фокусников; их ловкость действует на наши ощущения, завладевает ими, но убедить нас ни в чем не может; кроме этого фиглярства, все у них пошло и жалко. Учености у них больше, а глупости ничуть не меньше.
Я люблю и почитаю науку, равно как и тех, кто ею владеет. И когда наукой пользуются, как должно, это самое благородное и великое из достижений рода человеческого. Но в тех (а таких бесчисленное множество), для кого она – главный источник самодовольства и уверенности в собственном значении, чьи познания основаны лишь на хорошей памяти (sub aliena umbra latentes) [408], кто все черпает только из книг, в тех, осмелюсь сказать, я ненавижу ученость даже несколько больше, чем полное невежество. В нашей стране и в наше время ученость может быть полезной для кармана, но душе она редко что-либо дает. Для слабой души она является тяжелым и труднопереваримым материалом, отягощает и губит ее. Души возвышенные она еще больше очищает, просветляя и утончая их до того, что в них уже как бы ничего не остается. Ученость как таковая сама по себе, есть нечто безразличное. Для благородной души она может быть добавлением очень полезным, для какой-нибудь иной – вредоносным и пагубным. Вернее было бы сказать, что она вещь драгоценная для того, кто умеет ею пользоваться, но за нее надо платить настоящую цену: в одной руке это скипетр, в другой – побрякушка. Но пойдем дальше.
Какой еще можно желать победы, когда вы убедили противника, что ему нет смысла продолжать с вами борьбу? Если побеждает то положение, которое вы защищали, в выигрыше истина. Если побеждает ясность и стройность вашего рассуждения, в выигрыше вы сами. Мне сдается, что у Платона и Ксенофонта Сократ ведет спор скорее ради пользы своих противников, чем ради самого предмета спора, скорее ради того, чтобы Эвридем и Протагор [409] прониклись сознанием своего собственного ничтожества, чем порочности своего учения. Он обращается с предметом так, словно ставит себе более важную цель, чем истолкование такового, то есть стремится просветить умы тех, с кем беседует и кого учит. Во время охоты ловкость и целесообразность наших действий и является в сущности той дичью, за которой мы охотимся: если мы ведем охоту плохо, неумело – для нас нет извинения. А уж поймаем ли мы дичь или не поймаем – дело совсем другое. Ибо мы рождены для поисков истины. Обладание же ею дано лишь более высокому и мощному духу. Истина вовсе не скрыта, как это утверждал Демокрит [410], в глубочайших безднах, – вернее будет считать, что она царит высоко над нами и владеет ею мысль божества. Мир наш – только школа, где мы учимся познавать. Самое важное не взять приз, а проявить больше всего искусства в состязании. Тот, кто вещает истину, может быть таким же дураком, как и тот, кто городит вздор: ибо дело у нас не столько в том, что именно сказано, сколько в том, как сказано. Я склонен уделять форме не меньше внимания, чем сути, защитнику дела не меньше, чем самому делу, как считал нужным Алкивиад.
Мне всегда доставляет удовольствие читать произведения различных писателей, не заботясь о том, много ли они знают: меня занимает не самый предмет их, а то, как они его трактуют. Точно так же стараюсь я завязать знакомство с тем или иным из прославленных умов не для того, чтобы он меня учил, но для того, чтобы узнать его самого.
Любой человек может сказать нечто, соответствующее истине, но выразить это красиво, разумно, немногословно смогут не столь уж многие. Вот почему меня раздражает не сказанное неверно по незнанию, а неумение сказать это хорошо. Я прервал многие полезные для меня связи из-за того, что те, с кем я был связан, проявляли полную неспособность к беседе. Даже раз в год я не выскажу возмущения ошибками тех, кто от меня зависит, но ежедневно у нас происходит стычки из-за глупости и упрямства, которые они проявляют в своих тупых, ослиных объяснениях, извинениях и оправданиях. Они не понимают, что и почему им говоришь, и точно так же отвечают, доводя меня прямо до отчаяния. Самый для меня болезненный удар по голове – тот, который мне наносит другая голова, я готов скорее примириться с пороками моих людей, чем с их нахальством, докучностью и глупостью. Пусть уж лучше они меньше делают, лишь бы проявили способность что-то делать. Живешь в надежде пробудить их добрую волю, но от чурбана не на что надеяться и нечего ждать.
Но что если я считаю вещи не тем, чем они на самом деле являются? Это вполне возможно. И потому я готов осудить свое нетерпение и сразу же сказать, что оно так же порочно в правом, как и в неправом; кто не выносит несвойственных самому себе повадок, тот не в меру раздражителен. И, кроме того, сказать по правде, нет глупости больше, назойливее и диковиннее, чем возмущаться и оскорбляться глупостями, творящимися вокруг. Ибо эта глупость обращается против нас же. И у некоего философа древности никогда не было недостатка в поводах для слез, коль скоро он приглядывался бы к самому себе. Мисон, один из семи мудрецов, во многом сходный с Тимоном и Демокритом, на вопрос, над чем это он смеется, сидя в одиночестве, ответил: «Да как раз над тем, что смеюсь про себя» [411].
Сколько глупостей, что ни день, говорю я сам в ответ на другие и насколько же этих глупостей больше по мнению других! Если из-за этого я сам себе кусаю губы, что же делают другие? Одним словом, надо жить среди живых людей и не заботиться о том, а тем паче не вмешиваться в то, как вода течет под мостом. И правда, почему мы без всякого раздражения видим человека кривобокого, косолапого – и не можем не прийти в ярость, встретившись с человеком, у которого ум вкривь и вкось? Источник этого неправедного гнева – не столько провинность, сколько сам судья. Будем всегда помнить изречение Платона: «Если что-нибудь по-моему не здорово, то не потому ли, что это я не здоров? Не сам ли я в этом виноват? Нельзя ли мой упрек обратить против меня самого?» [412] Слова божественно мудрые, бичующие самое общераспространенное из человеческих заблуждений. Не только упреки, которые мы делаем друг другу, но и наши доводы, и наши аргументы в спорах большей частью можно обратить против нас же и поразить нас нашим же оружием. У древних я нахожу этому достаточно яркие примеры. Очень удачно и весьма к месту сказал нижеследующее словцо тот, кто его придумал:
Stercus cuique suum bene olet. [413]
На затылке у нас нет глаз. Сто раз на день смеемся мы над самими собой по поводу того, что подмечаем у соседа, в другом осуждаем те недостатки, которые еще нагляднее в нас самих, где мы ими же восхищаемся с удивительным бесстыдством и непоследовательностью.
Еще вчера я был свидетелем того, как один человек, рассудительный и любезный, весьма забавно и справедливо высмеивал глупость другого, который всем надоедает разговорами о своей родословной и аристократических родственных связях, – притом и то и другое в достаточной мере не подлинно (охотнее всего пускаются в подобные разговоры как раз те, чей аристократизм всего сомнительнее). Но если бы насмешник взглянул на себя со стороны, он заметил бы, что и он сам не менее назойливо и докучно выставляет всем напоказ знатность и родовитость своей супруги. О докучное самомнение, которым жену вооружает ее собственный муж! Если бы они понимали латынь, им бы следовало процитировать:
Age! si haec non insanit satis sua sponte, instiga. [414]
Я не утверждаю, что осуждать может только человек безупречный, ибо тогда никто никого не осуждал бы. Не считаю я даже, что осуждающий должен быть обязательно непричастен к тому же греху. Я имею в виду, что, осуждая недостатки другого человека, о котором сейчас идет речь, мы тем самым отнюдь не избавляем самих себя от внутреннего суда. Со стороны того, кто не в силах справиться со своим собственным пороком, я считаю человеколюбивым стремление излечить от него другого человека, в котором дурное семя, может быть, не так глубоко и зловредно укоренилось. Не считаю я также правильным в ответ на упреки обвинять собеседника в том же грехе. Не все ли это равно? Упрек остается справедливым и полезным. Если бы у нас было хорошее обоняние, наши собственные нечистоты должны были бы казаться нам еще зловоннее. Сократ полагал, что когда какой-нибудь человек, его сын и кто-то ему посторонний оказываются одинаково повинны в каком-то насилии или оскорблении, виновный должен требовать у правосудия справедливой кары прежде всего самому себе, затем своему сыну и, наконец, третьему, постороннему для него человеку [415]. Если это предписание, пожалуй, уж чересчур сурово, то во всяком случае каждый, кто в чем-либо виновен, должен судить судом личной совести в первую очередь себя самого.
Ощущения наши являются для нас непосредственными, первоначальными судьями, воспринимающими все окружающие вещи по внешнему впечатлению. Нечего и дивиться тому, что во всех областях общественной жизни наблюдается такое непрерывное многообразное смешение всевозможных церемоний и чисто внешних форм поведения и что именно в них наиболее полным и действенным образом проявляется всякий общественный порядок. Ведь мы всегда имеем дело с человеком, а всего примечательнее, что природа человеческая в основе своей – телесна. Пусть те, кто за последние годы стремились утвердить религию созерцательную и безобрядную [416], не удивляются, что есть люди, считающие, что эта религия растаяла бы и растеклась у них между пальцев, если бы она не держалась среди нас больше потому, что стала знаком, именем и орудием общественного разлада и разделения на партии, чем по своим внутренним качествам. То же самое и в наших диспутах: важный вид, облачение и высокое положение говорящего часто заставляют верить словам пустым и нелепым. Никому и в голову не придет, что у человека столь уважаемого и почитаемого нет за душой ничего, кроме этого уважения толпы, и что человек, которому поручается столько дел и должностей, такой высокомерный и надменный, не более искусен, чем какой-то другой, издали низко кланяющийся ему и ничьим доверием не облеченный. Не только слова, но и ужимки таких людей принимают во внимание, считаясь с ними, и каждый старается истолковать их самым лучшим и основательным образом. Если они снисходят до собеседования с обыкновенными людьми и им приходится выслушать что-либо, кроме выражений почтительного одобрения, они сокрушают вас авторитетом своего личного опыта: они, мол, слышали, видели, делали то-то и то-то. Вы просто раздавлены количеством примеров. Я охотно возразил бы им, что, например, ценность опыта, вынесенного врачом, состоит вовсе не в удачной практике, не в простом учете четырех излеченных чумных и трех подагриков, и что опыт его ничего не доказывает, если он не сумел извлечь из него никакой общей мысли и не может убедить нас в том, что стал лучше разуметь свое дело. Так, в концерте мы слышим не лютню, спинет [417] или флейту, а созвучие этих инструментов вместе взятых, то, что создается их взаимодействием. Если путешествия, совершенные важными лицами, и отправление ими должностей пошли им на пользу, пусть они докажут это нам развитием своей способности суждения. Недостаточно накопить опыт, надо его взвесить и обсудить, надо его переварить и обдумать, чтобы извлечь из него все возможные доводы и выводы. Никогда не было столько историков, как в наше время. Слушать их всегда хорошо и полезно, так как в складе их памяти мы найдем для себя много прекрасных и нужных сведений, поучений. В жизни это, конечно, большая нам подмога. Но не к тому мы сейчас стремимся, – мы хотим убедиться, достойны ли похвалы сами по себе эти рассказчики и летописцы событий.
Мне ненавистна всякая тирания – и в речах и в поступках. Я всегда восстаю против суетности, против того, чтобы внешние впечатления затуманивали нам рассудок, а так как необыкновенное величие некоторых людей всегда вызывает у меня известные сомнения, я обычно убеждаюсь, что они в сущности такие же, как все.
Rarus enim ferme sensus communis in illa
Fortuna. [418]
Случается, что их уважают и ценят даже меньше, чем они того на самом деле заслуживают, именно потому, что они за слишком многое берутся и слишком выставляют себя напоказ, без достаточных оснований. В человеке, взваливающем на себя ношу, должно быть больше силы и мощи, чем требует его груз. У того, кто не использовал своих сил до предела, можно еще предполагать любые возможности. Тот же, кто пал под непосильным бременем, всем показывает, как слабы его плечи. Вот почему именно среди ученых мы так часто видим умственно убогих людей, из которых вышли бы отличные земледельцы, торговцы, ремесленники: такой род деятельности вполне соответствовал бы их природным силам. Наука – дело очень нелегкое, оно их сокрушает. Механизм, которым они являются, и недостаточно мощен и недостаточно тонок, чтобы обрабатывать и перерабатывать столь сложное и благородное вещество. Наука пригодна лишь для сильных умов; а они весьма редки. Слабые же умы, по словам Сократа [419], берясь за философию, наносят только ущерб ее достоинству. Оружие это в худых ножнах кажется и никчемным и даже опасным. Вот как они сами себе портят дело и вызывают смех.
Humani qualis simulator simius oris,
Quem puer arridens pretioso stamine serum
Velavit, nudasque nates ac terga reliquit,
Ludibrium mensis. [420]
Точно так же и тем, кто нами повелевает и правит, кто держит в руках своих судьбы мира, недостаточно обладать разумением среднего человека, мочь столько же, сколько можем мы; и если они не превосходят нас в достаточной мере, то уже тем самым оказываются гораздо ниже нашего уровня. От них ожидаешь большего, они и должны делать больше. Молчаливость приносит им зачастую большую пользу не только тем, что придает внушающую почтение важность, но и тем, что порою является для них весьма выгодной и удобной. Так, Мегабиз, посетив Апеллеса в его мастерской, долгое время пребывал в безмолвии, а затем принялся рассуждать о его творениях, на что получил следующую резкую отповедь: «Пока ты молчал, ты в своем роскошном наряде и золотых украшениях казался нам чем-то весьма значительным. Теперь же, после того, как мы тебя послушали, над тобой потешается мой самый последний подмастерье» [421]. Из-за своего высокого положения, из-за окружавшего его великолепия он не имел права проявлять невежество простолюдина и нести вздор о живописи: ему следовало, не нарушая молчания, сохранять такой вид, будто он в этой области знаток. А скольким из моих нищих духом современников напускная холодная молчаливость помогла прослыть мудрыми и понимающими людьми!
Чины и должности, – так уж повелось – даются человеку чаще по счастливой случайности, чем по заслугам. И большей частью за это совершенно напрасно упрекают королей. Напротив, надо изумляться, как часто удается им сделать удачный выбор при недостаточном уменье разбираться в людях.
Principis est virtus maxima nosse suos. [422]
Ибо природа отнюдь не наделила их ни способностью обнять взором столь большое количество людей, чтобы остановиться на достойнейших, ни даром заглядывать в душу, дабы получить представление о нашем взгляде на вещи и наших качествах. Им приходится выбирать нас как бы наугад, в зависимости от обстоятельств, от нашей родовитости, богатства, учености, репутации – оснований весьма слабых. Тот, кто сумел бы найти способ всегда судить о людях по достоинству и выбирать их согласно доводам разума, уже одним этим установил бы самую совершенную форму государственности.
Отлично! Допустим, что ему удалось совершить это великое дело. Это уже нечто, но еще не все. Ибо справедливо изречение, что о данном совете нельзя судить только по исходу предприятия. Карфагеняне взыскивали со своих полководцев за неправильные решения, даже если по счастливой случайности дело обернулось хорошо. А народ римский нередко отказывал в триумфе полководцам, одержавшим крупные и очень выгодные государству победы, только за то, что успех достигнут был не благодаря их искусству, а лишь потому, что им повезло. Обычно приходится наблюдать, что во всех жизненных делах судьба, которая всегда стремится показать нам свое могущество и унизить нашу самонадеянность, но не может сделать неспособных людей мудрецами, дарует им вместо разума и доблести – удачу. И благосклоннее всего она к тем именно предприятиям, где успех зависит исключительно от нее. Вот почему мы постоянно видим, что самые ограниченные люди доводят до благополучного разрешения важнейшие дела, как общественные, так и частные. Недаром перс Сирам, отвечая людям, удивившимся, почему это его дела так плохи, когда он рассуждает так умно, сказал, что рассуждения зависят только от него самого, а успех в делах – от судьбы [423]; удачливые простаки могут сказать то же самое, только в обратном смысле. В нашей жизни почти все совершается как-то само по себе:
Fata viam inveniunt. [424]
Успехом может зачастую увенчаться самое неосмысленное поведение. Наше участие в каком-либо предприятии – почти всегда дело навыка, и руководствуемся мы гораздо чаще обычаем и примером, чем разумными соображениями. Пораженный в свое время важностью одного дела, я узнал о тех, кто привел его к удачному концу, как они действовали и на каком основании, и обнаружил во всем этом лишь самую обычную посредственность. Может быть, действовать наиболее обычным и общепринятым образом в жизненных делах всего полезнее и удобнее, хотя это и производит несравненно меньшее впечатление.
Как! Самые пошлые побуждения – наиболее основательны? Самые низменные и жалкие, самые избитые – больше всего приносят пользы делу? Для того, чтобы поддерживать уважение к королевским предначертаниям, нет необходимости, чтобы к ним были причастны простые смертные, которые при этом стали бы слишком далеко заглядывать. Кто хочет сохранить к ним должное почтение, пусть доверится полностью и безоговорочно. Мое рассуждение о том или ином деле лишь слегка затрагивает его, поверхностно касается на основании первого впечатления. Что же до главного и основного, то в этом я привык полагаться на провидение:
Permitte divis cetera. [425]
Две величайшие, на мой взгляд, силы – счастье и несчастье. Неразумно считать, будто разум человеческий может заменить судьбу. Тщетны намерения того, кто притязает обнять причины и следствия и за руку вести свое предприятие к вожделенному концу. Особенно же тщетны они при обсуждении операций на военном совете. Никогда еще люди не проявляли столько предусмотрительности и осмотрительности в делах военных, как зачастую проявляем теперь мы. Не из страха ли сбиться с пути, не из стремления ли благополучно прийти к развязке?
Скажу даже больше: и сама наша мудрость, наша рассудительность большей частью подчиняется воле случая. Мои воля и рассудок покоряются то одному дуновению, то другому, и многие из их движений совершаются помимо меня. Разум мой подвержен воздействиям, зависящим от случайных, временных обстоятельств:
Vertuntur species animorum, et pectora motus
Nunc alios, alios dum nubila ventus agebat,
Concipiunt. [426]
Посмотрите, кто в наших городах наиболее могуществен и лучше всего делает свое дело, – и вы найдете, что обычно это бывают наименее способные люди. Случалось, что женщины, дети и безумцы управляли великими государствами не хуже, чем самые одаренные властители. И обычно, отмечает Фукидид, грубым умам дело управления давалось лучше, чем утонченным [427]. Мы же удачу их приписываем разумению.
Ut quisque fortuna utitur
Ita praecellet, atque exinde sapere illum omnes dicimus. [428]
Вот почему я всегда прав, утверждая, что ход событий – плохое доказательство нашей ценности и наших способностей.
Говорил я также, что нам надо только обратить внимание на какое-нибудь лицо, достигшее высокого положения: если за три дня до этого мы знали его как человека незначительного, в нашем представлении возникает образ величественный, полный благородных свойств, и вот мы уверены, что человек этот, возвысившийся в общественном положении и во мнении людей, возвысился также и по своим заслугам. Мы судим о нем не по его подлинным качествам, для нас он – как игральная фишка, ценность которой зависит от того, куда она ляжет. Если переменится счастье, если он падет и вновь смешается с толпой, каждый станет выражать удивление: как это удалось ему сперва так высоко забраться. «Тот ли это человек? – скажут все. – Неужто он ни о чем понятия не имел, когда занимал свой пост? Неужто короли так плохо выбирают себе слуг? В хороших же руках мы находились!» Сколько раз приходилось мне это видеть. Ведь и личины великих людей, изображенных на сцене, могут нас взволновать и обморочить. Больше всего заставляют меня преклоняться перед королями толпы преклоненных перед ними людей. Все должно подчиняться и покоряться им, кроме рассудка. Не разуму моему подобает сгибаться, а лишь коленям.
Когда Мелантия спросили, что он думает о трагедии, сочиненной Дионисием, он ответил: «Я ее даже и не видел, так она затуманена велеречием» [429]. Точно так же большинство из тех, кто судит о речах властителей, могут сказать: «Я не слышал того, что он сказал, так это все было затуманено превыспренностью, важностью и величием».
Антисфен, посоветовав однажды афинянам распорядиться, чтобы их ослов применяли для пахоты так же, как лошадей, получил ответ, что эти животные для такой работы не годятся. «Все равно, – возразил он, – достаточно вам распорядиться. Ведь даже самые невежественные и неспособные люди, которые у вас командуют на войне, сразу же становятся подходящими для этого дела, как только вы их назначили» [430].
Сюда же относится обычай многих народов обожествлять избранного ими властителя: им мало почитать его, они хотят ему поклоняться. Жители Мексики после коронования своего владыки уже не смеют смотреть ему в лицо. Он же, раз они его обожествили, наделив царской властью, клянется им не только защищать их веру, законы, свободу, быть доблестным, справедливым и милостивым, но также заставлять солнце светить и совершать свой путь в небе, тучи – изливать в должное время дождь, реки – струиться по течению, землю – приносить все нужные народу плоды [431].
Я не придерживаюсь этого общепринятого взгляда на вещи, и высокие достоинства человека вызывают у меня подозрение, если им сопутствуют величие, удача и всеобщий почет. Надо всегда иметь в виду, какое значение имеет возможность сказать то-то и то-то в подходящий момент, выбрать отправную точку, прервать свою речь или властным решением изменить предмет ее, отвергнуть возражение собеседника одним лишь движением головы, улыбкой или просто своим молчанием перед аудиторией, трепещущей от благоговейного почтения.
Некий человек, обладатель неслыханного богатства, вмешавшись в легкую, ни к чему не обязывающую беседу, которая велась за его столом, начал буквально так: «Только лжец или невежда могут не согласиться с тем, что…» и т. д. Острый зачин столь философического свойства можно развивать и с кинжалом в руках.
Вот и другое соображение, которое я считаю весьма полезным: во время бесед и споров нельзя сразу же соглашаться с каждым словом, которое кажется нам верным. Люди большей частью богаты чужой мудростью. Каждый может употребить ловкое выражение, удачно изречь что-нибудь или удачно ответить и, выступив со всем этим, даже не отдавать себе отчета в подлинном значении своих слов. Я и на своем личном примере мог бы показать, что не всегда полностью владеешь тем, что заимствовано у другого. Какой бы верной и красивой ни казалась чужая мысль, не всегда следует ей поддаваться. Надо или разумно противопоставить ей другую или же отступить и, сделав вид, что не расслышал собеседника, основательно, со всех сторон прощупать, что он в сущности имел в виду. Может случиться также, что мы слишком остро отзовемся на удар, которым нас вовсе не собираются сильно затронуть. В свое время мне случалось в пылу спора давать такие ответы, которые попадали гораздо дальше, чем я намечал. Я старался, чтобы они были только числом побольше, а давили на собеседников они всем своим весом. Когда я спорю с сильным противником, то стараюсь предугадать его выводы, освобождаю его от необходимости давать мне разъяснения, силюсь досказать за него то, что в речах его лишь зарождается и потому не вполне выражено (ведь он так ладно и правильно рассуждает, что я уже заранее чувствую его силу и готовлюсь к обороне). С противниками слабыми я поступаю совершенно противоположным образом: их слова надо понимать именно так, как они сказаны, я ничего дальнейшего не предугадывать. Если они употребляют общие слова: то хорошо, это плохо, – а суждение их получается верным, надо посмотреть, не случайно ли они оказались правы. Пусть они приведут более обстоятельные доводы и объяснят, почему именно, каким образом это так, а не иначе. Общепринятые мнения, с которыми постоянно сталкиваешься, ничего мне не говорят. Высказывающие их люди как бы приветствуют целую толпу народа, не различая в ней никого. Тот же, кому она хорошо знакома, обращается к каждому в отдельности, называя его по имени. Но дело это нелегкое.
По нескольку раз в день приходилось мне замечать, что умы неосновательные, желая сделать вид, будто они хорошо разбираются в красотах какого-нибудь литературного произведения, выражают свое восхищение по столь неудачному поводу, что убеждают нас не в достоинствах автора, а в своем собственном невежестве. Прослушав страницу из Вергилия, можно безошибочно воскликнуть: «Как прекрасно!» Этим обычно и отделываются хитрецы. Но обстоятельно разобрать данный отрывок, подробно и обоснованно отметить, в чем выдающийся писатель превзошел сам себя, как он достиг высшего мастерства, взвесить отдельные слова, фразы, образы, одно за другим – от этого лучшего откажитесь. Videndum est non modo quid quisque loquatur, sed etiam quid quisque sentiat, atque etiam qua de causa quisque sentiat [432]. Постоянно слышу я, как глупцы держат речи вовсе не глупые. Говорят они верные вещи.
Но посмотрим, насколько хорошо они их знают, откуда идет их разуменье. Мы помогаем им воспользоваться умным словом, правильным доводом, которые не им принадлежат, которыми они только завладели. Они привели их нам случайно, на ощупь, мы же относим все это на их личный счет. Вы им оказываете помощь. А зачем? Они нисколько не благодарны и становятся лишь невежественнее. Не помогайте им, предоставьте их самим себе. Они станут обращаться с предметом, о котором идет речь, как люди, опасающиеся обжечься; они не решатся подойти к нему с какой-то другой стороны, углубить его. Вы же повертите его туда и сюда, и он сразу выпадет у них из рук, они уступят вам его, как бы прекрасен и достоин он ни был. Оружие это хорошее, но с неудобной для них рукоятью. Сколько раз бывал я тому свидетелем! Но если вы начнете учить их и просвещать, они тотчас же присвоят себе все преимущества, которые можно получить от ваших разъяснений: «Это я и хотел сказать, так я именно и думал, только не нашел сразу подходящих слов». Подскажите им, как поступить. Чтобы справиться с их чванливой глупостью, нередко приходится поступать круто. Гегесий говорил, что никого не следует ненавидеть и осуждать, надо лишь учить [433], – это правило хорошо и разумно в других случаях. Здесь же несправедливо и даже бесчеловечно давать помощь и совет тому, кому они не нужны и кто от них становится только хуже. Пусть они запутаются еще крепче, завязнут еще глубже, – так, по возможности, глубоко, чтобы их положение стало им, наконец, понятно.
Глупость и разброд в чувствах – не такая вещь, которую можно исправить одним добрым советом. О такого рода исцелении можно сказать то же, что царь Кир ответил человеку, советовавшему ему обратиться к войскам с речью перед самой битвой: что людям не проникнуться воинственностью и мужеством на поле боя от одной хорошей речи, так же как нельзя сразу стать музыкантом, прослушав одну хорошую песню [434]. Этим можно овладеть только после длительного и основательного обучения.
Близким своим мы обязаны оказывать такую помощь, прилежно учить их и наставлять. Но проповедовать любому прохожему, исправлять невежество и тупость первого встречного – вот обычай, которого я никак не одобряю. Редко соглашаюсь я заниматься подобным делом, даже когда случайная беседа меня на это вызывает, и скорее готов стушеваться в споре, чем выступать в скучной роли учителя и наставника. Нет у меня также ни малейшей склонности писать или говорить для начинающих. Какие бы неверные и нелепые, на мой взгляд, вещи ни говорились публично или в присутствии посторонних, я не стану опровергать их ни словами, ни знаками нетерпения. Вообще же ничто в глупости не раздражает меня так, как то, что она проявляет куда больше самодовольства, чем это с полным основанием мог бы делать разум.
Беда в том, что разум-то и не дает вам проявлять самоудовлетворенность и самоуверенность, и вы всегда бываете охвачены сомнением и тревогой там, где упрямство и самонадеянность преисполняют тех, кому они свойственны, радостью и верой в себя. Самым несмышленым людям удается иногда взглянуть на других сверху вниз, с победой и славой выйти из любой схватки. А еще чаще их похвальбы и горделивая внешность производят самое благоприятное впечатление на окружающих, которые обычно недалеки и неспособны разбираться в подлинных качествах человека. Упрямство и чрезмерный пыл в споре – вернейший признак глупости. Есть ли на свете существо более упорное, решительное, презрительное, самоуглубленное, важное и серьезное, чем осел?
Разве не можем мы приправлять взаимное общение и беседу краткими остроумными замечаниями, которые сами собою рождаются в веселом и тесном кругу друзей, с полным взаимным удовольствием перебрасывающихся живыми и забавными шутками? По природной своей вялости я весьма склонен к такому времяпрепровождению. И если в нем нет значительности и серьезности того другого времяпрепровождения, о котором я только что говорил, то в нем можно проявить не меньше изобретательности и остроты и оно не менее полезно, как это полагал и Ликург [435]. Что до меня, то в нем я проявляю больше непосредственности, чем остроумия, и я более удачлив, чем искусен. Зато я безукоризнен в терпении, ибо без малейшей досады встречаю отпор не только резкий, но даже обидный. И если мне не удается тут же на месте найти удачный ответ на выпад противника, я не стану долго топтаться на одном месте, проявляя ненужное упрямство в скучных и неубедительных возражениях: я умолкаю, с веселой покорностью склоняя голову, и дожидаюсь более благоприятного случая доказать свою правоту. Тот, кто всегда в выигрыше, не настоящий игрок. У большинства людей, чувствующих свою слабость, изменяются выражение лица и голос, и, распаляясь бесполезным гневом, вместо того чтобы дать настоящий отпор, они только доказывают свое бессилие и нетерпение. В подобных схватках мы невзначай касаемся наиболее потаенных струн, самых скрытых своих недостатков, которые в спокойном состоянии не могли бы обнажить без мучительного чувства. И таким образом мы в самих себе получаем полезный урок и предупреждение.
Есть у нас и другие игры, на французский манер, когда дают волю рукам, – их я до смерти ненавижу. За свою жизнь я дважды видел, как в таком деле погибли два принца нашего королевского дома [436]. Гнусное дело – настоящая драка во время игры.
Вообще, когда я хочу составить себе о ком-либо мнение, я спрашиваю его, насколько он доволен собою, по нраву ли ему то, что он делает и говорит. Я не желаю слышать такого рода оправданий, как «я сделал это играючи»,
Ablatum mediis opus est incudibus istud, [437]
«я на это и часа не потратил; этого я с тех пор и в глаза не видел». – «Хорошо, – говорю я в таких случаях, – оставим все эти вещи, покажите мне то, что вас целиком представляет, то, по чему, как вы сами считаете, о вас можно справедливо судить!» И еще: «Что вы считаете в своем произведении самым лучшим? Вот это или, может быть, то? Изящество исполнения, или самый предмет, изобретательность вашу, или уменье рассуждать, или познания?» Ибо, как я замечаю, люди обычно так же ошибаются в оценке своего труда, как и чужого. И не только из-за пристрастности, которая сюда примешивается, но и по неуменью хорошо разобраться в своем же деле. Творение человека, имея собственное значение и судьбу, может оказаться для него удачей большей, чем он имел оснований на то рассчитывать по своим знаниям и способностям, может оказаться значительней, чем он сам. Что до меня, то о ценности чужого труда мне гораздо легче высказать определенное мнение, чем о ценности моего собственного. И эти свои «Опыты» я расцениваю то низко, то высоко, проявляя непоследовательность и неуверенность.
Существует много книг, полезных по своему содержанию, но ничего не говорящих об искусстве автора, и много хорошо написанных книг, как и других хорошо выполненных работ, которых создателю их следовало бы стыдиться.
Я могу написать об обычаях нашего общества, о нашем способе одеваться, но я сделаю это коряво и неумело; я могу опубликовать указы, изданные в мое время, письма государей, ставшие всем известными; я могу сделать сокращенное изложение хорошей книги (а всякое сокращенное изложение хорошей книги – вздор), а затем сама книга будет утеряна, и тому подобное. Потомство извлечет из подобных сочинений немалую пользу. Но мне-то какая выпадет честь, кроме случайной удачи? Значительная часть самых прославленных книг – именно такого рода.
Когда, несколько лет назад, я прочитал Филиппа де Коммина – писателя, разумеется, превосходного, – меня поразила у него одна не совсем обычная мысль: надо остерегаться оказывать своему повелителю столько услуг, что он уже не может вознаградить за них подобающим образом. Я должен был хвалить самую мысль, а не писателя, ибо недавно обнаружил ее у Тацита: Beneficia eo usque laeta sunt dum videntur exsolvi posse; ubi multum antevenere, pro gratia odium redditur [438]. Также и у Сенеки – выраженную с большей силой: Nam qui putat esse turpe non reddere, non vult esse cui reddat [439].
Квинт Цицерон говорит о том же, хотя и менее выразительно: Qui se non putat satisfacere, amicus esse nullo modo potest [440].
Человек, обладающий знаниями и памятью, может изложить любой подходящий для него предмет. Но для того, чтобы судить, что именно в данной книге принадлежит автору, что в ней наиболее примечательно, как проявились здесь красота и сила его души, нужно распознать, что вложено им самим, а что заимствовано, и рассмотреть также, как в заимствованном сказалось его умение выбрать, составить план, проявить изящество в стиле и языке. А что, если содержание он заимствовал, а форму ухудшил, как это часто бывает? Мы, мало занимающиеся книгами, попадаем в затруднительное положение, ибо, найдя у какого-нибудь нового поэта яркий образ, у проповедника – сильный довод, не решаемся хвалить их, не узнав сперва у сведущего человека, им ли все это принадлежит или у кого-нибудь заимствовано. Я лично всегда проявляю должную осмотрительность.
Я недавно прочел от доски до доски все сочинения Тацита (а это со мной редко случается: вот уже лет двадцать, как я не могу читать подряд одну и ту же книгу даже в течение какого-нибудь часа) и прочел по совету одного дворянина, весьма уважаемого во Франции как за свои личные достоинства, так и за свойственные ему и всем его братьям ум и добросердечие. Я не знаю писателя, который, излагая исторические факты, уделял бы при этом столько внимания нравам и склонностям отдельных личностей. И мне кажется, в противоположность его собственному мнению, что, изучая с особенным вниманием судьбы императоров своего времени, столь разнообразные и по всем своим проявлениям необычные, а также те благородные деяния, к которым побуждала многих их подданных именно их жестокость, он имел дело с предметом гораздо более волнующим и привлекательным для обсуждения и повествования, чем если бы рассказывал о битвах и общественных неурядицах. Я даже нередко находил его способ изложения чрезмерно скупым, когда он так бегло говорил о многих примерах доблестной кончины, словно боялся наскучить нам их обилием и длительным о них рассказом.
Такой способ писать историю является наиболее полезным. Движение общественной жизни в большей мере зависит от судьбы, частной – от нашего собственного поведения. Сочинения Тацита скорее рассуждение, чем повествование о событиях: они больше поучают нас, чем осведомляют. Это книга не для развлекательного чтения, а для того, чтобы изучать жизнь и черпать полезные уроки. В ней столько изречений, что их находишь повсюду, куда ни бросишь взгляд: это какой-то питомник рассуждений по вопросам этики и политики на потребу и в поучение тем, кто держит в руках своих судьбы мира. Тацит неизменно орудует сильными и обоснованными доводами, остро и тонко пользуясь ученым стилем своего времени. Римляне так любили тогда приподнятость, что если в самом предмете они не находили возможности проявить остроумие и изысканность, то прибегали для этого к слову как таковому. Манера Тацита в немалой степени напоминает манеру Сенеки: только у него преобладает насыщенность, а у Сенеки – острота. Он более подходит для того состояния – смятенного и недужного, – в каком мы сейчас пребываем: часто кажется, что это нас он изображает и обличает. Те, кто сомневается в его добросовестности, тем самым выдают свою досаду и раздражение на него. Но воззрения его – здравые, а в римских делах он на стороне блага. Не очень нравится мне только то, что он судил о Помпее строже, чем следовало бы, исходя из мнения достойных людей, живших во времена Помпея и общавшихся с ним, что он во всем уподоблял Помпея Марию и Сулле, считая, впрочем, его более скрытным. Общепризнанно, что стремление Помпея стать у кормила власти не было свободно от честолюбивых и мстительных расчетов, и даже друзья его опасались, что победа может вскружить ему голову, однако не настолько, чтобы он стал прибегать к таким же необузданным мерам, как Марий и Сулла: он не совершил в своей жизни ничего, что давало бы повод опасаться такой же предельно жестокой тирании. К тому же, подозрению нельзя придавать такого же веса, как очевидности. Вот почему я не верю оценке, которую Тацит дает Помпею. Если в повествованиях его мы находим естественность и правдивость, то, может быть, объясняется это именно тем, что они не всегда точно соответствуют выводам из его же положений, развиваемых им согласно заранее установленному плану и часто вне всякой зависимости от предмета, который он изображает, ни в малейшей степени не стараясь подогнать под свое задание. Ему незачем оправдываться в том, что, повинуясь законам своего времени, он защищал языческую религию и понятия не имел об истинной. Это беда его, а не порок.
Я особенно пристально вникал в суждения Тацита, и не все в них мне вполне ясно. Так, например, я не понимаю, почему письмо, которое старый и больной Тиберий отправил сенату («Что мне написать вам, господа, и как вам писать, и чего бы я мог не написать вам в эти дни? Да нашлют на меня боги и богини еще худшие страдания, чем те, что я каждодневно испытываю, если я смогу ответить на этот вопрос»), он так уверенно связывает с какими-то жестоко терзающими Тиберия угрызениями совести? [441] Во всяком случае, читая Тацита, я не мог уразуметь его оснований. Довольно мелким представляется мне Тацит и в том месте, где, упоминая о высокой должности в Риме, которую он одно время занимал, он считает нужным присовокупить в порядке извинения, что говорит об этом отнюдь не из тщеславия [442]. Черта эта для столь высокой души, по-моему, неподобающая. Ибо тот, кто не осмеливается говорить о себе прямо, проявляет малодушие. Если он судит о вещах решительно и независимо, здраво и уверенно, то, не раздумывая, станет приводить примеры из своей личной жизни, как нечто постороннее, и о себе самом говорить так же беспристрастно, как о любом другом человеке. Нужно во имя истины и свободы быть выше всех этих общепринятых правил учтивости. Я же осмеливаюсь говорить не просто о себе, но даже исключительно о себе. Писать о других вещах означает для меня сбиваться с пути и уклоняться от своего предмета. Я не настолько неразумно люблю себя и не так уж крепко к себе привязан, чтобы не быть в состоянии бросить на себя взгляд со стороны: как на соседа, как на дерево. Пороком является также неспособность правильно оценить собственные возможности и говорить о себе больше, чем сам видишь. Бога мы должны любить больше, чем самих себя, и хотя мы знаем его гораздо меньше, но говорим о нем сколько нашей душе угодно.
Если творения Тацита дают о нем правильное представление, он, по всей видимости, был большой человек, благородный и мужественный, обладающий разумом, чуждый суеверия, философическим и великодушным. Свидетельства его кажутся порою слишком уж смелыми, как, например, рассказ о солдате, который нес вязанку дров: руки солдата якобы настолько окоченели от холода, что кости их примерзли к ноше да так и остались на ней, оторвавшись от конечностей [443]. Однако в подобных вещах я имею обыкновение доверять столь авторитетному свидетельству. Такого же рода и рассказ его о том, что Веспасиан по милости бога Сераписа исцелил в Александрии слепую, помазав ей глаза своей слюной [444]. Сообщает он и о других чудесах, но делает это по примеру и по долгу всех добросовестных историков: они ведь летописцы всех значительных событий, а ко всему происходящему в обществе относятся также толки и мнения людей. Историки должны рассказывать, чему верили окружающие их люди, но это отнюдь не означает одобрения этих верований. Оценкой по праву занимаются теологи и философы – наши духовные руководители. Между тем один из сотоварищей его, человек не менее великий, мудро говорит: Equidem plura transcribo quam credo; nam nec affirmare sustineo, de quibus dubito, nec subducere quae accepi [445], другой ему вторит: Haec neque affirmare, neque refellere operae pretium est; famae rerum standum est [446]. Тацит творил в эпоху, когда вера в чудеса начала ослабевать, однако же он пишет, что не может не дать в своих «Анналах» места вещам, которые с верою принимали многие достойные люди и столь благоговейно почитали предки. Отлично сказано. Пусть историки будут щедрее на рассказы о том, что они слышали, чем на свои собственные соображения об этом. Да и я сам, полновластный владыка предмета, о котором веду речь, никому не обязанный отчетом, вовсе не считаю себя непогрешимым. Часто я позволяю себе различные выходки, которых отнюдь не принимаю всерьез, и словесные выверты, после которых сам покачиваю головой. Тем не менее я даю им волю, ибо вижу, что они нередко приносят славу. Я ведь не единственный судья в этом деле.
Я предстаю перед читателем стоя и лежа, спереди и сзади, поворачиваясь то правым, то левым боком, во всех своих естественных положениях. Умы одинаковой силы не всегда сходны по склонностям и вкусам. Вот все, что в целом и довольно неопределенно подсказывает мне память. Все наши общие суждения неясны и несовершенны.
Читайте далее: Глава IX. О суетности
[1] Этот человек с великими потугами собирается сказать великие глупости (лат.). – Теренций. Сам себя наказующий, IV, 8.
[2] Тиберий – см. прим. 6, с. 407.
[3] Арминий или Герман (см. следующее примечание).
[4] Вар, Публий Квинтилий – см. прим. 10, с. 366. Постыдное поражение, упоминаемое Монтенем. – это поражение римлян в Тевтобургском лесу.
[5] Сладостно наблюдать с берега за бедствиями, претерпеваемыми другими в открытом море, где бушуют гонимые ветром волны (лат.). – Лукреций, II, 1–2.
[6] …когда мне доводилось… посредничать между нашими государями… – Известно, что в 1574–1576 гг. при посредстве Монтеня происходили переговоры между Генрихом Наваррским, будущим французским королем Генрихом IV, и герцогом Гизом, вождем Лиги, а также между тем же Генрихом Наваррским и Генрихом III, королем Франции, и т. д.
[7] Гиперид – афинский оратор IV в. до н. э., ученик Исократа и Платона, соперник Демосфена. Рассказанное Монтенем см.: Плутарх. Как отличить друга от льстеца, 26.
[8] Аттик, Тит Помпоний – римский всадник, ближайший друг Цицерона (110–53 гг. до н. э.). Упоминаемое здесь всеобщее крушение – убийство Цезаря в
[9] Это не средний путь, это – никакой путь и таков путь тех, кто ожидает, к какому исходу судьба приведет их замыслы (лат.). – Тит Ливий, XXXII, 21.
[10] Гелон – тиран Сиракузский (с 484 по
[11] Жан де Морвилье (1506–1577) – епископ Орлеанский, крупный государственный деятель; неоднократно принимал участие в переговорах между католиками и протестантами, неизменно проявляя при этом умеренность.
[12] Филиппид… ответил Лисимаху… – Переданное Монтенем см.: Плутарх. О любознательности, 4. Лисимах – один из наиболее выдающихся военачальников Александра Македонского. После смерти Александра Лисимах получил во владение Фракию и некоторые другие земли на берегах Черного моря (
[13] …напоминает… осла Эзоповой басни… – Речь идет о басне Эзопа № 331.
[14] Всякому больше всего подобает то, что больше всего ему свойственно (лат.). – Цицерон. Об обязанностях, I, 34.
[15] Мы не обладаем твердым и четким представлением об истинном праве и подлинном правосудии; мы довольствуемся тенью и призраками (лат.). – Цицерон. Об обязанностях, II, 17.
[16] …мудрей Дандамис, выслушав… жизнеописания… – Сообщаемое Монтенем см.: Плутарх. Жизнеописание Александра, 65.
[17] На основании постановлений сената и решений народа творятся преступления (лат.). – Сенека. Письма, 95, 30.
[18] …Помпоний Флакк… завлек преступника… и отослал в Рим. – Речь идет о Рескупориде, завлекшем в западню и убившем при императоре Тиберии своего племянника Котиса. Рассказ об этом см.: Тацит. Анналы, II, 64–67.
[19] …говорили лакедемоняне с… Антипатром… – Передаваемое Монтенем см.: Плутарх. Как отличить друга от льстеца, 23. Антипатр – см. прим. 32, гл. XXV, том I.
[20] …клятву, какую египетским царям… давали… судьи… – Источник Монтеня: Плутарх. Изречения древних царей.
[21] Гаи Фабриций Лусцин – см. прим. 1, гл. XLIX, том I. Источник Монтеня: Плутарх. Изречения древних царей.
[22] Ярополк… подкупил… венгерского дворянина… – Этот рассказ заимствован Монтенем у Гербурта Фульстинского (Jan Herburt z Fulsztyna. De origine et rebus gestis Polonorum), польского историка XVI в.; французский перевод этой книги (Histoire des rois et princes de Pologne) вышел в
[23] Антигон убедил… предать в его руки Евмена… – Рассказ об этом содержится у Плутарха, см.: Жизнеописание Евмена, 19. Описанное Монтенем произошло в
[24] Раб… получил свободу… но… был… сброшен с Тарпейской скалы… – Источник Монтеня: Валерий Максим, VI, 5, 7. Публий Сульпиций Руф – римский консул
[25] Махмуд… выдал убийцу… – Этот эпизод приведен в книге Lavardin. Histoire de Georges Castriot… Paris, 1576. Махмуд (Магомет) II – см. прим. 19, гл. I, том II.
[26] Хлодвиг – см. прим. 5, гл. XXXIV, том I.
[27] Дочь Сеяна… была удавлена… – Источник Монтеня: Тацит, Анналы, V, 9. Элий Сеян – начальник преторианской гвардии, всесильный временщик при Тиберии. В
[28] Мурад I – турецкий султан с 1360 по
[29] Витовт – великий князь Литовский (1386–1430). Эти сведения почерпнуты Монтенем у Кромера (De rebus Polonlae, XVI).
[30] Но пусть он не ищет оправданий для своего клятвопреступления (лат.). – Цицерон. Об обязанностях, III, 29. Монтень несколько изменяет слова Цицерона.
[31] Что же… может совершить государь?.. – Этот абзац, как считают комментаторы «Опытов», добавлен Монтенем между 1588 и 1592 гг. Здесь Монтень окончательно осуждает «макиавеллизм», и здесь им выражена его точка зрения на соотношение этики и политики.
[32] Тимолеон – коринфский военачальник (410–337 гг. до н. э.). Узнав, что его брат Тимофан намерен захватить власть в Коринфе, Тимолеон, после тщетных попыток убедить Тимофана отказаться от этого замысла, лишил его жизни. Источник Монтеня: Диодор Сицилийский, XVI, 65.
[33] …сенат объявил, что они должны вносить налоги… – Это сообщение приводится у Цицерона (Об обязанностях, III, 22), который выражает свое глубокое возмущение постановлением сената.
[34] Словно насилие может повлиять на подлинно храброго человека (лат.). – Цицерон. Об обязанностях, III, 30.
[35] Эпаминонд – см. прим. 6, гл. I, том I.
[36] …сокрушая… мощь народа, непобедимого в схватке со всеми, кроме него… – Монтень имеет в виду спартанцев.
[37] …один полководец сказал мамертинцам… – Монтень подразумевает Помпея; см.: Плутарх. Жизнеописание Помпея, 10.
[38] …одно время для правосудия, а другое для войны… – Это было сказано Цезарем; см.: Плутарх. Жизнеописание Цезаря, 36.
[39] …звон оружия мешает ему слышать голос законов… – Монтень имеет в виду Мария; см.: Плутарх. Жизнеописание, Мария, 28.
[40] Даже при расторжении государственных договоров памятуя о правах частных лиц (лат.). – Тит Ливий, XXV, 18.
[41] И никакая власть не в силах предотвратить, чтобы [твой] друг не совершил какого-нибудь проступка (лат.). – Овидий. Письма с Понта, I, 7,36–37.
[42] Ведь родина не заслоняет от нас всех остальных наших обязанностей, и ей самой выгодно иметь граждан, почитающих родителей (лат.). – Цицерон. Об обязанностях, III, 23. Монтень несколько изменил слова Цицерона, чтобы теснее связать их со своим текстом.
[43] Пока сверкает обнаженное оружие, пусть вас не трогает ни воспоминание о милосердии, ни представший пред вами образ ваших родителей; отгоняйте своим мечом лица, внушающие вам благоговейную почтительность (лат.). – Лукан, VII, 320–323. Эти слова вложены Луканом в уста Цезаря.
[44] Цинна, Луций Корнелий – римский консул с 87 по
[45] …некий воин… убил… брата, не узнав его… – Об этом рассказывает Тацит: История, III, 51.
[46] …другой солдат… потребовал… награду за это. – Этот факт сообщает Тацит: История, III, 51.
[47] Не все одинаково пригодно для всех (лат.). – Проперций, III, 9, 7.
[48] Демад – афинский оратор (ум. в
[49] Что было пороками, то теперь нравы (лат.). – Сенека. Письма, 39, 6.
[50] Тебе надлежит руководствоваться собственным разумом (лат.). – Цицерон. Тускуланские беседы, II, 26.
[51] Собственное понимание добродетели и пороков – самое главное. Если этого понимания нет, все становится шатким (лат.). – Цицерон. О природе богов, III, 35.
[52] Почему у меня в детстве не было того же образа мыслей, что сейчас? Или почему при моем теперешнем умонастроении мои щеки не становятся снова гладкими (лат.). – Гораций. Оды, IV, 10, 7–8.
[53] Биант – греческий философ (род. ок.
[54] …Юлий Друз… ответил… – Об ответе Друза рассказывает Плутарх (Наставление занимающимся государственными делами, 4). Юлий Друз (38–9 гг. до н. э.) – римский военачальник, отец Германика и императора Клавдия.
[55] …чтобы… боги наблюдали его частную жизнь. – Об этом рассказывает Плутарх: Жизнеописание Агесилая, 14. Агесилай – см. прим. 13, гл. III, том I.
[56] …говорит Аристотель… – «Никомахова этика». X, в.
[57] Тамерлан, или Тимур – см. прим. 35, гл. XXV, том I.
[58] Эразм Роттердамский (1467–1536) – знаменитый нидерландский гуманист, автор большого числа сочинений по философии, морали, религиозным вопросам и т. д. и, в частности, прославленного «Похвального слова глупости» – острой сатиры на невежество и косность. Эразм писал на отличной латыни и пользовался у современников славой «самого ученого, самого изящного и самого мудрого» писателя своего века. Одно из сочинений Эразма носит название «Афоризмы», другое – «Апофтегмы», что по-гречески означает «Изречения».
[59] Дикие звери, отвыкшие от лесов и запертые в неволе, смиряются, теряют в своем облике черты свирепости и привыкают терпеть возле себя людей; но едва в их пересохшую пасть попадает хоть капля крови, в них просыпается ярость и бешенство; под действием отведанной крови у них разбухает глотка, и они распаляются гневом, готовым вот-вот обрушиться на перепуганного хозяина (лат.). – Лукан, IV, 237–242.
[60] …раскаяние… в заранее предписанный для этого час – т. е. на исповеди.
[61] …люди обретают новую душу… – О взглядах приверженцев Пифагора сообщает Сенека; Письма, 94, 42.
[62] Катон, Марк Порций Утический – см. прим. 13, гл. I, том II. Монтень постоянно вспоминает о Катоне как о человеке непревзойденной твердости духа; в первой книге «Опытов» он его именем назвал одну из очень важных и содержательных глав (XXXVII).
[63] …что касается переговоров… – см. прим. 6; гл. I, том III.
[64] Фокион – см. прим. 15, гл. XXXI, том II. Слова Фокиона приводятся у Плутарха: Изречения древних царей.
[65] Тот, кто заявил в древности… – Намек на Катона Старшего, в уста которого Цицерон (О старости, XIV) вкладывает близкие мысли. Катон Старший, Марк Порций – см. прим. 12, гл. II, том II.
[66] Провидение никогда не окажется настолько враждебным своему творению, чтобы слабость стала его лучшим свойством (лат.). – Квинтилиан. Обучение оратора, V, 12.
[67] Антисфен – см. прим. 5, гл. XL, том I. Слова Антисфена приводятся у Диогена Лаэрция: VI, 5.
[68] Принимая во внимание мудрость Сократа… – Обвиненный в развращении молодежи и в насаждении культа новых богов, Сократ не пожелал защищаться и был приговорен к смерти: ему было приказано выпить настой цикуты. Во время пребывания в тюрьме Сократу представлялась возможность бежать, но он решительно отказался от этого.
[69] Его гибкий ум был настолько разносторонен, что, чем бы он ни занимался, казалось, будто он рожден только для одного этого (лат.). – Тит Ливий, XXXIX, 40.
[70] Пороки праздности необходимо преодолевать трудом (лат.). – Сенека. Письма, 56, 9. Монтень незначительно изменил слова Сенеки.
[71] Те, для кого жить – значит размышлять (лат.). – Цицерон. Тускуланские беседы, V, 38. Монтень незначительно изменил слова Цицерона.
[72] …говорит Аристотель… – Никомахова этика, X, 8.
[73] «По мере сил» было… присловьем Сократа… – Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, I. 3.
[74] …обласкав меня… дружбой неповторимой… – Намек на дружбу Монтеня с Этьеном де Ла Боэси; Монтень подробно рассказывает об этой дружбе, см.: Опыты, I, XXVIII (О дружбе).
[75] …как сказал один древний… – Плутарх. О многочисленности друзей, 2.
[76] …я… не одобряю совета Платона… – Законы, VI, 777е-778а.
[77] Ты мне рассказываешь о родословной Эака и о битвах под стенами священного Илиона [Трои], но ты ничего не сообщаешь о том, сколько мы платим за бочку хиосского вина, кто будет греть воду для моей бани, кто и когда предоставит мне кров, чтобы я мог избавиться от холода, что ведом пелигнам (лат.). – Гораций. Оды, III, 19, 3–8. Пелигны – горное сабинское племя в Апеннинах.
[78] …доблесть лакедемонян нуждалась в… нежном… звучании флейт… – об этом рассказывает Плутарх: Как надлежит сдерживать гнев, 10.
[79] Буквально: «говорить на кончике вилки» (ит.). – Приводимое Монтенем выражение употребляется при характеристике вычурной, изысканнной речи.
[80] В таких словах они выражают свой страх, гнев, радость, озабоченность; пользуясь ими, они открывают все тайны своей души. Чего больше? Они и в обморок падают по-ученому (лат.) – Ювенал, VI, 189–191. Ювенал говорит, что женщины падают в обморок graece, т. е. «по-гречески»; Монтень заменяет graece на docte, от чего, в сущности, смысл не меняется, т. к. эти слова у Ювенала почти равнозначны.
[81] …ссылаются на святого Фому… – Имеется в виду Фома Аквинский – см. прим. 12, гл XII, том II.
[82] Буквально: «Они [женщины] целиком из шкатулки» (лат.). – Приведенное Монтенем латинское выражение соответствует русскому выражению «одеты с иголочки».
[83] В Лувре и среди толпы – т. е. в королевском дворце. Лувр с
[84] …узнавал их… по походке. – Об этом рассказывает Плутарх: Жизнеописание Диона, I. Гиппомах, по Плутарху, – руководитель гимнасия.
[85] Ибо и глаза у нас также ученые (лат.). – Цицерон. Парадоксы, V, 2.
[86] Кто из арголийского [греческого] флота избежал кафарейских скал, тот всегда направляет свои паруса прочь от эвбейских вод (лат.). – Овидий. Скорбные песни, I, 1, 83. Кафарей – мыс на юго-востоке острова Эвбеи, у побережья Аттики и Беотии (ныне мыс Негропонт), у которого, согласно античной традиции, потерпел крушение возвращавшийся после взятия Трои греческий флот.
[87] Ни по влечению своего чувства, ни отзываясь на чувство другого (лат.). – Тацит. Анналы, XIII, 45; Монтень обобщает слова Тацита, который говорит об определенной женщине, а именно о некоей Сабине Поппее.
[88] …согласно утверждению Лисия у Платона… – Платон. Федр, 231а-234с.
[89] …Венера без Купидона… – т. е. обладание без любви.
[90] …подобно императору Тиберию… – Об этом сообщает Тацит: Анналы, VI, 1.
[91] …я одобрял разборчивость куртизанки Флоры… – Источник Монтеня: Антонио де Гевара (А. de Guevara. Epitres dorées. Французский перевод с испанского, изданный в
[92] … наложницы… султана… получают отставку… в двадцать два года. – Источник Монтеня (как почти всегда, когда речь заходит о современной ему Турции): Guillaume Postel. Histoire des Turcs, 1560.
[93] …король… заставлявший носить себя… на носилках… – Об этом рассказывается в «Mémoires» Оливье де ла Марша; речь идет об Иакове, графе лимузинской марки из рода французских Бурбонов, который в
[94] мой дом; как подсказывает его название, стоит на юру… – Montaigne (в современном французском языке montagne) – гора.
[95] Великая судьба – великое рабство (лат). – Сенека. Утешительное письмо к Полибию, 26.
[96] И женщина проливает обильные слезы, которые у нее всегда наготове по всякому поводу или в ожидании повода к тому, чтобы их проливать (лат.). – Ювенал, IV, 273–275.
[97] Клеанф – см. прим. 4, гл. XXVI, том I.
[98] Перипатетики – ученики и последователи Аристотеля.
[99] Хрисипп – см. прим. 10, гл. VI, том I.
[100] Пелопоннесская война между Афинами и Спартой, в которой приняли участие все города – государства Греции, продолжалась с 431 по
[101] …герцог Бургундский… принял город… – Источник Монтеня: Commines. Mémoires, II, 3.
[102] Девушка обомлела: желание завладеть сверкающим яблоком задерживает ее бег, и она поднимает катящееся золото (лат.) – Овидий. Метаморфозы, I, 666–667. Все предыдущее – изложение мифа, обработанного Овидием.
[103] Иногда следует развлекать душу необычными для нее занятиями, волнениями, заботами, делами: наконец, нужно прибегать к перемене места, как поступают с больными, чей недуг не поддается исцелению (лат.). – Цицерон. Тускуланские беседы, IV, 35.
[104] Гегесий – см. прим. 57, гл. XXVI, том I. Птолемей Сотер – один из сподвижников Александра Македонского, с 323 по
[105] Субрий Флав был осужден… на смерть… – Об этом рассказывает Тацит: Анналы, XV, 67. Как передает Тацит, Субрий Флав, спрошенный Нероном, по какой причине он нарушил, присягу и примкнул к заговорщикам, ответил: «Я ненавидел тебя, и никто из людей военных не станет хранить тебе верность, пока ты не заслужишь, чтобы тебя полюбили; а ненавидеть тебя я стал с тех пор, как ты убил мать и жену и сделался возницею, лицедеем и поджигателем».
[106] Большую услугу оказал Луцию Силану… – Источник Монтеня: Тацит. Анналы, XVI, 9.
[107] Я надеюсь, если справедливые боги и в самом деле могущественны, что ты погибнешь, разбившись на скалах, не раз поминая имя Дидоны; я узнаю об этом, ибо слух о свершившемся дойдет и до меня в обиталище теней (лат.). – Вергилий. Энеида, IV, 382–384, 387.
[108] Ксенофонт. – О поведении в этом случае Ксенофонта рассказывают Диоген Лаэрций (Жизнеописание Ксенофонта, II, 54) и Валерий Максим (V, 10, exi. 2).
[109] …Эпикур… утешал себя… мыслями о вечности… написанных им сочинении. – Об этом рассказывается у Диогена Лаэрция: Жизнеописание Эпикура, X, 22.
[110] Трудности, доставляющие известность и славу, переносятся с легкостью (лат.). – Цицерон. Тускуланскне беседы, II, 26. Монтень не вполне точно цитирует Цицерона.
[111] …лишения тяготят полководца… меньше, чем воина. – Цицерон. Тускуланские беседы, II, 26.
[112] Эпаминонд… принял смерть с поразительной твердостью. – Цицерон. Тускуланские беседы, II, 24.
[113] В этом утешение, в этом облегчение при величайших страданиях (лат.). – Цицерон. Тускуланские беседы, II, 24.
[114] Ни одно зло не заслуживает уважения… – Эти слова Зенона приводит Сенека (Письма, 83, 9). Зенон (ок. 360i – ок. 263 гг. до н. э.) – греческий философ, основатель философской школы стоиков.
[115] …чтобы отвлечь… одного юного государя… – Монтень имеет в виду Генриха Наваррского, будущего французского короля Генриха IV. После победы при Кутра, одержанной им в октябре
[116] Когда в тебе воспылает буйное и неудержимое желание, излей накопившуюся жидкость в любое тело (лат.). – Первый из приводимых Монтенем стихов: Персий, VI, 73; второй, с некоторыми изменениями: Лукреций, IV, 1065.
[117] Если ты не заглушишь свои первые раны новыми, если их, еще свежих, не излечить легко доступной любовью (лат.) – Лукреций, 1070–1071.
[118] …согласно объяснению Эпикура… – Это объяснение приводится Цицероном: Тускуланские беседы, 111,15.
[119] …Алкивиад отсек… собаке уши и хвост… – Этот эпизод рассказан Плутархом: Жизнеописание Алкивиада, 9. Алкивиад – см. прим. 52, гл. XXVI, том I.
[120] Как цикады, сбрасывающие с себя летней порой гладкую кожицу (лат.). – Лукреций, V, 803–804.
[121] …Плутарх… распространяется о ее детских проказах. – Плутарх. Самоутешение по случаю смерти дочери.
[122] Тога Цезаря взволновала весь Рим… – Об этом рассказывает Плутарх: Жизнеописание Антония, 14. По рассказу Плутарха, Антоний показал народу окровавленную тогу Цезаря и этим вызвал в нем неподдельную скорбь.
[123] Этими уколами скорбь сама себе не дает покоя (лат.). – Лукан, II, 42.
[124] …великим докой в искусстве мучительства… был… тот император… – Имеется в виду император – Тиберий (Светоний. Жизнеописание двенадцати цезарей. Тиберий, 62).
[125] …собака, вырвавшая у него на ноге кусок мяса. – Этот рассказ содержится у Диогена Лаэрция: IV, 17.
[126] Филибер де Граммом – муж Коризанды Андуанской (Дианы де Фуа), которой Монтень посвятил главу XXIX первой книги «Опытов» (Двадцать девять сонетов Этьена де Ла Боэси).
[127] Квинтилиан говорит… – Обучение оратора, VI, 2.
[128] Камбиз велел умертвить… брата… – Геродот, III, 30.
[129] …испуганный… сном, который ему привиделся. – Оба рассказа – Об Аристодеме и о царе Мидасе – содержатся у Илигарха: О суевериях, 8.
[130] О глина, столь неудачно изваянная Прометеем! Свое произведение он создал очень небрежно; соразмеряя члены, он не думал о духе, тогда как начать ему подобало с души (лат.). – Проперций, III, 5, 7–10.
[131] Чтобы душа не была постоянно поглощена своими несчастьями (лат.). – Овидий. Скорбные песни, IV, I, 4.
[132] Душа жаждет того, что утратила, и призраки прошлого волнуют ее (лат.). – Петроний. Сатирикон, CXXVIII.
[133] Уметь наслаждаться прожитой жизнью означает жить дважды (лат.). – Марциал, X, 23, 8.
[134] …наберет… большинство голосов. – Платон. Саконы, II, б57а.
[135] …лучше я буду менее… стариком… – Эти слова представляют собой перевод из Цицерона: О старости, 10.
[136] Мы отходим от природы; мы следуем за толпой, а она не создает ничего, достойного подражания (лат.). – Сенека. Письма, 99, 17.
[137] Он не ставил толки народные выше спасения (лат.). – Цицерон. Об обязанностях, I, 24; эти слова – цитата из Энния.
[138] Пусть для них будет оружие, для них кони, для них копья, для них палицы, для них мяч, для них плавание и бег; а нам, старикам, из такого множества игр пусть они оставят лишь игральные кости (лат.). – Цицерон. О старости, 16.
[139] Примешивай к благоразумию немного глупости (лат.) – Гораций. Оды, IV; 12, 27.
[140] Для хрупкого тела болезненно даже легкое прикосновение (лат.). – Цицерон. О старости, 18.
[141] Больная душа не может вынести ничего тягостного (лат.). – Овидий. Письма с Понта, I, 6, 18.
[142] И небольшой силы достаточно, чтобы разбить надломленное (лат.). – Овидий. Скорбные песни, III, 11, 22.
[143] Он не берется ни за какое дело, когда его тело утомлено (лат.). – Максимиан, или Псевдо-Галл, I, 125.
[144] Покуда можно, следует изгонять с омраченного лица старческую угрюмость (лат.). – Гораций. Эподы, XIII, 5.
[145] Печальное нужно услащать шутками (лат.). – Сидоний Аполлинарий. Письма, I, 9.
[146] Печальная надменность мрачного лица (лат.). – Бьюкенен. Иоанн Креститель, пролог, стих 31.
[147] И в этой печальной толпе есть развратники (лат.). – Марциал, VII, 58, 9.
[148] …простота или надменность… признак… доброты или злобности. – Платон. Законы, VI, 12.
[149] …Красса… никто не видел с улыбкой… – Цицерон. Тускуланские беседы, III, 15.
[150] …умалчивать о… предосудительных отношениях… – упоминание об этом – у Диогена Лаэрция (III, 29–30).
[151] Да не будет стыдно говорить то, о чем не стыдно думать (лат.). – Откуда взяты эти слова, не установлено; возможно, что они принадлежат самому Монтеню.
[152] Почему никто не признается в своих недостатках? Потому, что они остаются и поныне при нем; чтобы рассказать о своем сновидении, нужно проснуться (лат.). – Сенека. Письма, 53, 8.
[153] …дабы скрыть больший порок при помощи меньшего. – Источник Монтеня: Диоген Лаэрций, I, 36.
[154] Он… поступил дурно. – Источник Монтеня: Nicephore Calliste. Histoire ecclésiastique, V, 32. Ориген – знаменитый богослов III в. н. э. (185–253), учение которого было осуждено церковью.
[155] …решительные дамы… предпочли бы обременить… совесть… – Речь идет о гугенотах; в эпоху религиозных войн обе стороны – и католики и гугеноты – отличались крайним фанатизмом. Монтень, чуждый всякого фанатизма, что он неоднократно подчеркивает в своих «Опытах», пользуется любым случаем, чтобы высмеять его и осудить.
[156] …люди… боятся… ветров, которые их выдают… – Плутарх. О любознательности, 3. Аристон – древнегреческий Философ-стоик (III в. до н. э.).
[157] Августин – см. прим. 34, гл. VIII, том II. Здесь Монтень имеет в виду его «Исповедь», в которой Августин рассказывает о заблуждениях своей юности. Ориген – см. прим. 373, гл. XII, том II. В своих сочинениях Ориген и Гиппократ обличают в заблуждениях.
[158] …ведь он лил воду не на меня… – Источник Монтеня: Плутарх. Изречения древних царей. АрхелаЙ – царь Македонии, захвативший царскую власть около
[159] И Сократ заметил… – Рассказ об этом содержится у Диогена Лаэрция, II, 36.
[160] …стыдливость украшает юношу… – Аристотель. Никомахова этика, IV, 9.
[161] И от Венеры кто бежит стремглав… – Плутарх. О том, что философу нужно общаться с царями, 2. Монтень приводит эти слова в стихотворном переводе Амио.
[162] Ты, богиня, одна правишь природою; помимо тебя ничто не рождается на свет божий и ничто не становится милым и радостным (лат.). – Лукреций, I, 23; Монтень внес незначительные изменения в текст Лукреция.
[163] Паллада, или Афина, – дочь Зевса, богиня мудрости, покровительница искусств, наук и ремесел (греческая мифология).
[164] Я ощущаю в себе следы былого пламени (лат.). – Вергилий. Энеида, IV, 23.
[165] И в эту зиму моей жизни у меня не отсутствует этот жар (лат.). – Иоанн Секунд. Элегии, I, 3, 20.
[166] Так Эгейское море и после того, как стихнет Аквилон или Нот, которые его взволновали и всколыхнули до самых глубин, все же не успокаивается, но шумит и катит высокие и бурные волны (ит.). – Тассо. Освобожденный Иерусалим, XII, 63. Аквилон – северный ветер; Нот – южный.
[167] И у стиха есть пальцы, [чтобы ласкать] (лат.). – Ювенал, VI, 197. Монтень несколько изменил текст Ювенала.
[168] Она сказала, и так как он колеблется, богиня заключает его белоснежными руками в объятия. И он [Вулкан] тотчас ощутил в себе привычное пламя, и знакомый жар охватил его сердце и побежал по обомлевшим костям. Именно так, возникнув в грохоте грома, огненная трещина, вспыхивая, пробегает между тучами… И сказав это, он подарил ей желанные любовные ласки и, прильнув всем телом к супруге, погрузился в сладостный сон (лат.). – Вергилий. Энеида. VIII, 387–393 и 404–406.
[169] Чтобы, испытывая желание, она пылко отдавалась любовному наслаждению, и оно пронизывало ее насквозь (лат.). – Вергилий. Георгики, III, 137.
[170] …без истоков… как река Нил… – Истоки Нила были открыты лишь в конце XIX в.
[171] Антигон ответил… юноше… – Источник Монтеня: Плутарх. О ложном стыде, 14. У Плутарха речь идет, видимо, об Антигоне, одном из военачальников Александра Македонского.
[172] …негоже поступать по примеру спартанцев… – Источник Монтеня: Геродот, VI, 60.
[173] …родители обязаны обучать детей ремеслу, которым занимаются сами… – Сведения об индийцах, сообщаемые в этом месте Монтенем, почерпнуты им из книги: Goulard. Histoire de Portugal, II, 3. Здесь Монтень говорит о кастах, не вполне разбираясь в сущности этого еще до недавнего времени принятого в Индии общественного деления, что объясняется недостаточностью и неточностью имевшихся в его распоряжении сведений.
[174] которую брачный факел соединил с любимым (лат.) – Катулл, XVI, 79.
[175] …все равно придется раскаиваться. – Диоген Лаэрций, II, 33.
[176] Человек человеку или бог или волк (лат.) – слова, приписываемые комическому актеру Цецилию и сохраненные Симахом (Письма. IX, 114); Lupus est homo homini (человек человеку волк) – слова Плавта (Пьеса об ослах, II, 4, 88).
[177] И мне много сладостнее жить без ярма на шее (лат.). – Максимиан, или Псевдо-Галл, I, 61.
[178] Судьба властвует над теми частями нашего тела, что сокрыты одеждой, ибо, если светила небесные откажут тебе в своей благосклонности, то сколь бы грозным на вид ни было твое мужское оружие, оно окажется ни на что не способным (лат.). – Ювенал, IX, 32–35.
[179] До чего же скверная пара вышла из Юпитера и его жены… – т. е. Юноны.
[180] …никто не любил его настолько, чтобы сочетаться с ним браком… – Элиан. Пестрые истории, XII, 52. Исократ – см. прим. 20, гл. XXIII, том I.
[181] Ликург – см. прим. 25, гл. XXIII, том I.
[182] По мнению нашего автора… – т. е. Исократа в изложении Элиана.
[183] Ему была ведома любовь и та и другая [мужская и женская] (лат.). – Овидий. Метаморфозы, III, 323. Речь идет о Тиресии.
[184] …мы слышали… отзывы об императоре… – Флавий Вописк. Фирм Сатурнин, Прокул и Бонос, 12 (Scriptores Historiae Augustae, XXIX, 12,7). Прокул – римский военачальник, провозгласивший себя императором в царствование императора Проба; казнен в
[185] Пока, наконец, все еще сгорающая от любовного вожделения, утомленная, но не насытившаяся, она не покинула ложе (лат.). – Ювенал, VI, 129–130.
[186] …последовал… приговор, вынесенный королевой Арагонской… – Рассказ об этом приводят многие авторы: Никола Бойе (Bohier), Дю Вердье, Буше и др.
[187] …Солон допускал… – Источник Монтеня: Плутарх. О любви, 23. Солон – см. прим. 32, гл. XLII, том I.
[188] Нужно же иметь хоть немного стыда, или отправимся в суд; за много тысяч купила я твою силу, Басе, так что она не твоя: ты ее продал (лат.). – Марциал, XII, 97, 10, 7, 11.
[189] …к ней приблизился Калигула… – Монтень ошибается – Дион Кассий, у которого он почерпнул этот рассказ, называет не Калигулу, а Каракаллу: Дион Кассий. Жизнеописание Каракаллы.
[190] …король Болеслав и его жена… дали… обет целомудрия… – Источник Монтеня: Гербурт Фульстинский. История польских королей. Упоминаемый Монтенем польский король Болеслав – Болеслав V, по прозванию Целомудренный (1220–1289).
[191] Девушка, едва созрев, охотно учится ионийским пляскам и уже в эти годы извивается станом и с раннего детства грезит о бесстыдной любви (лат.) – Гораций. Оды, III. 6, 21–24.
[192] …как объясняет Платон… – Платон говорит об этом в «Тимее», 42 Ь.
[193] Амадис – главный герой исключительно популярного в конце средних веков и в начале нового времени испано-португальского романа «Амадис Галльский». Аретино, Пьетро – см. прим. 10, гл. LI, том I.
[194] Сама Венера их просветила (лат.). – Вергилий. Георгики, III, 267.
[195] Ни одна подруга белоснежного голубя и никакая другая еще более сладострастная птичка не целуется своим цепким клювом с такою неутомимою жадностью, как женщина, отдавшаяся страсти (лат.) – Катулл, XVIII, 125–128.
[196] Книгам стоиков приятно нежиться посреди шелковых подушек (лат.). – Гораций. Эподы, VIII, 15–16. Монтень несколько изменил текст Горация, что повлекло за собой и изменение смысла.
[197] Не стану называть сочинения… – Источники Монтеня: Плутарх. Застольные беседы; Диоген Лаэрций. Жизнеописание Стратона, Феофраста, Аристиппа, Деметрия, Гераклида, Антисфена, Зенона, Клеанфа, Хрисиппа; Геродот; Страбон; Евсевий. Жизнеописание Константина.
[198] Наряду с воздержанностью, несомненно, нужна невоздержанность; пожар гасится огнем (лат.). – Чье это изречение, неизвестно.
[199] Тот простак… – Возможно, что Монтень имеет в виду папу Павла IV (1555–1559).
[200] Обнажать тело на глазах у всех есть начало развращения (лат.). – Энний, цитируемый Цицероном: Тускуланские беседы, IV, 33.
[201] …на таинствах Доброй богини… – Т. е. Кибелы, праматери богов, богини плодородия.
[202] Ведь все живущее на земле – и люди, и звери, и все живущее в море, и домашний скот, и пестроцветные птицы, – все жаждет любовного племени и неистовства любви (лат.). – Вергилий. Георгики, III, 242–244.
[203] …Платон… предписал… – Государство, V, 452 b.
[204] Женщины великого царства Пегу… – Источник Монтеня: Бальби. Путешествие в восточную Индию (Viaggio dell’Indie orientali…). Венеция, 1590.
[205] Говорила же Ливия… – Речь идет о римской императрице Ливии, второй жене Августа, матери Тиберия.
[206] …как говорит Платон… – Государство, V, 457 а.
[207] …говорит… Августин… – О граде божием, XXII, 17.
[208] Разве ты согласишься отдать за все богатства Ахемена или за сокровища Мигдона, властителя тучной Фригии, или за роскошно убранные дома арабов волосы Лицинии, когда она подставляет шею для пылких поцелуев, или с притворной суровостью от них отстраняется, радуясь, если тебе все же удается сорвать у нее поцелуй, еще больше, чем ты, его домогавшийся, и время от времени целует тебя сама (лат.). – Гораций. Оды, II, 12, 21–29. Ахемен – легендарный родоначальник персидской династии Ахеменидов.
[209] Опора дьявола – в чреслах (лат.). – Иероним. Против Иовиниана.
[210] Некто сказал Платону… – Антоний и Максим. Сборник изречений, прозванный «Мелисса» («Пчела»), кн. II, разд. 59 (О злословящих и о клевете). Ссылка дается по изданию Миня Patrologia graeca, т. 199. Первое издание этого сборника вышло в
[211] Кто мешает зажечь огонь от горящего огня? Пусть и они неутомимо расточают свои дары; ничего от этого не убудет (лат.). – Овидий. Наука любви, III, 93; второй стих представляет собой перифразу Овидия.
[212] …козел… боднул его в голову… – Источник Монтеня: Элиан. О природе животных, VI, 42.
[213] Ни один прелюбодей, пронзенный супружеским мечом, не окрасил пурпурною кровью воды Стикса (лат.). – Иоанн Секунд. Элегии.I, 7, 71.
[214] Лукулл, Луций Лициний – см. прим. 16, гл. I, том II. Лепид, Марк Эмилий – римский государственный деятель, консул в
[215] Берегись, негодяй! Конец твой страшен! Будут ноги расставлены, и в дверцу прогуляются и редьки и миноги (лат.). – Катулл, XV, 17–19. Эти стихи Монтень цитирует здесь, видимо, по ошибке; они никак не связаны с контекстом, так как в них содержится угроза расправы с неким распутником.
[216] И один из веселых богов не прочь покрыть себя позором этого рода (лат.). – Овидий. Метаморфозы, IV, 187–188.
[217] Что ты так далеко ищешь причин? Почему у тебя, богиня, иссякло ко мне доверие? (лат.). – Вергилий. Энеида, VIII, 395–396.
[218] Я – мать, и прошу оружие для моего сына (лат.). – Вергилий. Энеида, VIII, 441.
[219] Нужно выковать оружие для этого доблестного мужа (лат.). – Вергилий. Энеида, VIII, 441.
[220] Не подобает сравнивать людей и богов (лат.). – Катулл, XVIII, 141.
[221] Часто сама Юнона, величайшая из небожительниц, досадовала на ежедневные провинности своего супруга (лат.). – Катулл, XVIII, 138.
[222] Нет вражды более злобной, чем та, которую порождает любовь (лат.). – Проперций, II, 8, 3.
[223] Прелюбопытная вещь произошла с одним римлянином… – Источник Монтеня: Тацит. История, IV, 44.
[224] Известно, на что способна разъяренная женщина (лат.). – Вергилий. Энеида, V, 6.
[225] Скифские женщины выкалывали глаза своим рабам… – Об этом рассказывает Геродот: IV, 2; Монтень произвольно толкует Геродота.
[226] …проявления… застенчивости, о которой вспоминает Плутарх… – См.: Плутарх. О ложном стыде.
[227] Мне столь же неприятно встретить отказ, как отказать, и до того горестно причинять огорчение, что в тех случаях, когда долг обязывает меня приневолить кого-нибудь к выполнению чего-либо сомнительного и для него неприятного, мне дается это с превеликим трудом и крайнею неохотой. А если мне самому приходится попадать в подобное положение, то, сколь бы справедливо ни было сказанное Гомером, а именно, что стыдливость для бедняка – нелепая добродетель, я обычно стараюсь переложить свои обязанности на кого-нибудь еще, чтобы он краснел вместо меня. Но тем, кто навязывает мне неприятное дело, я также с трудом даю отпор, и потому со мною не раз случалось, что, желая произнести «нет», я не находил в себе достаточно сил для этого. – См.: Гомер. Одиссея, XVII, 347.
[228] Чей бессильный кинжальчик свисал безобидным крючочком и никогда не поднимался до середины туники (лат.). – Катулл, XVII, 21–22.
[229] Она часто делает то, что делается без свидетелей (лат.). – Марциал, VII, 62, 6.
[230] Меня меньше возмущает более бесхитростное распутство (лат.). – Марциал, VI, 7, 6.
[231] Повивальная бабка, исследуя некую девушку, то ли умышленно, то ли по неумелости, то ли случайно, своею рукой лишила ее девственности (лат.). – Августин. О граде божием, 1,18.
[232] …Фатуа… не дала взглянуть на себя ни одному мужчине… – Рассказ об этом содержится у Лактанция: Божественные установления, I, 22.
[233] …жена Гиерона, не ощущавшая зловония… – Источник Монтеня: Плутарх. Как можно извлечь пользу из своих врагов, 7.
[234] Неужели ты не видишь… что я сплю…? – Рассказы о Флавии и о Гальбе приводятся Плутархом: О любви, 16.
[235] В Восточных Индиях… обычай… допускает, чтобы замужняя женщина отдалась всякому, кто подарит ей… слона… – Ариан. Об Индии, 17.
[236] Философ Федон… стал… продавать свою юность и красоту… – Источник Монтеня: Диоген Лаэрций, II, 105; Авл Геллий. Аттические ночи, II, 18.
[237] Солон… был… первым законодателем, предоставившим женщинам… добывать… средства к существованию… – Об этом говорит Корнелий Агриппа: О недостоверности и тщете наук, 68.
[238] …по словам Геродота… – См.: Геродот, I, 93–94.
[239] Наложи засов, держи ее взаперти: но кто устережет самих сторожей? Твоя жена хитроумна и понесет от них (лат.). – Ювенал, VI, 347–348,
[240] …в день свадьбы жрец лишает новобрачную девственности… – Источник Монтеня: Лопес де Гомара. Общая история Индий.
[241] Кто повелевал столькими легионами и был лучше тебя, бесстыдный, во многих отношениях (лат.). – Лукреций, III, 1028, 1026. Текст Лукреция Монтенем значительно изменен.
[242] Судьба отказывает даже в ушах, которые могли бы выслушать наши жалобы (лат.). – Катулл, XIV, 170.
[243] Питтак говорил, что у всякого… своя напасть… – Плутарх. О спокойствии души, II. Питтак (ок. 650–579 гг. до н. э.) – греческий полководец, государственный деятель; один из так называемых «семи мудрецов» Греции.
[244] Сенат Марселя был… прав… – Источник Монтеня: Кастильоне. Придворный, III, 25.
[245] …удачные браки заключаются только между слепою женой и глухим мужем… – Эразм Роттердамский. Апофтегмы (во франц. издании
[246] …как говорил хозяин Фламиния. – Об этом рассказывают Плутарх (Изречения древних царей) и Тит Ливий (XXXV, 49).
[247] Он ищет случая согрешить (лат.). – Овидий. Скорбные песни, IV, 1, 34.
[248] Когда хочешь, они не хотят; когда не хочешь, они сами хотят (лат.). – Теренций. Евнух, IV, 43.
[249] Они стыдятся идти дозволенным путем (лат.). – Лукан, II, 446.
[250] Мессалина. – История Мессалины рассказана Тацитом: Анналы, XI, 26–38.
[251] Он снял узду со своего гнева (лат.). – Вергилий. Энеида, XII, 499.
[252] Жестокими воинскими трудами ведает всесильный своим оружием Марс, который часто склоняется на твое лоно, сраженный никогда не заживающей раной любви; не сводя с тебя глаз, богиня, он насыщает любовью свои жадные взоры, и на него, лежащего распростертым на спине, нисходит с твоих уст, богиня, твое дыхание; и вот тогда, прильнув к нему своим священным телом и обняв его сверху, излей из своих сладостных уст обращенную к нему речь (лат.) – Лукреций, I, 32–40, с пропуском 35-го стиха.
[253] …infusus… – Все перечисленные Монтенем слова взяты из Лукреция и Вергилия (см. только что приведенный отрывок из Лукреция и на стр. 61–62 отрывок из Вергилия): reiicit – склоняется; pascit – насыщает; inhians – не сводя глаз; molli – мягким, нежным (этого слова в названных отрывках нет); medullas – букв, до мозга костей, недра, сердца; labefacta – обомлевшие; pendet – нисходит; percurrit – пробегает, проскакивает; circumfusa – прильнув; infusus – прильнув, обняв.
[254] Вся речь мужественна; они не занимаются украшательством (лат.). – Сенека. Письма, 33, 1. – Монтень нарушает порядок слов, – видимо, он цитирует Сенеку по памяти.
[255] Дух – вот что придает красноречие (лат.). – Квинтилиан, X, 7, 15.
[256] Галл, Гай Корнелий (69–26 гг. до н. э.) – римский поэт и военачальник; написал 4 книги элегий, которые до нас не дошли. Долгое время ему приписывали 6 элегий, автором которых ныне считают Максимиана, поэта VI в. н. э. Монтень, говоря о Галле, имеет в виду упомянутые элегии.
[257] Как редок подобный дар, можно убедиться на примере многих французских писателей.,. – эти намеки направлены, видимо, против поэтов Плеяды, возглавлявшихся Ронсаром и Дю Белле. Деятельность этих поэтов, стремившихся придать родному языку выразительность и гибкость, обогатить его словарь, боровшихся за признание его полноценным и литературным языком, способным заменить латынь, на протяжении многих веков царившую в науке и в высоких родах литературы, была глубоко прогрессивной и представляет собой очень важный этап в истории французской литературы и языка. И Монтень, надо сказать, относился с большой симпатией к некоторым поэтам этой группы; в частности, он очень высоко ставил творчество Дю Белле и Ронсара; так, например, он причисляет Дю Белле к «самым тонким умам» (I, XXV, с. 124), в другом месте говорит следующее: «… что до пишущих по-французски, то я полагаю, что они подняли это искусство на такую ступень, на какой оно еще никогда у нас не было, и, если вспомнить тот род его, в котором блистают Ронсар и Дю Белле, то я никоим образом не считаю, что им далеко до совершенства древних поэтов» (см. II, XVII, с. 590). Таким образом, критика Монтеня имеет в виду не Плеяду в целом, а отдельные языковые излишества, встречающиеся в творчестве некоторых ее представителей.
[258] Леон Еврей (Эбрео) – португальский раввин (начало XVI в.), автор любовных диалогов в духе Платона. Марсилио Фичино (1433–1499) – итальянский гуманист, знаменитый переводчик Платона и неоплатоников, один из членов созданной Козимо Медичи Платоновской Академии во Флоренции.
[259] Бембо, Пьетро (1470–1547) – кардинал, писатель-гуманист; Монтень имеет в виду его любовные диалоги «gli Azzolani», получившие это название, потому что он их сочинял в замке Адзола. Эквикола, Марио (1460–1539) – итальянский писатель, автор трактата «О природе любви» (Della natura d’amore).
[260] …мне надлежало бы прибегнуть к уловке музыканта Антинонида… – Монтень имеет в виду древнегреческого музыканта Антигенида, ошибочно названного им Антинонидом (Плутарх. Жизнеописание Деметрия, I).
[261] …обезьяньи повадки обрекли этих… тварей на гибель… – Источники Монтеня: Диодор Сицилийский, XVII, 90; Элиан. О природе животных, XVII, 25; Страбон, XV.
[262] Говорят, что… Зенон… прибегал к… выражению… «Cappari!»… – Об излюбленной клятве Зенона сообщает Диоген Лаэрций в «Жизнеописании Зенона» (VII, 32); об излюбленной клятве Пифагора – он же в «Жизнеописании Пифагора» (VIII, 6).
[263] Кратипп – греческий философ-перипатетик I в. до н. э., преподававший в Афинах. У него учились сын Цицерона и сын Брута.
[264] …человек – игрушка богов… – Платон, законы, VII, 804 b. В этом абзаце Монтень еще раз предстает перед нами как вольнодумец, не разделяющий христианского представления о заботливом провидении, неустанно пекущемся о благе людей.
[265] Какая злая насмешка! (лат.). – Клавдиан. Против Евтропия, I, 24.
[266] Что мешает, смеясь, говорить правду? (лат.). – Гораций. Сатиры, 3, 1, 24–25.
[267] Ессеи – иудейская секта, отличавшаяся большой строгостью нравов (II в. до н. э.). Ессеи жили вдали от городов общинами наподобие монастырских, проповедовали всеобщее равенство и не знали частной собственности. Их учению в большей мере присуще стремление к социальному реформаторству. Учение ессеев оставило заметный след в раннем христианстве.
[268] …как… сообщает Плиний… – Естественная история, V, 15.
[269] …Зенон лишь… раз имел дело с женщиной… – Диоген Лаэрций, VII, 13.
[270] …стремясь освятить остров Делос… воспретили в пределах… острова и роды и погребения. – Источник Монтеня: Диодор Сицилийский, XII, 58.
[271] Мы стыдимся самих себя (лат.). – Теренций. Формион, II, 20.
[272] …народы, у которых принято есть, накрывшись… – Источник Монтеня: Жоан Леон. Описание Африки. Франц. перевод
[273] …они воздают честь своему естеству, лишая его естественности… – Источник Монтеня: Гильом Постель. История Востока (Histoires orientales). Изд.
[274] Меняют дома и милый порог на изгнание (лат.). – Вергилий. Георгики, II, 511.
[275] Есть… народ… который поклоняется мраку. – Геродот, IV, 184; Плиний Старший, V, 8.
[276] О несчастные! В радости видят они преступление (лат.). – Максимиан, или Псевдо-Галл, I, 180.
[277] Стихи двух поэтов… – т. е. Вергилия и Лукреция.
[278] Один египтянин… ответил… – Это рассказано у Плутарха (О любопытстве, 3).
[279] Я прижал ее нагую к моему телу (лат.). – Овидий. Любовные стихотворения, I, 5, 24.
[280] …эти двое… – т. е. те же Вергилий и Лукреций.
[281] Удовлетворив вожделение нашей жадной души, мы не боимся нарушать свое слово и не помышляем о наших клятвах (лат.). – Катулл, XIV, 147–148; Монтень не вполне точно цитирует эти стихи Катулла.
[282] …завоевав сердце возлюбленной, не пожелал насладиться… – Источник Монтеня: Диоген Лаэрций, VII, 130.
[283] …Сократ говорит… – Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. I, 3.
[284] У кого из собачьих ноздрей свисает голубоватый лед, а борода – словно сосулька, того мне было бы во сто раз приятнее поцеловать в зад (лат.). – Марциал, VII, 95, 10 – 11, 14.
[285] …вожделение… юноши, набросившегося… на… изваяние… – Об этом рассказывает Валерий Максим (VIII, 11, ext. 4).
[286] …повод к обнародованию закона, введенного… в Египте… – Источник Монтеня: Геродот, II, 80.
[287] А Периандр – его поступок еще чудовищнее… – Источник Монтеня: Геродот, V, 92.
[288] …не имея возможности наслаждаться с Эндимионом… – Эндимион, элидский пастух, юноша поразительной красоты, был взят на небо Юпитером, но после того как он покусился на честь Юноны, Юпитер изгнал его обратно на землю и погрузил в беспробудный соч. Диана, воспылав страстью к Эндимиону, перенесла его в пещеру на горе Латм и там часто наслаждалась со спящим. Изложение Монтеня несколько отличается от точного пересказа этого мифа. Его источник: Цицерон. Тускуланские беседы, I, 38.
[289] Словно они приготовляют благовония и вино: так что иная кажется тебе отсутствующей или мраморным изваянием (лат.). – Марциал, XI, 104, 12 и XI, 60, 8. Монтень цитирует не вполне точно.
[290] Если она отдается тебе одному, то камешком побелее отмечает этот день (лат.). – Катулл, XVIII, 147–118; стихи цитируются неточно.
[291] Обнимает тебя, но вздыхает от любви к кому-то отсутствующему (лат.). – Тибулл, I, б, 35.
[292] Сладострастие подобно дикому зверю, которого держат в путах, чтобы вызвать в нем ярость, а затем выпускают (лат.). – Тит Ливий, XXXIV, 4.
[293] Я недавно видел коня, который, злясь на свою узду и норовя ее перегрызть, летел словно молния (лат.). – Овидий. Любовные стихотворения, III, 4, 13.
[294] Это пристало каким-нибудь савроматам… – Источник Монтеня: Геродот, IV, 117.
[295] …в рассказе об Аристиппе… – Об этом рассказывает Диоген Лаэрций, II, 69.
[296] …доступность и готовность не приличествуют… – Платон, Пир, 182 а.
[297] Рожденные для подчинения (лат.). – Сенека. Письма, 95, 21.
[298] Александр поблагодарил ее… – Источник Монтеня: Диодор Сицилийский, XVII. 77; Квинт Курций.
[299] …на примере той самой богини… – т. е. Венеры.
[300] Иоанна… повелела удавить своего… мужа… – Об этом рассказано у Лавардена: (Histoire de Georges Castriot), лист ЗбЗ, оборотная сторона.
[301] …Платоновы законы… повелевают… – Платон. Законы, XI: 925 а.
[302] Испробовав все способы вызвать страсть в своем муже, она покидает безрадостное брачное ложе (лат.). – Марциал, VII, 58, 3 – 5. Цитируемые стихи, вследствие чрезмерной их откровенности, в переводе несколько смягчены.
[303] И приходится искать кого-то более мужественного, кто мог бы развязать девический пояс (лат.). – Катулл, XVII, 27–28. Стихи процитированы Монтенем не совсем точно.
[304] Если он не в силах справиться со сладостным трудом (лат.). – Вергилий. Георгики, III, 127.
[305] Едва способному сойтись с женщиной хотя бы разок (лат.). – Гораций. Эподы, XII, 15.
[306] Не нужно остерегаться того, чей возраст близится к пятидесяти пяти годам (лат.). – Гораций. Оды, II, 4, 22. Монтень изменил текст Горация, который говорит о сорока годах.
[307] Словно индийская слоновая кость, обрызганная кровавым пурпуром, или алые лилии, перемешанные с белыми розами (лат.). – Вергилий. Энеида, XII, 67 – 69.
[308] И на ее лице был безмолвный укор (лат.). – Овидий. Любовные стихотворения, I, 7, 21.
[309] …обошлась со мной… нелюбезно. – В этих стихах, оставленных без перевода (сборник «Veterum poetarum cataiecta»), речь идет о размерах мужского органа.
[310] Быть человеком, приспособленным к такому многообразию нравов, речей и желаний (лат.). – Квинт Цицерон. О домогательстве консульства, 14.
[311] Щелочка! Я поручусь – это твоя монограмма (лат.).
Пестик друга и нежит ее и ласкает (фр.). – Первый из этих стихов взят Монтенем из «Juvenilla» («Юношеские стихотворения») Теодора де Беза, изд.
[312] Если таясь, темною ночью она подарила тебе свои милости (лат.). – Катулл, XVIII, 145.
[313] Эта вотивная табличка на священной стене указывает, что я посвятил мои влажные одежды могущественному богу моря (лат.). – Гораций. Оды, I, 5, 13–16. У древних существовал обычай, согласно которому спасшийся во время бури приносил свою одежду в храм Нептуна и на вставной табличке – благодарность за спасение. Монтень, приводя Горация, хочет сказать, что буря, именуемая любовью, – позади; осознание этого, впрочем, не мешает ему мысленно воспроизводить подробности пережитых злоключений и размышлять о них.
[314] Если ты стремиться делать это обдуманно, то добьешься только того, что будешь обдуманно безумствовать (лат.). – Теренций. Евнух, 16 – 18.
[315] Ничто не является пороком само по себе (лат.). – Сенека. Письма, 95, 43.
[316] …лучше остережемся столь беспокойной и буйной страсти… – Здесь Монтень пересказывает Сенеку (Письма, 116, 5). Панэций – см. прим. 259, гл. XII, том II.
[317] …благоразумие и любовь несовместимы. – Источник Монтеня: Плутарх. Изречения лакедемонян.
[318] Пока седина лишь начинает у меня проступать, пока я в самом начале старости и еще не сгорбился, пока у Лахесис есть еще из чего прясть мою нить и я держусь на ногах, не опираясь рукою о палку (лат.). – Ювенал, III, 26–28. Лахезис – вторая из трех сестер Парок, которые, согласно греческой мифологии, пряли нить жизни каждого человека.
[319] …сколько молодости… вернула она… Анакреонту! – Комментаторы усматривают в этих словах Монтеня намек на 52-ю оду Анакреонта.
[320] …Сократ… рассказывает… – Здесь Монтень пересказывает Ксенофонта: Пир, IV.
[321] Философия… не ополчается против страстей естественных. – Источник Монтеня: Ксенофонт. Воспоминания о Сократе, I, 3.
[322] Эти стихи Горация (Эподы, XII, 19–20) на современный взгляд непристойны; в них говорится о мужской силе молодежи.
[323] Могут ли пылкие и полные жизни юноши видеть без смеха наш превратившийся в пепел факел? (лат.). – Гораций. Оды, IV, 13, 26–28.
[324] …некий древний философ… – Монтень пересказывает Диогена Лаэрция (Жизнеописание Биона, IV, 47). Бион Борисфенский – см. прим. 6, гл. IV, том I.
[325] Сделайте доброе дело ради себя самого (ит.). – Провербиальное выражение, широко распространенное у итальянских нищих.
[326] Кто хочет себе добра, пусть идет за мной. – Ксенофонт, Киропедия, VII, 1.
[327] Я не хочу дергать за бороду мертвого льва (лат.). – Марциал, X, 90, 10. Дергать за бороду – провербиальное выражение, означающее «оскорблять».
[328] Ксенофонт, понося и обвиняя Менона… – Ксенофонт. Анабасис, II, 6.
[329] Я уступлю эту… дикую склонность… Гальбе… – Об этом рассказывает Светоний: Жизнеописание Гальбы, 22.
[330] О если бы боги дозволили мне увидеть тебя такой, какова ты теперь, о если бы они мне дозволили поцеловать твои поседевшие волосы и обнять твое высохшее тело (лат.). – т. е. Овидию, чьи стихи (Письма с Понта, I, 5, 49–51) Монтень цитирует. Эти стихи написаны Овидием в ссылке, в разлуке с женой, к которой они обращены.
[331] …юноша с Хиоса… пришел к философу Аркесилаю… – Рассказ этот позаимствован Монтенем у Диогена Лаэрция (Жизнеописание Аркесилая, IV, 34). Аркесилай – см. прим. 18, гл. XXXIX, том I.
[332] Если ты поместишь его в хоре девушек переодетым в женское платье, его распущенные волосы, неопределившиеся черты, скрывая различие, обманут проницательность целой толпы гостей (лат.). – Гораций. Оды, II, 5, 21–24.
[333] Хорошо известна причина… – Плутарх. О любви, 24. Аристогитон и Гармодий – см. прим. 11, гл. XXVIII, том I. Называя в этом месте Диона, Монтень ошибается; правильно – Бион.
[334] Он [Купидон], несносный, пролетает мимо иссохших дубов (лат.). – Гораций. Оды, IV, 13, 9–10.
[335] Маргарита… Наваррская… преувеличивает… продолжительность женского века… – Маргарита Наваррская. Гептамерон, IV. 35.
[336] Любовь не знает порядка (лат.). – Иероним. Письмо к Хромацию.
[337] Платон… велит… – Государство, V, 468 b-с.
[338] Ибо, когда дело доходит до битвы, впустую неистовствует яркий и бессильный огонь, как от горящей соломы (лат.). – Вергилий. Георгики, III, 98–100.
[339] Словно яблоко, тайный дар милого, соскользнувшее с целомудренной груди девушки, где оно было скрыто ею под мягкой одеждой, и упавшее, стремительно катясь, к ногам ее матери, при появлении которой поднялась со своего места забывчивая бедняжка, на чьем печальном лице разливается теперь краска стыда (лат.). – Катулл, XV, 25–30.
[340] …в своем «Государстве». – Платон. Государство, V, 451 d-457 с.
[341] …Антисфен не делает различия… – Источник Монтеня: Диоген Лаэрций, VI, 12.
[342] Ибо указать одну единственную причину недостаточно: нужно указать многие, из которых одна и окажется подлинной (лат.). – Лукреций, VI, 703–704.
[343] …говорят… они принадлежат Аристотелю. – Аристотель. Проблемы XXXIII, 9.
[344] …я прочел у Плутарха… – Плутарх. Естественные причины, II.
[345] Я слишком мучился, чтобы мне приходила в голову мысль об опасности (лат.). – Сенека. Письма, 53, 3.
[346] Приведем рассказ… о бегстве Сократа… – Источник Монтеня: Платон. Пир, 221 а-с.
[347] Чаще всего, чем меньше испытываешь страх, тем меньше опасности (лат). – Тит Ливий, XXII, 5.
[348] …мудрый не может превратиться в безмозглого. – Эти слова Эпикура приводятся у Диогена Лаэрция, X, 117.
[349] …укрепляя полевой лагерь. – Это описание боевых колесниц, применявшихся венграми в войне против турок, позаимствовано Монтенем у Халкондила: VII, 11.
[350] Элагабал (Гелиогабал) – см. прим. 6, гл. XXXII, том I. Лампридий. Элагабал, 28–29 (Scriptores Historiae Augustae, XVII, 28, 1–2. 29, 1).
[351] Фирм, Марк – римский полководец, провозгласивший себя в
[352] …пусть… избегает расходов на… роскошества, которые… улетучиваются из памяти. – Исократ. Слово к Никоклу, 19.
[353] Демосфен… нападает… – В третьей Олинфской речи.
[354] …Феофраста… порицают… – Феофраста порицает Цицерон в своем сочинении «Об обязанностях» (II, 16). Феофраст – см. прим. 318, гл. XII, том II.
[355] …ни один… здравомыслящий человек не придает им… – цены. – Эти слова Аристотеля передает Цицерон. Об обязанностях, II, 16.
[356] Григорий XIII – римский папа с 1572 по
[357] …наша королева Екатерина… – Монтень имеет в виду Екатерину Медичи (см. прим. 4, гл. XII, том I).
[358] …прервав работы над сооружением… Нового Моста… – Постройка Нового Моста была начата в
[359] …император Гальба… сказал… – Об этом рассказывает Плутарх: Жизнеописание Гальбы, 16.
[360] Ни одно искусство не замыкается в себе самом (лат.). – Цицерон. О высшем благе и высшем зле, V, 6. Монтень приспосабливает слова Цицерона к своему контексту.
[361] …от щедрости мало проку… – Источник Монтеня: Плутарх. Изречения древних царей. Дионисий Старший – см. прим. 7, гл. I, том I.
[362] Я бы… научил… присловью… – Греческий стих переведен самим Монтенем.
[363] Чем большему числу людей ты ее расточаешь, тем меньшему их числу сможешь ее расточать… Что может быть глупее старания лишить себя возможности делать то, что ты делаешь с такою охотой (лат.). – Цицерон. Об обязанностях, II, 15.
[364] …в нашем языке слова для обозначения щедрости и свободы образованы от одного корня. – Щедрость по-французски – liberalité; свобода – liberté.
[365] …что некогда сделал Кир… – Этот рассказ позаимствован Монтенем у Ксенофонта: Киропедия, VIII, 2.
[366] Раздача другим лицам отнятого у законных владельцев не может рассматриваться как щедрость (лат.). – Цицерон. Об обязанностях, I, 14.
[367] …привлекай… благодеяниями твоих добродетелей, а не… твоего сундука… – Речь идет о Филиппе Македонском, написавшем письмо своему сыну, юноше Александру. Источник Монтеня: Цицерон. Об обязанностях, II, 15.
[368] …как это было устроено императором Пробом. – Проб Марк Аврелий – римский император с 276 по
[369] Вот капитель колонны, сверкающая драгоценными камнями, вот портик, сверкающий золотом (лат.). – Кальпурний. Эклоги, VII, 47.
[370] Пусть тот, – сказал он, – кому это не полагается, встанет со всаднической подушки, и, если не потерял совести, освободит ее (лат.). – Ювенал, III, 153–155.
[371] …это четвертая и последняя перемена… – Источник Монтеня: Юст Липсий. Об амфитеатре, 10.
[372] Сколько раз мы смотрели, как опускаются отдельные части арены, как из открывшейся в земле бездны появляются дикие звери и как из тех же недр земных вырастают золотые земляничные деревья с ярко-желтой корою. И нам довелось видеть не только лесных чудовищ, но наблюдал я и борьбу тюленей с медведями и прозываемых морскими конями, но безобразных животных (лат.). – Кальпурний. Эклоги, VII, 64. Монтень цитирует по Юсту Липсию: Об амфитеатре, 10.
[373] Хотя театр обжигало палящее солнце, когда пришел Гермоген, навес тотчас раздвинули (лат.). – Марциал, XII, 29, 15–16.
[374] Даже сетка блестит кручеными золотыми нитями (лат.). – Кальпурний. Эклоги, VII, 53–54.
[375] Жили многие храбрецы и до Агамемнона, но все они, никому не ведомые и никем не оплаканные, скрыты от нас в непроглядном мраке забвения (лат.). – Гораций. Оды, IV, 9. 25–28. Агамемнон – предводитель греков, осаждавших Трою.
[376] До троянской войны и до гибели Трои много других поэтов воспевали другие подвиги (лат.). – Лукреций, V, 326- 327. У Лукреция эти стихи выражают вопрос.
[377] …и рассказ Солона… – Речь идет о рассказе Солона в диалоге Платона «Тимей» 21 а-25 d.
[378] Если бы мы могли созерцать безграничность простирающихся во все стороны пространства и времени, к которой устремляясь и направляясь странствует наш дух, не обнаруживая, сколь бы долго эти блуждания ни продолжались, никаких берегов, где бы он мог задержаться; перед нами в этой бесконечной безмерности предстало бы бесчисленное множество форм (лат.). – Цицерон. О природе богов, I, 20. Этот отрывок крайне неточно воспроизведен Монтенем.
[379] И настолько обессилен век и истощена земля (лат.). – Лукреций, II, 1150. Монтень незначительно изменяет текст Лукреция.
[380] Но, как я думаю, вселенная еще совсем новая, и мир только-только возник, и ранее он не возникал; вот почему некоторые искусства все еще развиваются и совершенствуются, и вот почему много улучшений достигнуто в мореплавании (лат.). – Лукреций, V, 330–334.
[381] …они нисколько не уступают нам в ясности… ума и в сообразительности. – Следует отметить, что никто из современников Монтеня, писавших о жестокости испанцев-завоевателей, не говорит об этом с такой ясностью и определенностью, никто не ставит этого вопроса так широко и с таким пониманием проблемы во всех ее аспектах: политическом, религиозном, философском. Монтень видит в угнетаемых туземцах не «меньших братьев», нуждающихся в покровительстве и защите, а носителей иной культуры, которая во многом могла бы оплодотворить и обогатить культуру Старого Света. Глава «О каннибалах» (I, XXXI) и настоящая глава «О средствах передвижения» с достаточной полнотой характеризуют отношение Монтеня к американским туземцам, и его протест против чинимых за океаном зверств звучит в них с такой силой, какой достигают наиболее смелые публицисты лишь в XVIII в. Источник Монтеня во всем, что он рассказывает о жителях Нового Света, – не раз упоминавшаяся книга Лопеса де Гомара «Общая история Индий» (Historia general de las Indias, 1553).
[382] …свидетели этому – мои каннибалы. – См. I, XXXI.
[383] Безам (точнее безант) – золотая или серебряная монета византийского чекана, имевшая широкое хождение в Европе на протяжении многих веков после крестовых походов и в различное время имевшая различную ценность.
[384] …несколько испанских военачальников… были преданы смерти… – Монтень имеет в виду Гонсалеса Писарро, осужденного на смерть Педро де ла Каско, которого Карл V отправил в
[385] …столь бережливого и благоразумного государя… – т. е. Филиппа II.
[386] …одному великому человеку… – Намек на Юлия Цезаря.
[387] Луций Торий Бальб – римский народный трибун III в. до н. э., о котором говорит Цицерон (О высшем благе и высшем зле, II, 20), в изображении Цицерона законченный эпикуреец; это человек отважный, твердый, свободомыслящий, ведущий честную и здоровую жизнь.
[388] Марк-Регул – см. прим. 1, гл. LII, том I.
[389] Отан, один из семи, имевших право притязать на трон Персии… – Здесь Монтень пересказывает Геродота (III, 83).
[390] …я просмотрел две книги шотландских авторов… – Первая из упоминаемых Монтенем книг – «О королевском праве у шотландцев» (1579) Джорджа Бьюкенена, бывшего когда-то учителем Монтеня в гиньенском коллеже или Бордоском университете. (В главе «О воспитании детей» – с. 163 – Монтень называет Бьюкенена «великим шотландским поэтом»). Трактат Бьюкенена, запрещенный в течение всего XVII в., был торжественно сожжен Оксфордским университетом. Вторая книга – ответ Блеквуда Бьюкенену, озаглавленный «Против диалога Джорджа Бьюкенена «О королевском праве у шотландцев», в защиту королей» (1581).
[391] …Брисон, состязавшийся в беге с Александром, поддался… – Об этом рассказывает Плутарх: О спокойствии души, 12. Монтень ошибочно называет Крисона Брисоном.
[392] Карнеад говорил… – Об этом рассказывает Плутарх: Как отличить друга от льстеца. Карнеад – см. прим. 44, гл. XXVI, том I.
[393] …Гомер вынужден был изобразить… – Илиада, V, 345–347.
[394] Римский сенат присудил Тиберию… награду… тот отказался… – Об этом рассказывает Тацит: Анналы, II, 83.
[395] …Плутарх рассказывает… – Как отличить друга от льстеца, 9.
[396] …льстецы Митридата… давали… владыке… резать и прижигать их члены… – Источник Монтеня: Плутарх. Как отличить друга от льстеца, 14.
[397] …Адриан спорил с философом Фаворином… – Об этом рассказывает Спартиан: Адриан, 15 (Scriptores Historiae Augustae).
[398] Август писал эпиграммы на Азиния Поллиона… – Рассказ об этом содержится у Макробия: Сатурналии, II, 4.
[399] …Дионисий, не будучи в состоянии сравняться в искусстве поэзии с Филоксеном… – Источник Монтеня: Плутарх. О спокойствии души. 12; Диодор Сицилийский, XV, 6 и 7; Диоген Лаэрций, III, 18 и 19; Филоксен – см. прим. 645, гл. XII, том II. О Филоксене рассказывают, что после его освобождения из каменоломен Дионисий снова обратился к нему с вопросом о том, нравится ли ему новое стихотворение Дионисия, на что Филоксен ответил: «Отправь меня обратно в каменоломни».
[400] …как говорит Платон… – Законы, IX, 862 b-e.
[401] Разве ты не видишь, как дурно живет сын Альба и как нищ Барр? Отличное предупреждение всякому, чтобы не расточал отцовское добро (лат.). – Гораций. Сатиры, I, 4, 109–111. – В современном издании сатир имя Барр читается как Бай (Baius).
[402] …мудрец большему научится от безумца, чем безумец от мудреца… – Эти слова Катона приводит Плутарх. Жизнеописание Катона Цензора, 9.
[403] Ведь нельзя спорить, не опровергая противника (лат.). – Цицерон. О высшем благе и высшем зле, I, 8.
[404] Антисфен наставлял своих детей… – Об этом рассказывается у Плутарха: О ложном стыде, 18.
[405] …Платон… лишал права на спор людей с умом ущербным… – Платон. Государство, VII, 539 d.
[406] Ничего не исцеляющих наук (лат.). – Сенека. Письма, 59, 15.
[407] Ни лучше жить, ни толковее рассуждать (лат.). – Цицерон. О высшем благе и высшем зле, I, 19.
[408] Скрывающиеся в чужой тени (лат.). – Сенека. Письма, 33, 8.
[409] Эвтидем и Протагор – персонажи диалогов Платона, которые имеет в виду Монтень.
[410] Истина вовсе не скрыта, как… утверждал Демокрит… – Лактанций. Божественные установления, III, 28.
[411] Мисон… ответил… – Об этом рассказывает Диоген Лаэрций: Жизнеописание Мисона, I, 108.
[412] Будем… помнить изречение Платона… – Источник Монтеня: Плутарх. Как надо слушать, 5.
[413] Свое дерьмо не воняет (лат.). – Эразм Роттердамский. Афоризмы, III, 4, 2.
[414] Валяй, если она недостаточно безумствует по своему побуждению, подстегни ее (лат.). – Теренций. Девушка с Андроса, IV, 9. У Теренция речь идет о нем, а не о ней.
[415] Сократ полагал… – Источник Монтеня: Платон. Горгий, 480 b-d.
[416] …те, кто… стремились утвердить религию созерцательную и безобрядную… – т. е. протестанты.
[417] Спинет – щипковый инструмент, один из предков фортепиано.
[418] При… высокой судьбе редко… встречается простой здравый смысл. – Ювенал, VIII, 72–73.
[419] …по словам Сократа… – Эти слова приводит Платон: Государство, VI, 490 d-е.
[420] Как обезьяна с подобием человеческого лица, которую, когда она постарела, мальчик потехи ради обрядил в роскошную ткань, оставив ей голую спину и голый зад, – забава для пиршеств (лат.). – Клавдиан. Против Евтропия, I. 303–306.
[421] …Мегабиз… получил… резкую отповедь… – Рассказ об этом содержится у Плутарха: Как отличить друга от льстеца, 15. Апеллес – знаменитый греческий художник IV в.; расцвет его творчества приходится на 30-е годы указанного столетия, даты рождения и смерти не установлены.
[422] Величайшая добродетель государя – знать подвластных ему людей (лат.). – знать подвластных ему людей. – Марциал, VIII, 158.
[423] …перс Сирам… сказал… – Об этом передает Плутарх: Изречения древних царей, введение. Монтень называет Сирамна Сирамом.
[424] Судьбы находят путь (лат.). – Вергилий. Энеида, III, 395.
[425] Предоставь остальное богам (лат.). – Гораций. Оды, 1, 9, 9.
[426] Меняется облик души, и сердце порождает то одни побуждения, то другие, пока ветер не успел разогнать тучи (лат.). – Вергилий. Георгики, I, 420–422.
[427] грубым умам дело управления давалось лучше, чем утонченным. – Фукидид, III, 37.
[428] Каждый возвышается в меру того, как ему благоволит судьба, а мы на основании этого говорим, – что он – умница (лат.). – Плавт. Псевдол, II, 3, 13–14.
[429] Когда Мелантия спросили… – Об этом рассказывает Плутарх: Как нужно слушать, 7. Дионисий Старший – см. прим. 7, гл. I, том I. Мелантий – речь идет, надо полагать, об афинском трагическом актере IV в. до н. э.
[430] Антисфен… возразил… – Источник Монтеня: Диоген Лаэрций VI, 8. Антисфен – см. прим. 5, гл. XL, том I.
[431] Жители Мексики после коронования своего владыки… – Источник Монтеня: Гомара. Всеобщая история Индии, II, 77.
[432] Нужно обращать внимание не только на то, что каждый говорит, но также и на то, что каждый чувствует и по какой причине он чувствует именно так (лат.). – Цицерон. Об обязанностях, I, 41.
[433] Гегесий говорил… надо лишь учить… – слова Гегесия приведены у Диогена Лаэрция: II, 95.
[434] …царь Кир ответил… – Об этом рассказывает Ксенофонт: Киропедия, III, 3.
[435] …это полагал и Лику^г. – Плутарх. Жизнеописание Ликурга, 20.
[436] …погибли два принца нашего королевского дома. – Возможно, что Монтень здесь имеет в виду герцога Энгиенского, убитого в
[437] Это произведение было взято [у меня] в разгар работы над ним (лат.). – Овидий. Скорбные песни, I, 7, 29.
[438] Благодеяния приятны только тогда, когда знаешь, что можешь за них отплатить; когда же они непомерны, то вместо благодарности воздаешь за них ненавистью (лат.). – Тацит. Анналы, IV, 18.
[439] Кто считает, что позорно не отплачивать, тот не хочет, чтобы было кому платить (лат.). – Сенека. Письма, 81, 32.
[440] Кто считает, что он перед тобой в долгу, тот никоим образом не может быть твоим другом (лат.). – Квинт Цицерон. О домогательстве консульства, 9.
[441] Я… пристально вникал в суждения Тацита… – Тацит. Анналы, VI, 6.
[442] …мелким представляется мне Тацит и в том месте… – Тацит. Анналы, XI, 11.
[443] …рассказ о солдате, который нес вязанку дров… – Тацит. Анналы, XIII, 35.
[444] …рассказ… о том, что Веспасиан… исцелил… – Тацит. История, IV, 81. У Монтеня ошибка: по Тациту, Веспасиан исцелил не слепую, а слепого.
[445] По правде говоря, я сообщаю и о том, чему сам не верю, ибо я не хочу утверждать того, в чем сомневаюсь, и не хочу умалчивать о том, что мне известно (лат.). – Квинт Курций, IX, 1.
[446] Утверждать или отрицать это не стоит труда; нужно придерживаться традиции (лат.). – Тит Ливий, I, введение и VII, 6.