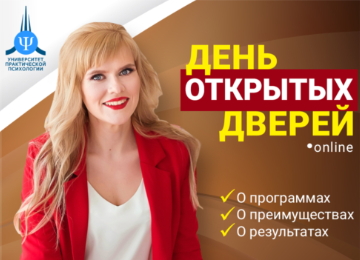- Книги
- Вагин Юрий. Тифоанализ
Вагин Юрий. Тифоанализ

(теория влечения к смерти)
Пермь Издательство ПОНИЦАА 2003
Рецензенты
Л. Я. Дорфман, д-р психол. наук, проф., зав. каф. психологии Перм. ин-та искусств и культуры
Монография научного руководителя Пермского образовательного научно-исследовательского центра авитальной активности, кандидата медицинских наук Ю. Р. Вагина посвящена теоретическим и практическим аспектам влечения к смерти в норме и патологии (авитальная активность). Автор предлагает монистическую теорию первичных влечений, основанную на влечении к смерти и рассматривает различные формы авитальной активности (суицидальное и парасуицидальное поведение) как результат неудовлетворения влечения к смерти в процессе естественной жизни (хронического умирания). Адресовано работникам медицины, образования, психологам.
ВВЕДЕНИЕ
Однажды моя пациентка во время сеанса попросила меня обрисовать, если это возможно, общую картину устройства человеческой психики. На подвернувшемся листе бумаги я стал рисовать ей пирамидку сознательных и бессознательных слоев психики, попутно объясняя, за что каждый из них отвечает и как они взаимосвязаны между собой. Пациентка очень внимательно все выслушала, помолчала и с невинным видом заявила: «Что ж, доктор, теперь я знаю, как, по вашему мнению, устроена человеческая психика».
Я несколько растерялся, потому что, собственно, был уверен, что рассказываю, как на самом деле устроена психика. И замечание пациентки меня даже несколько обидело, потому что мне показалось, что она тем самым хочет сказать, что все, что я рассказываю, есть всего лишь моя точка зрения. Но, в конце концов, позже подумал я, насколько же она права.
Более пятнадцати лет практически каждый день я работаю с живыми людьми, которые ждут от меня повышения качества их жизни. Все, что я вижу, и все, о чем буду рассказывать, базируется на моей практике. Количество сеансов, которые я провожу в течение дня, к сожалению, слишком велико (или я слишком ленив), чтобы я успевал их подробно стенографировать, и поэтому в данной работе я часто буду лишен возможности подробно проиллюстрировать свои теоретические выводы клиническими наблюдениями. Фетишизму я явно предпочитаю вуайеризм. Наблюдать за живыми пациентами мне намного интереснее, чем оформлять их в рамки клинических случаев, историй болезни, протоколов и эпикризов. Сколько раз во время сеанса я «кусал себе локти» только потому, что не имел возможности записать все то, что рассказывал мне пациент. Сколько живых фактов, примеров я потерял. Но, может быть, оно и к лучшему: такая ситуация привела к тому, что я технически был лишен возможности увязнуть в бесконечной красоте конкретных клинических случаев. Час за часом, день за днем, год за годом они наслаивались один на другой, образуя все более устойчивые теоретические структуры, далеко выходящие за рамки тех конструктов, с которыми я сталкивался в литературе. Все это привело, в конце концов, к формированию того своеобразного видения, своеобразного понимания функционирования человеческой психики в норме и патологии и к своеобразной технике, которую мы здесь будем называть тифоанализом и которая помогает мне работать с пациентами, страдающими авитальной активностью.
Можно ли назвать это своеобразное видение и понимание теорией? Наверное, да, если не забывать, что древнее орфическое понятие «теория» имеет общий корень со словом «оргия», которое означает «страстное и сочувственное созерцание». Страстное и сочувственное созерцание Бога (теорию) Пифагор позже стал понимать как интеллектуальное созерцание проявлений божественной мудрости в математике и геометрии. Благодаря ему это слово приобрело современное значение. Бертран Рассел писал, что для тех, кто плохо и мало изучал математику в школе, это может показаться странным, но для тех, кто был вдохновлен Пифагором и испытал опьяняющую радость неожиданного понимания, оно навсегда сохранило в себе элемент экстатического откровения. Воистину так.
Мой давний и откровенный интерес к влечению к смерти и суицидологии — территории, посещать которую рискуют далеко не все, — многим кажется несколько странным. Я не хочу оправдываться и прикрывать свой интерес альтруистическими одеждами. Я не скрываю, что мой интерес продиктован мотивами исключительно личного плана. Я не ставлю перед собой задач, решение которых могло бы каким-то образом исказить объективную картину, заставляя искусственно вырывать из живой плоти феномена наиболее ценные с конъюнктурной точки зрения куски.
Когда мне было десять лет, в магазинах еще не было тех замечательных мозаик, которые продают сейчас везде. Помню, что я брал простую открытку, разрезал ее по квадратным сантиметрам, перемешивал и затем собирал иглой назад. Думаю, что мне уже тогда доставляло удовольствие произвольно творить из порядка хаос и из хаоса – порядок. Изучение феномена авитальной активности, влечения к смерти и самоубийства напоминает мне (так любимое мною в детстве) кропотливое составление сложной мозаики, в которой нет и не может быть ни одного лишнего компонента. Я знаю, что в хаосе самоуничтожения был и есть порядок, и я согласен с Камю: есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема — проблема самоубийства, и «решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить,– значит ответить на фундаментальный вопрос философии», а все остальное — второстепенно.
Так получилось, что теория, с которой нам с вами предстоит познакомиться, имеет наибольшее количество точек совпадения с теоретическими картинами школ Фрейда и Юнга, что собственно и отражено в ее названии. Фрейд называл свою теорию психоанализом, а Юнг всю жизнь занимался глубинной психологией, или тифопсихологией. Портреты этих двух людей висят передо мной на стене кабинета. Я мыслю, говорю и пишу на языке глубинной психологии, формально не являясь ни психоаналитиком, ни юнгианским аналитиком. Признаюсь, я очень долго испытывал чувство ущербности из-за отсутствия у себя академического психотерапевтического образования, не говоря уже об аналитическом образовании или таких сакральных вещах, как учебный анализ. Поэтому, излагая теоретические аспекты тифоанализа и авитальной активности, я легко могу попасть в положение турецкого астронома из «Маленького принца» Сент-Экзюпери, который открыл новую планету и попытался доложить об этом на заседании европейских ученых, будучи одет в национальную одежду. Никто не воспринял его доклад серьезно, потому что он был не так одет. Когда через год он выступил с тем же докладом, но уже в европейской одежде, его выслушали с большим уважением, и открытие было всеми признано.
Возможно, с ортодоксальной точки зрения предосудительно и то, что, пытаясь самостоятельно воспринять красоту и изящество мозаичных психоаналитических и глубинно-психологических полотен человеческой психики и дополнить их деталями из своей практики, я, может быть, приложил слишком много усилий. Я всегда честно пытался примерять наблюдаемые мною феномены не только к известным и широко демонстрируемым теоретическим полотнам, но и к тем из них, которые хранятся глубоко в запасниках и крайне редко выставляются на всеобщее обозрение. К такому непопулярному полотну в первую очередь относится теория влечения к смерти Фрейда. Психоаналитики так же стесняются упоминать ее, как издавать неприличные звуки в обществе. Однако мне эта теория помогала работать. Очень долго она оптимальным образом объясняла мне максимальное количество фактов. В конце концов, она помогала мне зарабатывать деньги. У меня никогда не возникало осознанного желания или мысли разрушить ее. И все же это произошло. Это вышло естественно и спонтанно. Однажды, когда я пытался вставить очередной кусочек своего страстного и сочувственного созерцания в мозаику классической теории влечения к смерти, стараясь всего лишь дополнить ее, неожиданно для меня она распалась, и вся мозаика сложилась совершенно иным образом. Она была, разумеется, на 99 процентов составлена из прежних кусочков, но уже по-другому, и образовывала новую систему, претендующую на большую, нежели прежняя, стройность и красоту (разумеется, с моей точки зрения).
Неумышленность произошедшего, пожалуй, одна из основных точек опоры, которая позволяет мне сопротивляться желанию поставить себе диагноз паранойяльного расстройства. Когда я понял, что дуалистическая теория Фрейда, постулирующая антагонизм между влечением к жизни и влечением к смерти неверна, и, что самое плохое, неверна не в том месте, где постулируется возможность существования в человеке влечения к смерти (оно-то как раз есть), а в том месте, где постулируется существование влечения к жизни и либидо, у меня возникло труднопреодолимое желание забыть раз и навсегда все, что я понял. Но любопытство пересилило. В результате изучения психоанализа и аналитической психологии, более того – практической работы в качестве аналитического психотерапевта, прийти к заключению, что либидо не существует – это очень необычно. Я понимаю, что это может значить. И все же я убежден, что это так и буду настаивать на этом далее. Я не могу не видеть, что психоанализ, к сожалению, имеет незавидное настоящее, и теперь понимаю, что без существенных изменений в теоретическом фундаменте он будет иметь печальное будущее.
Конспект тифоаналитической теории
Конспект этот писался не до и не после, а во время работы, постоянно менялся и, видимо, будет меняться и далее вместе с ней. Работа естественным образом влияла на него, а он естественным образом влиял на работу. Я благодарен этому конспекту и не вижу причины, по которой мне нельзя было бы начать именно с него, предварив таким образом весь ход дальнейших наблюдений и рассуждений.
Итак:
1.
В конце XIX века структурная психология дополнилась психодинамической теорией Фрейда, а интроспективное и экспериментальное изучение структур сознания дополнилось психоаналитическими методами изучения бессознательного и влечений.
2.
Для изучения сознательных и бессознательных структур психики («Оно», «Я», «Сверх-Я»), механизмов психики (вытеснение, сублимация, смещение и т.д.) и первичных влечений психоанализ предложил метапсихологический подход (динамический, топический и экономический).
3.
Первичные влечения были выделены из множества влечений, описанных на тот момент в рамках философии и психологии. В первой теории сексуальное влечение (либидо) было противопоставлено влечению самосохранения. Во второй влечение к жизни (Эрос) было противопоставлено влечению к смерти (Танатос). Сексуальное влечение (либидо) — краеугольный камень обеих теорий.
4.
В это время Юнг и его последователи (аналитическая психология) изучают преимущественно глубинные структуры бессознательного (архетипы) и Юнг склоняется к монистической теории влечений, десексуализируя либидо и рассматривая его как эквивалент психической энергии вообще. Фрейд за весь период своего творчества пять раз сталкивался с необходимостью постулировать монистическую теорию влечений, но до конца своих дней сохранял верность дуалистической теории, хотя и был вынужден кардинальным образом трансформировать ее.
5.
Создание второй дуалистической теории первичных влечений Фрейд мотивирует необходимостью объяснить с помощью принципа удовольствия необъяснимый иначе феномен навязчивого повторения неприятных (травматических) переживаний, сексуальных извращений (в первую очередь мазохизма) и нарциссизма.
6.
Взгляд «по ту сторону принципа удовольствия» приводит его к предположению о наличии у человека влечения к смерти, которое Фрейд и его последователи отождествляют далее с агрессивностью и деструктивностью настолько, что понятия «влечение к смерти» и «агрессивный инстинкт» становятся практически синонимами.
7.
В конечном варианте дуалистической теории влечений влечение к жизни, противопоставленное влечению к смерти, включило в себя половое влечение (либидо) и влечение к самосохранению, ранее противопоставляемое либидо.
8.
Вторая дуалистическая теория сразу же подверглась эмоциональной критике (возрастные изменения личности Фрейда, пессимистическое влияние войны и смерти близких людей, желание Фрейда создать противовес монистической теории либидо Юнга) и конструктивной критике (не удалось описать источники энергии, развитие, цели и объекты влечения к смерти и влечения к самосохранению).
9.
На сегодняшний день многие аналитики признают существование агрессивного и сексуального влечения, но отвергают обоснованность существования влечения к смерти. Большинство исследователей переключилось вслед за Анной Фрейд на изучение структур и механизмов функционирования «Я» (эго-психология), зачастую постулируя наличие у него автономной энергии (вслед за Гордоном Олпортом).
10.
Постулат автономной энергии структур Я привел к бурному расцвету гуманистической психологии с антропными идеями саморазвития, самоактуализации и независимости «высших» мотивов от «низших».
11.
Отрыв от биологических основ функционирования психики быстро привел большинство этих теорий к антропоцентризму, психофизическому параллелизму и тесному переплетению со старыми религиозно-философскими идеалистическими системами (третья и четвертая волна в психологии).
12.
В это время психоаналитическая теория в том виде, как она была сформулирована Фрейдом, переживает состояние серьезного кризиса. Она все более начинает восприниматься не столько как научный и клинический, сколько как культурно-исторический фундамент. Психоанализ как теория начинает явно утрачивать ведущую позицию в интерпретации функционирования человеческой психики в норме и патологии.
13. Не только для своего дальнейшего развития, но и для своего существования психоаналитическая теория нуждается в фундаментальном пересмотре. В первую очередь это касается ее главной опоры — теории влечений. Ошибки, уже допущенные однажды при формулировке первой дуалистической теории влечений, привели позднее Фрейда к необходимости замены фундамента психоаналитической теории. Существенная ошибка, допущенная Фрейдом во второй дуалистической теории, делает невозможным дальнейшее развитие психоаналитической теории, угрожая устойчивости всего здания современного психоанализа.
14.
Ошибка Фрейда заключается не в том, в чем его чаще всего обвиняют, не в том, что он постулировал наличие влечения к смерти (тут он как раз прав), а в том, что он:
а)
Предполагал наличие влечения к жизни у человека и любой другой живой системы;
б)
Противопоставил влечение к жизни и влечение к смерти в рамках дуалистической системы первичных влечений;
в)
Рассмотрел систему (механизм) сексуального инстинкта как самостоятельное первичное сексуальное влечение (либидо);
г)
Рассмотрел систему (механизм) инстинкта хронификации жизни как самостоятельное первичное влечение самосохранения;
д)
Объединил эти две системы (механизмы) в рамках влечения к жизни;
е)
Отождествил влечение к смерти с механизмами инстинкта хронификации жизни: агрессивностью и деструктивностью.
15.
С точки зрения тифоаналитической теории у человека существует лишь одно первичное влечение – влечение к смерти. Таким образом, тифоаналитическая теория является монистической и постулирует следующие положения:
а)
Тенденцией (влечением) к жизни обладает лишь неорганическая материя, которая при определенных условиях неизбежно и закономерно образует жизнь как одну из форм своего существования;
б)
Человек, равно как и любая другая форма жизни, не обладает влечением к жизни;
в)
Человек, равно как и любая другая форма жизни, обладает лишь влечением к смерти;
г)
Жизнь есть процесс хронического умирания, побуждаемый влечением к смерти и ограничиваемый системой хронификации жизни;
д)
Система хронификации жизни (так называемый инстинкт самосохранения), усиливая локально напряжение в организме (воспринимаемое на психологическом уровне как неудовольствие, боль и страх), ограничивает стремление живой системы к смерти, заставляя «каждый организм умирать по-своему», но не является при этом самостоятельным или компонентным влечением;
е)
Основные механизмы системы хронификации жизни – агрессия (включение в себя) и элиминация (исключение из себя);
ж)
Влечение к смерти (принцип удовольствия) и система хронификации жизни (принцип неудовольствия) с механизмами агрессии и элиминации образуют жизнь как вариант диссипативного гомеостатического процесса, подчиняющийся принципу реальности: получение максимума удовольствия при минимуме неудовольствия;
з)
Система сексуальности (сексуальный инстинкт) обеспечивающая репродукцию живых систем, занимает центральную позицию в процессе жизни, но не является самостоятельным или компонентным влечением (либидо как самостоятельного влечения не существует);
и)
Нарушение качества жизни (качества хронического умирания) связано с нарушением функционирования систем хронификации жизни и сексуальности;
к)
Нарушение качества жизни приводит к усилению влечения к смерти и перенапряжению системы хронификации жизни (усилению боли и страха, агрессии и элиминации);
л)
Повреждение системы хронификации жизни приводит к возникновению авитальной активности, направленной на сокращение и прекращение жизни (суицидальная и парасуицидальная активность);
м)
Профилактика и лечение авитальной активности заключается в нормализации функционирования системы хронификации жизни (развитие и восстановление механизмов агрессии и элиминации) и нормализации функционирования сексуальной системы в репродуктивный период.
Определение позиции
Поскольку я могу предположить, что критика тифоаналитической теории будет направлена в первую очередь не столько на саму теорию, сколько на наблюдателя, считаю необходимым с самого начала обозначить, стараясь быть максимально точным, свою позицию и свой взгляд. Потому что, если другой человек смотрит с принципиально иных позиций и принципиально иным образом, мне бы не хотелось убеждать его в своей правоте.
То, что мы будем рассматривать далее, очень напоминает психологическую анатомию и гистологию, коими глубинная психология, тонко препарирующая внутренности человеческой психики, по своей сути и является. Поэтому мы называем такой подход тифоаналитическим. Я полагаю, что кому-то эти знания пригодятся. Я не уверен, что всем обязательно нужно знать, как устроена изнанка человеческой психики, как не уверен и в том, что всем нужно знать анатомическое устройство человеческих внутренностей.
Меня постоянно пытаются обвинить в том, что то, что я вижу и иногда пытаюсь показать другим, — ужасно, мрачно и беспросветно. Я с этим принципиально не согласен.
Во-первых:
Эти оценки сугубо эстетические. Японцы находят, что харакири — один из самых прекрасных, возвышенных и достойных способов смерти, а зрителей-европейцев в обморочном состоянии выносили с подобных церемониалов. Христиане рассматривают как возвышенную и прекрасную смерть Иисуса на кресте и даже носят ее изображение (часто как украшение) на шее. С точки зрения тех же японцев носить на шее изображение тела человека в момент его казни — тоже более чем странно. Дело вкуса. Сегодня моя пациентка, после того как я рассказал ей, что в реальной жизни бывают случаи, когда родители вступают со своими детьми в интимные отношения, обвинила меня в том, что тот мир, который я ей рисую, — мерзкий и грязный. Я же рассказал ей об этом лишь для того, чтобы всеобщностью скрасить неприятные ощущения от ее сновидения, в котором она наблюдала обнаженного отца с эрегированным фаллосом и свою сестру, заигрывающую с ним на глазах у матери. При этом «моя» картина мира все равно осталась для нее более мерзкой, чем картина ее собственного сновидения.
Во-вторых:
Даже если наша картина и не очень эстетична — что с того? Врач должен начинаться в малоэстетичном секционном зале, что нисколько не мешает ему любоваться красотой и совершенством человеческого тела. Психолог должен начинаться с безусловных рефлексов кольчатых червей, этологии и глубинной психологии, что нисколько не должно и не может помешать ему в дальнейшем любоваться красотой и изяществом человеческой личности.
То, что я вижу и хочу показать здесь, — это удивительная гармония устройства мироздания, жизни, человека и удивительная красота.
В конце концов — это интересно.
Я вижу, что существует мир. То есть я допускаю, что мой субъективный образ мира является схемой объективно существующей реальности. При этом я мыслю себя частью мира и, независимо от своей воли, подчиняюсь его законам. Мой образ мира зависит от свойств мира, свойств моего мозга и направленности моего ассимиляционного процесса.
Я переживаю во времени своё бытие относительно бытия окружающего мира, правда, я не знаю наверняка, а лишь допускаю его объективность и независимость от меня. Я могу также, придерживаясь субъективно-идеалистических или солипсических позиций, допустить, что «внешний» мир является порождением моей психики, но не могу доказать истинность ни того, ни другого допущения. Мне удобнее и проще жить, допуская объективность внешней реальности — это все, что я могу с достаточной долей уверенности сказать. Другой человек, поскольку я уже допустил его независимое от меня существование, может переживать своё и моё бытие по-другому, если ему так удобнее.
Я вижу, что мир закономерен.
Мир, который я воспринимаю, закономерен. Вернее, я воспринимаю лишь его закономерную часть. Я могу допустить существование мира, в котором отсутствует закономерность, но я его не воспринимаю. Всё, воспринимаемое мною в мире, взаимосвязано и в большей или меньшей степени предопределено. Поэтому я допускаю, что закономерность и предопределённость — внутреннее свойство мира. Я могу допустить существование управляющей и предопределяющей силы вне мира, как это делают другие люди, но мне удобнее и проще этого не делать. На вопрос: «Есть Бог или нет?» — я не могу дать ответ, но, спрашивая себя: «Зачем мне Бог?», я могу ответить в соответствии с моим настоящим состоянием: «Для понимания мира в целом и себя как части мира мне Бог не нужен». Или скажем проще: для понимания мира он мне нужен не больше, чем для понимания тех исключительно сложных процессов, которые происходят в кастрюльке, когда я варю в ней пельмени. Наблюдая за кипящей водой, я часто думаю, что мы мало чем отличаемся от пузырьков, которые возникают там при определенных условиях. Для этих пузырьков я, наверное, должен быть Богом, и мне всегда очень смешно, когда я пытаюсь представить себе, как эти пузырьки за миг своего существования пытаются постичь мироздание. Еще смешнее представлять, что они тоже могут мнить себя смыслом и центром мироздания.
Тем временем я вижу вокруг себя людей, которые без намека на улыбку считают, что они являются образом и подобием божьим и уверены, что Богу есть какое-то дело до них. Я вижу идею Бога в их субъективных схемах реальности, и эта идея полезна мне для объяснения их поведения, лечения и получения финансовых средств на ужин себе и своей семье, но для понимания мира идея Бога даёт мне не больше, чем идея закономерности мира.
При этом я допускаю, что в процессе старения, когда моя психическая активность снизится настолько, что я не смогу понимать и принимать мир так, как сейчас, мне самому понадобится идея Бога. Я вижу, что вера в Бога является возраст-зависимой характеристикой: чем больше возраст человека, тем легче и чаще я обнаруживаю в его голове идею Бога. Я вижу, что с возрастом происходит распад умственных способностей. Я сам человек. Я старею. Возможно, что, однажды проснувшись, я обнаружу идею Бога и в своей голове. Поскольку после достижения зрелости я не допускаю для себя возможности поумнеть, то этот факт будет воспринят мною как еще один явный признак постепенного распада моей личности.
Я вижу, что мир структурен и энергетичен.
Мир, который я воспринимаю, не однороден. Поскольку я воспринимаю мир, я воспринимаю его как структуру, как фигуру, как гештальт, как конечное разнообразие. Неструктурный мир не доступен моему восприятию.
Структурность мира, очевидно, связана с его энергетичностью. Я вижу, что изменение структуры мира связано с изменением энергии, а изменение энергии связано с изменением структуры. Чем сложнее структура мира, тем меньше энергии остаётся в свободном состоянии. Каждая структура связывает и несёт в себе энергию. Распад структуры приводит к освобождению энергии так же, как распад структуры ядра атома приводит к освобождению энергии, которая, изменяя в свою очередь структуру пространства вокруг, постепенно переходит в связанное состояние. Избыток свободной энергии приводит к процессу структурообразования, недостаток — к распаду структуры и высвобождению энергии.
Я вижу, что мир флюктуирует.
Процессы перемещения энергии, структурообразования и структурораспада подвержены флюктуации, то есть периодическому колебанию.
Специалисты по макромиру полагают, что мы живём в галактике, образовавшейся путём взрыва (то есть скачкообразного перехода) некоей высокоструктурированной материи, чьи исчерпавшиеся возможности не смогли сдержать энергию, и она вырвалась наружу, приведя к образованию новых форм материи (частью которых является и наша солнечная система, и наша планета, и все мы). Расширяясь, галактика теряет свободную энергию и увеличивает свою структурность. Высказывается вполне разумное предположение, что по прошествии некоего времени Солнце, исчерпав свои возможности, погаснет. Если мы не научимся к тому времени каким-то образом компенсировать недостаток солнечной энергии, жизнь на Земле прекратится.
Процессы переструктурирования при изменении количества энергии закономерны. Они подчиняются внутренней логике бытия, они имманентны бытию, они периодичны. Мир, который я воспринимаю вокруг себя, флюктуирует и пульсирует, увеличивается и уменьшается, сворачивается и разворачивается, расширяется и сужается, вздымается и опадает. Наблюдая мир вокруг себя, над собой, внутри себя, я наблюдаю бесконечный процесс образования и распада структур.
Я вижу часть мира, которую называют жизнью.
Наше рождение, жизнь и смерть — разновидности общего мирового закона, в соответствии с которым материя структурируется и деструктурируется, созидается и разрушается, соединяется и распадается. Жизнь закономерна. Она структурна и энергетична. Она флюктуирует — её интенсивность периодически колеблется. Я предполагаю, что жизнь — одна из форм флюктуации бытия, приводящая к временному увеличению структурной организации материи и уменьшению количества свободной энергии. Я предполагаю, что смерть — другая сторона этой флюктуации, в процессе которой происходит деструктуризация и освобождение связанной ранее в живой структуре энергии.
Жизнь является одной из временных форм организации бытия, которая возникает при комплексе условий, включающих в себя определённый уровень свободной энергии и предполагающая наличие определённых химических элементов.
Возможно, что жизнь существует для структурной связи свободной энергии и уменьшения напряжения в локальном участке мира. В этом её цель и смысл.
Если бы бытие обладало чувствительностью и эмоциями, если бы космос был одушевлённым (как его воспринимали древние греки), усиление напряжения в его локальном участке, несомненно, сопровождалось бы чувством неудовольствия, боли и стремлением избавиться от этого напряжения. И мы, на самом деле, видим, что мир ведёт себя именно подобным образом: бытие постоянно создаёт и разрушает структуры, связывая и отдавая свободную энергию. Живое — одна из таких диссипативных структур.
Бытие, порождающее жизнь, возможно, каждый раз испытывает такое же облегчение, как и мать, разрешившаяся от бремени. Сама новорожденная жизнь в начале структурирования испытывает мощное чувство напряжения и неудовольствия из-за собственной нестабильности и гигантской разницы потенциалов, которая неминуемым образом притягивает к структурообразующему центру жизни огромное количество вещества. Два генетических носителя (яйцеклетка и сперматозоид), соединившись вместе, начинают действовать как смерч, как чёрная дыра, которая засасывает в себя гигантское количество вещества из окружающего мира вплоть до момента, когда разница потенциалов выровняется и сформированная система не начнёт постепенно распадаться.
Эволюция жизни — это процесс образования различных систем, перерабатывающих различное количество неорганической материи в органическую.
Возвращение назад и переход в неорганическую материю для органической возможен только тогда, когда она создаст себе взамен другую или другие системы и тщательно проследит, чтобы они хорошо и самостоятельно функционировали.
С самого момента зачатия, когда два комочка вещества, которые мы называем половыми клетками, соединяются друг с другом помимо нашего субъективного желания, мы влекомы к смерти, к максимально уравновешенному состоянию. В процессе этого движения к смерти внутри нас периодически создаётся напряжение, побуждающее нас к созданию условий для соединения половых клеток и продолжения жизни после нашей смерти. Эти соединившиеся половые клетки мы часто справедливо называем смыслом нашей жизни.
Когда природа создавала нас и вкладывала программу жизнеобеспечения, она позаботилась лишь о том, чтобы установить постоянную «разницу напряжения» между чувством удовольствия и чувством неудовольствия. Мы стремимся к снижению напряжения и удовольствию и всеми силами бежим от усиления напряжения и неудовольствия. Этот закон Фрейд положил в основу психоаналитической теории.
Самоструктуризация и порождение новой жизни — смысл жизни.
Удовольствие, сопровождающее движение к смерти, — единственная компенсация за те страдания, которые мы испытываем на жизненном пути в связи с заложенной в нас системой хронификации жизни. Эта система, которую мы наивно называем инстинктом самосохранения, на самом деле с помощью двух нехитрых приспособлений — страха и боли — не дает нам максимально быстро достигнуть максимального удовольствия и вернуться в неорганическое состояние путем «короткого замыкания». В этот естественный процесс никак не вписывается ни влечение к жизни, ни влечение к сохранению жизни. Мы не обладаем влечением к жизни. Влечением к жизни обладает лишь неорганическая материя. Жизненный вектор органической материи имеет лишь одно направление — от точки зачатия к смерти. Интересно, как еще иначе можно назвать влечение, которому соответствует этот вектор, кроме как влечением к смерти?
Что такого ужасного, мрачного и бесперспективного в том, что наша жизнь подчинена влечению к смерти и только движение в этом направлении наполняет нашу жизнь удовольствием?
С моей точки зрения жизнь очень напоминает поездку по американским (русским) горкам. Мы поднимаемся сначала на максимальную высоту, садимся в вагончик и, замирая от страха и удовольствия, стремительно несемся вниз – туда, откуда когда-то и началось наше путешествие. Удовольствие, получаемое при этом, и есть смысл путешествия. Это путешествие, как и сама жизнь, должно быть не очень медленным и не очень быстрым. Важно также проследить, чтобы в начале поездки неумный распорядитель (родитель, учитель) не внушил человеку, что во время поездки обязательно нужно класть ногу под колесо или смотреть только на солнце или тому подобные глупости. Только человек, который так и поступит, будет иметь весомые основания заявлять, что поездка (жизнь) не приносит ему удовольствия и что он всю поездку (жизнь) страдал. И мы не удивимся если ему придет в голову вполне разумная мысль: прекратить мучения и выпрыгнуть из вагончика, не дожидаясь конца пути.
Всегда, когда ко мне приходит пациент, который говорит, что жизнь не приносит ему удовольствия, что ему не хорошо, что он страдает, я знаю – в этом виновата не жизнь.
Наша жизнь устроена так, что просто обязана приносить нам хроническое удовольствие.
Виноват тот способ, с помощью которого пациент пытается ехать по жизни и тот, кто научил его этому способу, а моя задача найти ту «ногу», которую пациент «засунул под колесо» и помочь достать ее оттуда. Мало заменить невротическое страдание обычной человеческой болью, необходимо вернуть человеку радость хронического умирания, которое мы привычно называем жизнью.
Предрассудки мировосприятия
Поскольку мы далее будем обсуждать феномены, в значительной степени выходящие за пределы нашего привычного мировосприятия — влечение к смерти, авитальную активность, систему хронификации жизни и ее механизмы, — нам необходимо сконцентрировать всю свою энергию для принятия, удержания и закрепления новой позиции. Против нее восстает наше привычное мышление, наши знания, эмоции, но без нее невозможно адекватно понять проблемы как нормального, так и патологического функционирования психики.
Попытаемся представить себя в положении людей, обладающих органами чувств (коим они привыкли доверять), вынужденных вдруг поверить, что маленькое Солнце, которое, очевидно, вращается вокруг большой Земли, на самом деле является огромным огненным шаром, вокруг которого вращается маленький шарик Земли. Это очень сложно. Это никогда не получается сразу. Что с того, что более двух тысяч лет тому назад Аристарх Самосский доказал, что Земля — это шар, вращающийся вокруг Солнца? Ни античность, ни средневековье не признали его. Это знание никому не мешало ещё восемнадцать столетий верить в обратное.
Шопенгауэр в трактате «Мир как воля и представление» писал, что «скорее совы и летучие мыши спугнут солнце обратно к востоку, чем познанная истина, выраженная с полной ясностью, снова подвергнется изгнанию, чтобы старое заблуждение опять невозбранно заняло свое просторное место». Если рассматривать историю человечества с этих позиций, то наше солнце, не останавливаясь, катится на восток, и, как бы в насмешку над великим трудом философа, большая часть его книг пошла после издания в макулатуру.
Огромное количество людей до сих пор верили и верят, что они — единственные из всех живых существ созданы по образу и подобию Бога. Не меньшее количество людей, включая преподавателей биологии, верят, что эту веру разрушил Чарльз Дарвин, доказавший происхождение человека от обезьяны. И то, и другое — всего лишь традиции мировосприятия и вера. На самом деле Дарвин в работе «Происхождение видов путем естественного отбора», вышедшей в 1859 году, ничего не говорит о происхождении человека из обезьяны. Этот вывод спустя три года сделал Фохт, затем почти одновременно Гексли и Геккель. Книги Дарвина «Происхождение человека и половой отбор» и «О выражении эмоций у человека и животных» появились лишь через 12 лет.
Фохт, более известный российскому читателю в компании с Бюхнером и Молешоттом как «вульгарный материалист», поскольку утверждал, что мозг продуцирует мысль так же, как печень — желчь, прочитал в 1862 и опубликовал в 1863 году «Лекции о человеке, его месте в мироздании и в истории Земли». В них, сравнивая анатомию человека и обезьяны, Фохт резюмирует: «…согласно ли с данными науки выведение человека от типа обезьян? Отрывочные данные, имеющиеся в настоящее время для будущей постройки моста, который должен быть перекинут через пропасть, отделяющую людей от обезьян, вам уже известны… Человек является… не особенным каким-то созданием, сотворенным совершенно иначе, нежели остальные животные, а просто высшим продуктом прогрессивного отбора животных родичей, получившимся из ближайшей к нему группы животных». Тактичный Фохт отмечает здесь же, что Дарвин о происхождении человека от обезьяны не сказал лишь из-за консерватизма Англии. Но факт остается фактом — не сказал.
Еще через год, в
Таким образом, хотя происхождение человека от других животных доказал не Дарвин, следует все же заметить, что органическая клетка на сегодняшний день имеет больше оснований гордиться своим божественным происхождением, ибо оно точно не известно и оставляет место для фантазий, а происхождение человека от обезьяны — хорошо доказанный научный факт. Правда, этот научный факт совершенно не мешает основной массе человеческих индивидов продолжать верить в Бога и строить на этом основании различные забавные теории Богоизбранности, Богочеловека, Человекобога и тому подобные. Факт существования ископаемых животных в Земле креационисты например, объясняют желанием Бога «запутать» будущих исследователей. Создавая мир за семь дней, Бог, оказывается, предусмотрительно вложил в земные породы все ископаемые виды животных. Более здравомыслящие креационисты не спорят с эволюционистами и даже соглашаются с тем, что человек был создан Богом из обезьяны, но ведь создан Богом, — говорят они, а что касается времени акта творения, так то, что на часах Бога семь дней, то на земных часах миллионы лет, и то, что для человека обезьяна, для Господа — прах земной.
Французский просветитель восемнадцатого века Кондорсе в «Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума» наивно изобразил историческое развитие человечества в виде бесконечного прогресса, обусловленного внешней природой, культурными достижениями и взаимодействием людей. Он очень досадил всему прогрессивному человечеству и, можно сказать, сам малодушно опроверг своё учение, «бессовестным образом» покончив жизнь самоубийством в тот момент, когда «прогрессивное человечество» собиралось его самым прогрессивным и культурным способом гильотинировать. Как откровенно писал в биографии Робеспьера советский историк Левандовский: «Под грохот сражений и стук гильотины шёл непрерывный процесс созидания». Если и может быть среди этого «прогрессивного» грохота и стука самое глубокое заблуждение — так это то, что наши истины кому-нибудь очень нужны. Те знаменитые сто книг, которые следует иметь в своей библиотеке и в которых умещается вся мудрость человечества, всегда безошибочно оказываются во всех кострах, которые жжёт толпа, подогревая свои революционные порывы и свято веря неважно во что…
Мы очень долго верили в уникальность собственной разумности. Декарт, cogito ergo sum и т.п. Последними «нехорошими» людьми, которые разбили и эту веру, отказавшись от идеи «чистого разума», доказав, что большая часть психической деятельности обусловлена биологическими влечениями и протекает за пределами сознания, были Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг. Не Фрейд и не Юнг, разумеется, были первыми, кто указал на факт существования бессознательного, но они — те два бесстрашных капитана, которые со своими командами совершили «кругосветное путешествие» вокруг мозга, вернее сказать, сквозь мозг. Они начали с биологических основ индивидуальной психики — влечений (Фрейд), прошли её насквозь и вышли с другой стороны на её биологическую же коллективную структурную основу — архетипы (Юнг).
Кризис человеческого самопознания, о котором открыто заговорили сейчас многие философы и психологи, а более проницательные сумели предчувствовать ещё в конце семнадцатого века, есть следствие именно этого «путешествия» в глубины психики. Никто не спорит, что психика человека не познана полностью. Но та особая эйфория её избранности, эйфория безграничных возможностей человеческой психики, характерная для мыслителей античности, эпохи Возрождения, сменилась настоящим шоком возможной конечности познания человеческого разума и возможной познавательной конечности человеческого разума. Человек больше не представляется нам уникальным и непознаваемым микрокосмосом, который может вместить в себе Вселенную. Человек конечен и ограничен, а следовательно — познаваем. Даже вооружившись электронным микроскопом и самым мощным телескопом, мы недалеко уйдем от того платоновского человека, способного воспринять лишь пляску теней на стене своей пещеры.
Три плоскости изучения человеческой психики (индивидуальное сознание, индивидуальное бессознательное и коллективное бессознательное – объективная психика) обозначены, и уже многим понятно, что в психике ничего кроме этого и нет. Идея избранности, инакости, особенности человека, согревающая на протяжении тысячелетий сердца миллиардов людей на Земле, рушится на наших глазах. Оказалось, что человека можно изучать точно так же, как пчелу или лягушку. Компьютер обыграл человека в шахматы.
Человек познаваем. Психика человека познаваема.
Индивидуальное сознание, индивидуальное бессознательное и коллективное бессознательное (объективная психика) составляют личность, и более в ней нет ничего.
Наше индивидуальное сознание организует жизнедеятельность таким образом, чтобы обеспечить удовлетворение наших насущных потребностей в условиях окружающей действительности. Для этого оно использует модели поведения, выработанные в процессе индивидуального существования и хранящиеся в индивидуальном бессознательном. Врождённая объективная психика, независимо от индивидуального опыта, незаметно для нас организует всё наше восприятие, мышление и поведение так же, как врождённая модель гнезда организует индивидуальное гнездостроительное поведение птицы. Палочки и веточки, мох и пух для постройки гнезда птица берёт из окружающей среды, но складывает их в единое целое по той модели, которая изначально уже заложена в структуре её психики.
Процесс развития науки (который часто сравнивают с захватом многоэтажного дома, когда часть учёных совершает прорыв на следующий этаж, а часть последовательно занимает комнаты уже захваченных этажей) привёл к неприятному осознанию, что мы уже забрались на самую крышу и дальше двигаться некуда. Как пишет Роберт Антон Уилсон в работе, посвящённой квантовой психологии, «в нашем столетии человеческая нервная система обнаружила и свой созидательный потенциал, и свои собственные границы».
Выше индивидуального сознания — только мёртвая материя, фиксирующая следы нашей психической деятельности, например, лист папируса или бумаги. Ниже — биологическая, хоть и живая, но бездушная органическая материя, фиксирующая и передающая следы, на основании которых строится всё функционирование нашей психики. Поломка самой незначительной «платы» в этой системе — и от нашей гордости самосознания не останется и следа. При переходе на молекулярный, субмолекулярный и субатомный уровни исследование психических и личностных особенностей утрачивает смысл: там нет нашей психики.
Урна с пеплом мозга Эйнштейна поможет нам понять законы функционирования психики не больше, чем урна с пеплом мозга олигофрена.
«Более глубокие слои души утрачивают свою индивидуальную неповторимость, по мере того как всё дальше и дальше отступают во мрак. Опускаясь всё ниже и приближаясь к уровню автономно функционирующих систем, они приобретают всё более коллективный и универсальный характер, пока окончательно не угасают в материальности тела, то есть в химических субстанциях… Следовательно, “на самом дне” душа суть просто “Вселенная”», — этот факт хорошо понял в начале двадцатого века Юнг. Неудивительно, что в последнее время исследования законов человеческой психики и исследования законов Вселенной так тесно переплелись между собой.
Поднимающийся по лестнице самопознания человек увидел небо, в котором его нет. Опускающийся в глубины самопознания человек увидел землю, в которой его тоже нет. Между небом и землей существует человек, до страданий которого нет никакого дела ни небу, ни земле. Ужас заброшенности, ужас оставленности, «ужас космического одиночества» парализует душу человека.
Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец;
Создав, навсегда уступил меня року Создатель;
Я продан! Я больше не Божий! Ушел продавец,
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.
Это доминирующее ощущение покинутости, одиночества, лежащее в основе любой религии и философии — следствие познавательного тупика, в котором оказалось человечество. В поэзии Иосифа Бродского мне всегда слышался очень тонкий, едва уловимый лейтмотив. Не так давно мне стало казаться, что я его стал понимать: Бродского не радует жизнь, и он завидует мертвым вещам.
…не плачь о том, что жизнь проходит
и ничего тебе совсем не дарит.
Всего лишь жизнь. Ну вот, отдай и это,
ты так страдал и так просил ответа,
спокойно спи. Здесь не разлюбят, не разбудят,
как хорошо, что ничего взамен не будет…
Мандельштам еще откровеннее:
О, как же я хочу,
не чуемый никем,
Лететь вослед лучу,
где нет меня совсем…
Но всё это лишь верификационная лирика, как сказал бы Карл Поппер.
Итак, наука подвергла человека трём страшным унижениям: она лишила его геоцентрической иллюзии, она лишила его Бога с помощью эволюционной теории и она лишила его сознания. Уже много раз повязка была сорвана с глаз Человека, но вновь и вновь он надевает её. И сейчас на этой потертой от использования повязке гуманистическая психология выводит новые красивые слова: Развитие Личности, Духовное Совершенствование, Творческая Жизнь, Самоактуализация.
Идея бесконечного развития личности, идея о возможном для каждого человека беспредельном творческом самосовершенствовании, идея о беспредельных возможностях – это даже не миф, и не сказка, и не утопия, поскольку ни мифы, ни сказки, ни утопии так низко не опускаются. Это — ложь. Потому что ничего этого нет. Есть организм, есть онтогенетический процесс постепенного умирания, есть личность — биосоциальное единство, и нет никаких оснований считать динамику развития личности отличной от общих закономерностей, присущих онтогенезу индивида. Интенсивные попытки стимуляции психической деятельности, предпринимаемые уже не только в детском и подростковом, но и в зрелом и пожилом возрасте, вызывают самые большие опасения в плане возможности спровоцировать патологическую авитальную активность.
Например, если рост в основной популяции составляет в среднем 160—170 сантиметров, то какой–то процент людей обязательно выходит по этому показателю за пределы нормы. Есть люди, рост которых составляет 200 и более сантиметров. Такие люди не представляют собой патологии, они являются отклонением. И никому не нужно доказывать, что им в чем–то сложнее адаптироваться к окружающей среде. Что произойдет, если мы начнем рассматривать людей с двухметровым ростом как «полностью выросших», а всех остальных как «неполноценных» или «не полностью актуализированных»?
Равным образом, есть креативные личности, активность и пластичность ментальных процессов которых продолжает оставаться на относительно высоком уровне (по сравнению с общей популяцией) дольше, чем в норме. Это отклонение. Таким людям также в чем-то сложнее адаптироваться к окружающей среде, поскольку мир, который их окружает, — это не их мир, это не мир, который рассчитан на них, это мир примитивных личностей, это мир, адаптированный к особенностям социального и психологического функционирования примитивных личностей, мир, живущий по примитивным законам, мир с примитивными ценностями и интересами. Это — нормальный мир.
Глупо, как каждый понимает, пытаться разработать методики, которые позволили бы основной массе населения увеличить свой рост, хотя, теоретически это возможно. Для баскетбольных команд, насколько я знаю, стараются отобрать людей с естественно высоким ростом, а не вытягивают подростков в специальных инкубаторах.
Однако задумаемся, что же происходит в психологии в целом и в педагогике в частности по отношению к проблеме креативности? Чем, если не «вытягиванием за уши» можно назвать знаменитое «развивающее обучение»? Родители согласны платить огромные деньги, лишь бы погрузить своего ребенка в систему максимального информационного нагнетания, лишь бы втиснуть в ребенка всю мыслимую и немыслимую информацию, совершенно не учитывая его индивидуальных особенностей. Это напоминает насилие.
У Роджерса (при всем моем неприятии гуманистической психологии) есть хорошее сравнение: «фермер не может заставить росток развиваться и прорастать из семени, он только может создать такие условия для его роста, которые позволят семени проявить свои собственные скрытые возможности. Так же обстоит дело и с творчеством».
Это хорошее напоминание тем педагогам, которые считают, что креативность — это та волшебная жидкость, которой они поливают детей и которая обладает магической способностью из каждой землянички вырастить клубничку. Еще Гельвеций по этому поводу говорил, что:
Посредством воспитания можно заставить плясать медведей, но нельзя выработать гениального человека.
Педагогам бы решить проблему, как не тормозить психическое развитие ребенка и подростка, чтобы не выращивать психических компрачикосов, а уж кому и на сколько дано вырасти духовно и интеллектуально, природа решит сама. Не нужно ее подправлять. Как писал основоположник гештальттерапии Фредерик Перлз «Не нужно толкать реку, пусть она течет сама».
Ведь все, что требуется от родителей, воспитателей и учителей, — это обеспечить свободный доступ ребенка к информационному потоку в широком смысле этого слова, и он впитает в себя ровно столько, сколько позволят ему его собственные потенции.
Он будет аутентичен. Он будет самоактуализирован, если угодно. Если исключить грубые случаи с сенсорной депривацией, ребенок, воспитывающийся в естественной среде, без внешнего вмешательства сумеет компенсировать возникший информационный голод. Не страшно, если ребенку кто-то что-то «недодаст». Образующийся вакуум будет заполнен естественным путем китайским языком, интегральными вычислениями, анатомированием лягушек и тому подобными с нормальной (примитивной) точки зрения странными материями.
Страшно в данной ситуации другое. Страшно, если в ограниченную форму попытаться вложить большее содержание, чем она может вместить. Психика ребенка и подростка чрезвычайно пластична. До поры до времени она стерпит все, но рано или поздно неминуемо ответит целым веером различных форм патологической авитальной активности с целью компенсации возникшего искусственно напряжения.
Психологи и психиатры знают, что происходит с теми детьми, которых в погоне за спортивными достижениями родители и тренеры, так сказать, «развивают», не думая о последствиях. На рубеже третьего тысячелетия любопытное человечество заинтересовалось развитием мозгов, презрев древнюю мудрую заповедь Экклезиаста: «Умножая знания, ты умножаешь страдания». Неужели на Земле мало страданий?
В этой связи в психологии за последние десятилетия возникло новое уникальное направление: психология креативности. Две проблемы интересуют в настоящий момент психологов: собственно проблема креативности и проблема усиления и продления креативности у большинства людей. Разрабатываются различные методики развития креативности у детей, усиления творческих способностей в зрелом и пожилом возрасте. Описываются и изучаются отдельные редкие индивиды, отличающиеся по ряду параметров от основной популяции. Эти индивиды (креативные личности) обладают определенным набором психологических характеристик, которые они где-то (то ли по наследству, то ли в специальной школе) получили, и вечно придумывают что-то новое, всегда идут своим путем, не могут усидеть на одном месте.
Поль Торренс, основоположник психологии креативности, писал, что «креативность это значит копать глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь стены, зажигать солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее».
Но не это интересует большинство людей. Никто не станет вкладывать деньги, чтобы научить свою дочь разговаривать с кошкой, а своего сына — строить замок на песке. Креативностью интересуются постольку, поскольку на креативности стало возможно делать деньги. Ведь эти отдельно взятые личности периодически что-то там открывают, и на этом можно делать бизнес.
«Ага!» – думают психологи, и целыми школами и научными направлениями проблему эту, то есть креативность, изучают, а на базе изученного пытаются разработать различные комплексы мероприятий, как эту креативность в детстве как прививку прививать – «развивающее обучение» называется.
Все это имеет столько же шансов на успех, сколько и попытка с детства воспитать из девочки мальчика или из мальчика девочку. То есть не то чтобы ничего не получается, — просто то, что получается, глаз отнюдь не радует, само по себе вызывает сожаление, а иногда еще и требует специальной психологической и психотерапевтической помощи. Попытайтесь сделать из примитивной личности креативную — получите невротика; попытайтесь сделать из креативной личности примитивную — будет то же самое. И в том, и в другом случае вы получите патологическую авитальную активность.
Как это ни парадоксально, но именно избыточная стимуляция активности детей и подростков может привести к неожиданному эффекту — усилению авитальной активности как естественной компенсации бездумных действий родителей и педагогов.
Если мы видим человека, который очень хочет спать, мы можем предположить, что перед этим он слишком долго и интенсивно бодрствовал. Если мы видим человека, который слишком хочет умереть, значит, обстоятельства предъявили к нему такие чрезмерные требования, которые, истощив его жизненные силы, позволили прорваться на поверхность патологической авитальной активности.
Та же гуманистическая психология и тот же гуманизм, которые так радеют за всеобщее развитие и «креативизацию» всех детей и подростков, теми же словами сокрушаются потом по поводу «необъяснимого» роста детских и подростковых самоубийств в последние десятилетия.
Развитие человека длится долго, но не бесконечно. После более или менее длительного периода эволюции начинается неотвратимый инволюционный процесс. В обыденном и научном языке процесс завершения развития обозначается очень просто: «зрелость» («зрелая личность», «зрелый человек», «зрелые мысли», «зрелое решение»). И если мы констатируем в определённый момент феномен зрелости, следующий шаг — увядание. Когда человеческий индивид достигает зрелости, известно даже неспециалисту, и это никак не возраст 55—60 лет, с которого принято отсчитывать старость. После 20—25 лет все люди в большей или меньшей степени начинают подчиняться инволюционным процессам, которые неуклонно начинают превалировать над эволюционными и неминуемо ведут человека к духовной и физической смерти. А человеку-то ведь казалось, более того, ему все продолжают говорить, что всё впереди, — и он никак не подготовлен к тому, что после 20 лет с каждым годом всё труднее и труднее усваивать новую информацию, всё труднее и труднее что-то в крупном плане изменить в себе, и просто страшно признать, что вот то, что ты есть сейчас — это уже навсегда и лучше не будет.
В период становления навыков психической деятельности ребёнок обладает значительной пластичностью и значительными резервными возможностями.
В этот период можно существенно увеличить скорость и объём ассимилируемой информации, её уровень сложности, то есть ребёнка можно «развить». С практической точки зрения это не столько трудно, сколько опасно. Мы хорошо знаем, что рано или поздно начнётся регресс, шансы на то, что период развития у ребёнка окажется затянутым во времени, ничтожно малы. При этом чем выше взлет, тем круче будет перелом, тем острее и осознаннее будет кризис аутентичности, тем скорее мы можем ожидать самый широкий спектр различных психологических и патопсихологических девиаций. Родители, которые как бы ориентируют своего ребёнка на бесконечное развитие, учителя, которые ждут от подростка бесконечного совершенствования, напоминают мне авиадиспетчеров, которые отправляют в полёт самолёт, не думая о том, что ему суждено когда-нибудь приземлиться, и не научив лётчика выпускать шасси.
Только жизнь — не гуманный педагог, она быстро умеет «обламывать крылья».
В этом плане тот оптимистический педагогический настрой, который сформировался в обществе не без участия гуманистической психологии с её теориями «дурного» бесконечного личностного роста, вызывает у меня крайнюю настороженность. Именно в этих тенденциях, в подобном подходе к личности я вижу причину того, что в настоящее время главный кризис аутентичности, связанный с окончанием биологического созревания, протекает у многих людей в обострённой форме.
В этом отношении показательна недавно вышедшая монография Р.М. Грановской и Ю.С. Крижанской «Творчество и преодоление стереотипов». Авторы с самого начала указывают на резкое «оскудение творческого начала» в народе и связывают это явление с историческими процессами, происходящими в России в последние 70 лет. Болея душой за русский народ, авторы требуют «увеличить количество творчества» на душу населения. Для этих целей они предлагают использовать методы «специального обучения или воспитания». Желание благостное. Только авторы, похоже, забыли спросить население: желает ли оно увеличивать количество своего творчества, которое им собираются отпускать, как мыло или спички в старые добрые времена — «на душу населения».
Р.М. Грановская и Ю.С. Крижанская предъявляют неизвестно кому целый список своего недовольства существующим положением вещей.
«Мы всё более и более недовольны обществом, в котором живём, — заявляют они. — Мы недовольны растущей унификацией нашей частной — семейной и индивидуальной — жизни, вынужденно одинаковой одеждой, пищей, развлечениями, мыслями, стереотипами, явственной враждебностью общества к любой форме оригинальности или просто отличности от общепринятого».
Что значит «недовольны»? Недовольны — не унифицируйтесь. Кто это «мы»? Вечно страдающая русская интеллигенция, осеменённая мировой культурой, вечно чуть-чуть беременная вселенскими замыслами и с вечной слабостью родовой деятельности? Великий знаток русского народа и русской интеллигенции Н.А. Бердяев хорошо сказал:
«В русской интеллигенции рационализм сознания сочетается с исключительной эмоциональностью и с слабостью самоценной умственной жизни».
Как можно обвинять общество во враждебности к любой форме оригинальности, если само общество на том стоит, если само общество суть единство? Общество, если оно желает стабильного существования, вынуждено всеми силами поощрять конформизм и унитаризм.
Авторы «недовольны всепроникающей массовой культурой, вытесняющей культуру подлинную, несовместимой с какой бы то ни было духовностью и индивидуализмом в любых его проявлениях».
Стоит ли злобиться на массовую культуру, которая, исходя из определения, — явление массовое и на массы рассчитанное. Не нравится — выключите телевизор, радио, прекратите читать газеты — сходите в театр, почитайте Кафку, Музиля, Пруста, Джойса, Бродского, Пушкина, в конце концов, посмотрите Тарковского и Сокурова, Гринуэя и Бергмана, послушайте Шнитке. И не отравляйте жизнь окружающим — не мешайте им смотреть «Марианну» и «Санта-Барбару».
В Соединённых Штатах, между прочим, национальная святыня — отнюдь не Гарвард, а Музей футбольной славы, а ассоциация людей с высоким коэффициентом интеллекта «Менса» — чуть ли не тайное сообщество. Извечное желание русской интеллигенции (начиная от народников) «дотянуть» народ до своего уровня — не что иное, как утопия, ничего общего с поведением креативной личности не имеющая. Какое дело креативной личности до общества, которое её окружает?
Суть креативной личности — ярко выраженный индивидуализм, и, если вы так ратуете за него, будьте индивидуалистами до конца — признайте право окружающих самостоятельно распоряжаться собственной судьбой.
Не нужно всеобщей «креативизации», и нет смысла обвинять систему образования, «которая порождает конформистов и вдалбливает в головы стереотипы, формируя людей с «законченным» во всех смыслах образованием вместо того, чтобы воспитывать оригинальных мыслителей».
Уверенность, что всё зависит от воспитания и образования — следствие грубого отражательного понимания психической деятельности в каком-то примитивном локковском смысле. Можно подумать, что все креативные личности поголовно обучались в специальных, закрытых от остального народа, учебных заведениях. Нет — они учились в обычных школах, у обычных учителей, и никакая система образования не может воспрепятствовать реализации потенций человека, если они, конечно, имеются. Бродский окончил восемь классов обычной советской школы, после чего работал фрезеровщиком на «Арсенале» и санитаром в морге, и это ничуть не помешало ему стать Бродским.
Удивительно вообще начало разработки данной проблемы в нашей стране. Если бы это не было так смешно, это было бы грустно. Какой смысл заниматься развитием креативности у детей в стране, из которой креативные личности удирают, как в старом анекдоте — «хоть тушкой, хоть чучелом»? Причём тысячами. Причём никто в большинстве случаев об их креативности не беспокоился, и никого она (кроме Джорджа Сороса) не интересовала и не интересует.
Это Соединённые Штаты в начале и в конце Второй мировой войны в первую очередь вывезли весь интеллектуальный потенциал Германии — сначала еврейский, затем немецкий. Когда нам понадобилось создать атомную бомбу, где был её будущий отец? Правильно — в тюрьме. Куда отправили создателя водородной бомбы, после того как он выполнил свою миссию и стал позволять себе индивидуальные мысли и взгляды? Правильно — под присмотр психиатров и под домашний арест. Если вы считаете, что в настоящее время в нашей стране что-либо изменилось, вспомните, что было, когда Сахаров вышел на трибуну съезда.
Это Израиль ежегодно в Екатеринбурге проводит тестирование детей, после чего лучших за государственный счёт вместе с родителями вывозит к себе. Такие страны, как США и Израиль могут позволить сказать о себе, что им не хватает творческих личностей. России лучше бы не позориться.
Если наша страна и создаст уникальный метод по развитию креативности, правительства названных выше стран с радостью сократят свои расходы на образование — в глубокой уверенности на скорый приток свежих сил.
Даже гуманистические психологи и психотерапевты (что, конечно, для них крайне нехарактерно) иногда признают некоторые перегибы в этом направлении.
«Общество говорит его члену, что он свободен, независим, может строить свою жизнь в соответствии со своей свободной волей; «великая игра жизни» открыта для него, и он может получить то, что хочет, если он деятелен и энергичен. В действительности для большинства людей все эти возможности ограничены», — пишет В.Франкл.
«Перед тобой открыты все просторы», — внушается подростку и молодому человеку. «Ты всего можешь добиться, если приложишь усилия», — беззаботно и благодушно обманывают его. И наивный, доверчивый человечек набирает скорость и на парусах надежды врезается в рифы жизни. И чем быстрее скорость, тем сокрушительнее удар. Как писал Пёрлз: «Мечты юности становятся подобными ночному кошмару, отравляющему существование».
Не случайно все сказки заканчиваются описанием свадебного пира и фразой: «Стали они жить долго и счастливо». Потому что после этого ничего больше и не было. Принц становится королём, принцесса — королевой (или не становятся), потом все медленно стареют. Грустная картина. Не для сказок.
У Евгения Шварца есть совершенно замечательная сказка «Обыкновенное чудо». Волшебник превратил медвежонка в человека с условием, что, если тот когда-нибудь полюбит и поцелует принцессу, то снова превратится в медведя. Юноша влюбляется в прекрасную принцессу, целует её и… не превращается в медведя — в этом и заключается настоящее чудо. Юноша не превращается в медведя, который сидит у телевизора, пьёт пиво, читает газеты, ходит на выборы, и не занимается всей той ерундой, которую люди называют жизнью и от которой так тошнит, что и слов нет.
Но чудеса, к сожалению, случаются редко. Крайне редко личностное развитие человека не останавливается после двадцати лет. В большинстве случаев происходит постепенная остановка развития — и незаметно осознаёшь, что ещё вчера ты только собирался на ярмарку, а сегодня ты уже едешь с ярмарки.
В этом процессе нет не только ничего патологического, но даже болезненного. Более того: процессы регресса и инволюции сами по себе доставляют массу удовольствия, и об этом мы ещё будем иметь возможность поговорить ниже. В норме к 25 годам зрелая личность достигает уже того или иного социального положения, она достаточно хорошо интегрируется в систему социальных отношений, занимая в оптимальном случае то место, которое максимально соответствует имеющемуся потенциалу. Человек замечает, что он не достиг всего того, о чём мечталось, однако и то, что имеется, не лишено приятности. Он чувствует свою нужность, социальную полезность, он становится одним из многих, полноценным членом общества, первоначальное чувство недовольства начинает проходить, с каждым днём он открывает преимущества спокойной жизни, в которой необходимо прилагать минимальное количество усилий, чтобы не выпасть из общей упряжки. Делай своё дело, не высовывайся, и, если ты не совсем дурак, карьера будет идти сама собой. Порывы юности воспринимаются со смехом или улыбкой. Возникает чувство самоуважения. И общество предлагает массу готовых вариантов, чтобы повысить это самоуважение: от орденов и медалей до званий и титулов.
Из разной содержательной наполненности одной и той же личности на разных этапах её личностного онтогенеза непосредственно вытекает известный конфликт поколений, конфликт между миром креативных детей и подростков и миром взрослых. Разное мировоззрение, разные ценности, разнонаправленное в векторном отношении бытие приводит к естественному антагонизму, который из поколения в поколение находит своё естественное же разрешение в том, что девяносто пять процентов бунтующих подростков (нигилистов и анархистов) незаметно в процессе онтогенеза превращаются в примитивных личностей и вливаются в примитивный мир. Они незаметно для себя усваивают и принимают ценности этого мира и стыдливо вспоминают свои «незрелые» юношеские порывы и фантазии.
Какие нормальные юноша и/или девушка интересуются материальным положением или социальным статусом своей любимой или любимого? И какие нормальные молодой мужчина и/или молодая женщина не интересуются этим? Какие нормальные юноша и/или девушка интересуются социальной престижностью или материальной выгодностью своей будущей профессии? И какие нормальные молодой мужчина и/или молодая женщина не выразят в последующем в душе благодарность своим дальновидным родителям, которым удалось заставить своего ребёнка выбрать именно ту профессию, которая при минимуме затрат принесёт социальные плоды?
Вся проблема онтогенеза личности заключена в том, что после достижения биологической зрелости внутренний, ядерный потенциал личности начинает неизбежно и необратимо, как шагреневая кожа, уменьшаться, съёживаться, сужаться и морщиться. Живая душа начинает постепенно умирать; и единственный способ не замедлить, но спрятать этот страшный необратимый процесс от себя и от других — это забота о возведении декораций, укреплении фасада личности.
Деньги, имущество, власть, связи, титулы и звания, национальная гордость и патриотизм, вера и мораль — вот вечные способы иллюзорного увеличения масштаба собственной личности не только в глазах окружающих, но и в своих собственных.
В тех случаях, когда мы видим перед собой личность, глубоко внутренне заинтересованную и озабоченную вышеперечисленными проблемами, мы видим умирающую личность.
Эти средства могут быть иногда востребованы совместно, иногда одно из них вытесняет другие. Так, вера может вытеснять любовь к деньгам или наоборот; модная одежда — национальную гордость или наоборот; патриотизм может стать выше денег и имущества или наоборот — не суть важно.
Цель всех этих средств одна — прикрыть, замаскировать, спрятать, защитить от внешнего взора свою всё уменьшающуюся внутреннюю сущность и ценность.
На фоне укрепления социального статуса, профессионального и карьерного роста, расширения связей, увеличения дохода и благосостояния, социальной значимости собственной личности незаметно идёт постепенный, но необратимый процесс распада личности, её медленная инволюция. И возникает тот самый парадокс человеческого существования, на который в своё время обращал внимание Ананьев, говоря, что во многих случаях те или иные формы человеческого существования прекращаются ещё при жизни человека как индивида, т.е. их умирание наступает раньше, чем физическое одряхление от старости. Он рассматривал всё это как нормальное состояние, связанное с «сужением объёма личностных свойств».
Несмотря на значительные возможности в развитии отдельных систем и функций после достижения зрелости, общее количество энергии индивида существенно снижается, что приводит к более или менее заметному изменению личностного бытия. Происходит смена энергетического вектора, неосознаваемая в норме и осознаваемая в патологии.
Земная жизнь пройдена до середины, сборы рюкзака для примитивной личности окончены. Всё, что можно было взять с собой — взято, всё, что можно было познать — познано, всё, что можно было выучить — выучено. Нормальный человек отправляется в путешествие по жизни, которое кажется ему продвижением по лестнице вверх, хотя на самом деле он с каждым шагом движется вниз.
Нравственность, религиозность и духовность — три колокола, звонящие по умершей личности.
Р. Музиль писал, что «мало кто в середине жизни помнит, как, собственно, они пришли к самим себе, к своим радостям, к своему мировоззрению, к своей жене, к своему характеру, но у них есть чувство, что теперь изменится уже мало что… В юности жизнь ещё лежала перед ними, как неистощимое утро, полная, куда ни взгляни, возможностей и пустоты, а уже в полдень вдруг появилось нечто, смеющее притязать на то, чтобы быть отныне их жизнью, и в целом это так же удивительно, как если к тебе вдруг явится человек, с которым ты двадцать лет переписывался, не зная его, и ты представлял себе его совершенно иначе. Но куда более странно то, что большинство людей этого вовсе не замечает… Нечто обошлось с ними, как липучка с мухой, зацепило волосок, задержало в движении и постепенно обволокло, похоронило под толстой плёнкой, которая соответствует их первоначальной форме лишь отдалённо. И лишь смутно вспоминают они уже юность, когда в них было что-то вроде силы противодействия. Эта другая сила копошится и ерепенится, она никак не хочет угомониться и вызывает бурю бесцельных попыток бегства; насмешливость юности, её бунт против существующего, готовность юности ко всему, что героично, к самопожертвованию и преступлению, её пылкая серьёзность и её непостоянство — всё это ничто иное, как её попытка бегства».
Большинство людей и после 30 лет ещё предаются иллюзии, что они могут завтра проснуться и что-то изменить в своей жизни, что они ещё молоды и у них всё впереди, что предыдущая жизнь — это только увертюра к большой и многоактной опере. Это не так, и вся социальная система устроена таким образом, что, даже если примитивная личность и осознает в определённый момент, что её обманули, общество всей своей махиной засосёт и поглотит её последний вопль.
«Одна и та же идиотская участь постигает миллионы и миллионы. Существование как таковое, монотонное само по себе, сведено централизованным Государством к однообразной суровости» — писал по этому поводу И.Бродский.
Феномен остановки и инволюции человеческой личности настолько заметен, настолько ярок, что у многих людей возникает иллюзия, что имеет место какое-то внешнее вмешательство. Весь процесс остановки рассматривается как ошибка, как артефакт. И никакие факты, указывающие на тотальность этого процесса, не помогают большинству учёных отказаться от соблазнительной идеи вмешаться в этот нормальный ход вещей и не дать заснуть «засыпающей красавице».
Антуан де Сент-Экзюпери описывает в «Планете людей» семью в вагоне третьего класса: мать кормит младенца, отец — «как ком глины». Автор задаётся вопросом:
«Почему же так изуродована благородная глина, из которой вылеплен человек?» «Дело не в нищете, грязи и уродстве, — рассуждает он. — Они когда-то встретились впервые, и наверно, он ей улыбнулся и, наверно, после работы принес ей цветы. Быть может, застенчивый и неловкий, он боялся, что над ним посмеются. А ей, уверенной в своём обаянии, из чисто женского кокетства, быть может, приятно было его помучить. И он, превратившийся нынче в машину, только и способную ковать и копать, томился тревогой, от которой сладко сжималось сердце. Непостижимо, как же они оба превратились в комья грязи? Под какой страшный пресс они попали? Что их так исковеркало?»
Он смотрит на малыша, примостившегося между отцом и матерью.
«Я смотрел на гладкий лоб, на пухлые нежные губы и думал: вот лицо музыканта, вот маленький Моцарт, он весь — обещание! Он совсем как маленький принц из сказки, ему бы расти, согретому неусыпной разумной заботой, и он бы оправдал самые смелые надежды! Когда в саду, после долгих поисков, выведут наконец новую розу, все садовники приходят в волнение. Розу отделяют от других, о ней неусыпно заботятся, холят её и лелеют. Но люди растут без садовника. Маленький Моцарт, как и все, попадёт под тот же чудовищный пресс. И станет наслаждаться гнусной музыкой низкопробных кабаков. Моцарт обречён».
Он возвращается в свой вагон и говорит себе, что эти люди не страдают от своей судьбы. И сам он не столько сострадает и жалеет, сколько мучается заботой садовника:
«Меня мучит не вид нищеты, в конце концов, люди свыкаются с нищетой, как свыкаются с бездельем. На востоке многие поколения живут в грязи и отнюдь не чувствуют себя несчастными. Того, что меня мучит, не излечить бесплатным супом для бедняков. Мучительно не уродство этой бесформенной, измятой человеческой глины. Но в каждом из этих людей, быть может, убит Моцарт».
Мучительно созерцать процесс умирания человеческой личности, но, если, как Экзюпери, верить в то, что любовью и заботой этот процесс можно приостановить, становится легче. Но это только вера — и больше ничего. Ещё более мучительно осознавать, что процесс этот необратим и никакие заботы садовника не могут что-либо изменить в существующем порядке вещей. Никто не убивал Моцарта — Моцарт уснул. Прекрасная маленькая бабочка превратилась в толстую прожорливую гусеницу, уютно устроившуюся на своём вкусном зелёном листе, и всё, что её интересует, — это ещё более сочный лист, на который она стремится переползти, безжалостно спихивая менее проворных собратьев.
В знаменитом романе Гёте «Страдания юного Вертера» такой тип личности замечательно выведен в лице Альбера — мужа Шарлотты. Альбер — человек «милый», «славный», «вполне заслуживающий уважения», он честен, порядочен, ограничен рамками общих ценностей, его больше беспокоит соответствие своего поведения общепринятым нормам, чем собственным желаниям и побуждениям. Да их и не возникает у него. Вся жизнь его расписана и запланирована на много лет вперёд — служба, женитьба на Лотте, — и он не понимает совершенно противоположного ему по складу характера Вертера. Он не одобряет индивидуализм Вертера, так как Альбера в каждом поступке интересует именно то, как на это посмотрят окружающие. Он идентичен и аутентичен.
Однажды Вертер перед прогулкой зашёл к Альберу, и на глаза ему попались висящие на стене пистолеты. Шутки ради он внезапным движением прижимает дуло пистолета ко лбу.
«Фу! К чему это? Даже представить себе не могу, как это человек способен дойти до такого безумия, чтобы застрелиться; сама мысль противна мне», — возмущается Альбер.
«Странный вы народ, — отвечает ему Вертер. — Для всего у вас готовы определения: то безумно, то умно, это хорошо, то плохо! А какой во всём этом смысл? Разве вы вникли во внутренние причины данного поступка? Можете вы с точностью проследить ход событий, которые привели, должны были привести к нему? Если бы взяли на себя этот труд, ваши суждения были бы не так опрометчивы».
Но примитивная личность и общество примитивных личностей как раньше, так и сейчас редко даёт себе труд вникнуть во внутренние психологические переживания конкретного человека. Экономически выгоднее и проще мыслить и действовать по раз и навсегда выработанным правилам, — не задумываясь, какой в этом смысл. Это не должно звучать как осуждение или упрёк: общество не может функционировать иначе.
Кто из двух героев романа — Вертер или Альбер — в конечном счёте покончил с собой, я думаю, говорить нет необходимости. Этот роман следовало бы перечитать всем тем гуманистическим психологам и поборникам развивающего обучения, которые с утра до вечера мечтают из всех Альберов вырастить Вертеров.
В одном из самых лучших и самых малоизвестных романов двадцатого века «Человек без свойств» Роберт Музиль блестяще описывает кризис аутентичности, связанный с остановкой личностного развития, и процесс его преодоления на примере Вальтера — друга главного героя, Ульриха.
Кризис аутентичности Вальтера усугубляется не только тем, что он изначально имеет большие задатки, то есть кривая его личностного развития изначально круто уходит вверх (чем выше потенциал личности, тем тяжелее переживается кризис аутентичности), но и тем, что рядом с ним находится его жена, которая этот кризис замечает, то есть видит остановку в развитии Вальтера, но не собирается с ней мириться.
Ульрих и Вальтер были друзьями юности, вместе мечтали и восхищались красотой и бесконечными возможностями мира, но, достигнув зрелости, Ульрих остается «человеком без свойств», «человеком возможностей», идущим «рядом с жизнью», а Вальтер испытывает мучительные переживания из-за невозможности осуществить свои творческие замыслы и планы. Причём ситуация такова, что у него нет формальной возможности обвинить кого-либо в препятствии реализовать собственные потенции.
Вальтеру тридцать пять лет. В молодости он увлекался живописью, музыкой и поэзией. Находились специалисты, которые прочили Вальтеру великое будущее, и он, как это часто бывает, сам привык мыслить себя в перспективе своего великого будущего. Несмотря на сомнения родственников жены, которые здраво полагали, что у молодого человека нет воли, если он не может заниматься определённым делом, приносящим деньги, Вальтер в конце концов обосновался в своём доме вместе с женой и тихой должностью, не требующей много времени и усилий, но и не приносящей существенного дохода.
Казалось бы, он создал себе все условия для творчества. «Но когда не осталось ничего, что нужно было преодолевать, случилось неожиданное: произведений, которые так долго сулило величие его помыслов, не последовало». Вальтер в ужасе осознаёт, что он не может больше работать, каждое утро с надеждой на вдохновение он запирается на несколько часов дома, совершает многочасовые прогулки с закрытым мольбертом, но то немногое, что он создаёт в эти часы, он никому не показывает и уничтожает. Достаточно было установить холст на мольберте или положить чистый лист бумаги на стол — и уже возникало ощущение ужасной пропажи в душе. Замученный безнадёжностью во всех своих решениях и побуждениях, он страдал от горькой грусти, и его неспособность превратилась в боль, которая часто, как носовое кровотечение, возникала у него где-то во лбу, едва он решался за что-то взяться.
Это — кризис аутентичности.
Во время своего прихода Ульрих беседует с Клариссой (женой Вальтера).
«Ты, значит, не веришь, — говорит она Ульриху, — что он ещё чего-то достигнет».
«Нет второго такого примера неизбежности, как тот, что являет собой способный молодой человек, когда он суживается в обыкновенного старого человека — не от какого-то удара судьбы, а только от усыхания, заранее ему предназначенного!» — отвечает ей Ульрих.
Музиль не только блестяще описывает сущность кризиса аутентичности (настоящий писатель для психолога — всё равно что микроскоп для гистолога), но и показывает, как личность защищает себя от, казалось бы, неминуемого в этой ситуации осознания.
Взгляды Вальтера на глазах меняются. Он начинает «подводить черту»: в музыке, например, после Баха, в литературе — после Штифнера, в живописи — после Энгра, — и объявляет всё последующее вычурным, упадническим, утрированным и вырождающимся; мало того, он с каждым разом всё запальчивей утверждает, что в такое отравленное в своих духовных корнях время, как нынешнее, чистый талант (к которому он продолжает относить себя) «должен вообще воздерживаться от творчества». И всё чаще из его комнаты раздаются звуки Вагнера — музыки, которую он в прежние годы учил свою жену презирать как образец мещанства, но перед которой теперь сам не смог устоять.
Кларисса молода и всеми силами сопротивляется личностному регрессу Вальтера. Она, считающая гениальность вопросом воли, с пятнадцати лет мечтала выйти замуж за гения и не разрешает Вальтеру не быть гением: «увидев его несостоятельность, она стала бешено сопротивляться. Как раз когда Вальтеру необходимо было человеческое тепло, когда Вальтера мучило его бессилие, она не поддавалась ему…»
Мудрый Ульрих, как подозревает Кларисса, всё понимает, но она не хочет признать его жестокую правоту и предпочитает продолжать мучить Вальтера. «Причину таинственных изменений, которые, пожирая гений, составляют болезнь», Ульрих считал самой обыкновенной глупостью. Совсем не в обидном смысле.
«В глупости, — размышляет он, — есть что-то необыкновенно располагающее и естественное и чистейшая банальность всегда человечнее, чем новое открытие, чем Ван Гог, Шекспир или Гетё».
Тем временем состояние Вальтера (не без помощи Клариссы) всё ухудшалось, пока он не нашёл великолепной защиты в мысли, которой он никогда прежде не ценил. Мысль эта заключалась в том, что Европа, где он был вынужден жить, безнадёжно выродилась.
«Многим людям, — пишет Музиль, — явно проще верить в какую-то тайну, отчего они и провозглашают неудержимый упадок чего-то, что не поддаётся точному определению и обладает торжественной расплывчатостью. Да и совершенно, в сущности, безразлично, что это — раса, сырая растительная пища или душа: как при всяком здоровом пессимизме, тут важно найти что-то неизбежное, за что можно ухватиться. И хотя Вальтер в лучшие годы способен был смеяться над такими теориями, он тоже, начав прибегать к ним, быстро увидел великие их преимущества. Если дотоле был неспособен к работе и плохо чувствовал себя он, то теперь неспособно к ней было время, а он был здоров. Его ни к чему не приведшая жизнь нашла вдруг потрясающее объяснение, оправдание в эпохальном масштабе, его достойное».
Одна Кларисса мучила его. Как только Вальтер начинал патетическим тоном сетовать, что «нынче всё развалилось», Кларисса «тоном заботливой мамочки» с издёвкой спрашивала:
«— Хочешь пива?
— Пива? Почему бы нет? Я ведь не прочь… Немножко погулять, перекинуться словом с соседями и спокойно закончить день. Это и есть человеческая жизнь…»
Да, это и есть нормальная человеческая жизнь.
Человеческая жизнь – это процесс естественного хронического умирания. Качественная жизнь – процесс качественного умирания.
В жизни, конечно, есть место развитию, более того, вся жизнь по своей сути – развитие, но это развитие – в буквальном смысле этого слова развитие и есть. Развитие в том смысле, что нечто изначально с–витое начинает раз–виваться, подобно пружине в механических часах. Тогда совершенно понятным становится, что процесс развития — это переход от большей энергии к меньшей, это процесс не прогрессивный, а регрессивный, не эволюционный, а инволюционный и т.д. Конечно, в ходе так понимаемого развития какие-то процессы могут претерпевать восходяще-нисходящие тенденции, то есть сначала нарастать, а затем спадать, но в основе всегда лежит развитие. Грубый пример: заведите любую детскую машинку и поставьте ее на пол. Скорость ее сначала начнет резко увеличиваться за счет развивающейся пружины, а затем постепенно уменьшаться, пока не снизится до нуля. Похожие процессы мы можем наблюдать на разных уровнях человеческого индивидуального и личностного бытия.
К сожалению, мы не можем использовать этот термин в тифоаналитической теории, так как развитие понимается большинством ученых в смысле движения вперед, движения снизу–вверх, как прогресс, улучшение, усложнение и т.д. Точно так же понимаются и все производные от развития термины: «развивающее обучение», «развивающаяся личность». Если попытаться задуматься над термином «развивающее обучение» в нашем понимании, то мы сразу же создадим себе столько проблем, что надолго увязнем в них.
Очень интересно только при этом: чем это таким занимаются педагоги, стараясь как можно скорее развить ребенка и подростка? Если вся жизнь есть процесс постепенного развития от зачатия до смерти, то к чему приближает ребенка педагог, стремящийся всеми силами его развить? Если я попытаюсь повиснуть на цепочке домашних ходиков этого самого педагога для ускорения их хода и цепочка, естественно, оборвется, я не думаю, что он будет при этом долго удивляться тем причинам, по которым это произошло. Я думаю, что мне после этого нужно будет поскорее «уносить ноги» из дома этого педагога. Но те же самые педагоги искренне удивляются: почему это подростковые самоубийства вышли на третье место среди причин смертности у детей и подростков.
«Резко возросшее число завершенных суицидов в подростковом возрасте, и особенно среди детей до 12 лет, зависят от многочисленных социокультурных условий, которые в деталях на сегодняшний день еще не выяснены»– искренне удивляются они.
Очень знакомые слова. «Ой, сломалось» и «Сами не знаем, как это получилось», — так всегда говорят мне мои дочери, когда безвозвратно разберут какую-нибудь игрушку или агрегат. И глаза при этом такие честные-честные.
Не нужно пытаться повиснуть на гирьке мирно тикающих ходиков чужой жизни с целью заставить их идти быстрее. Не нужно делать это по отношению к себе, к своим детям и к своим близким, не нужно и другим позволять это делать. Нужно их просто по рукам бить за это. Нам, собственно говоря, некуда спешить. Я врач, и на моих глазах умирало много людей. Я не видел за всю свою жизнь ни одного человека, который бы в последние минуты жизни испытывал удовлетворение от качества своего образования, красного диплома, защищенной диссертации и профессорского звания. Умирающие в последние часы и минуты своей жизни хотели бы видеть рядом с собой людей, к которым они были привязаны, и людей, которые были привязаны к ним. Их они вспоминают перед смертью. И люди, жизнь которых была наполнена такими связями, испытывают чувство глубокого удовлетворения от жизни и не боятся смерти. Как говорила перед смертью моя маловерующая бабушка, у которой было двое детей, трое внуков и семь правнуков, в каждого из которых она вложила часть своей души:
«Если Господь там есть, нам будет о чем поговорить, и этот разговор будет о моей жизни, которой мне нечего стыдиться, а не о моей вере».
Те же, кто не уважает сам себя и кого не уважают собственные дети, жаждут своей смерти, и чем больше они ее жаждут, тем больше боятся.
Определение понятий
Понятийная система (тезаурус) – важнейший компонент любого научного исследования. Карл Густав Юнг говорил, что «мы обязательно должны определять, что имеем в виду, когда употребляем тот или иной термин, иначе мы будем говорить на непонятном языке; и психология особенно страдает от этого».
Страдает от этого и психология с теорией влечений в целом, и теория влечения к смерти в частности. Теория влечения к смерти страдает так, что многие авторы испытывают желание как можно скорее ее похоронить, очевидно, чтобы не видеть, как она мучается. Складывается впечатление, что многие ученые «обиделись» не столько на саму теорию влечения к смерти, сколько на ее терминологическое обозначение. Эмоционально не воспринимается не суть теории, а слова. Смерть и все, что с ней связано, включая тезаурус, в нашей культуре настолько табуировано, что, к сожалению, многие люди, включая специалистов, реагируют на слова, имеющие отношение к теме смерти, не лучше, чем некоторые герои Джоан Роулинг реагируют на слово «Волдеморт». По понятным соображениям, для любой науки подход по принципу «сами знаете о чем идет речь» малопригоден. И хотя я не ставлю здесь задачу дать развернутый обзор истории и современной интерпретации психоаналитических понятий (это невозможно и не нужно в рамках нашего исследования), определить основные понятия, которыми мы будем пользоваться, считаю необходимым.
Создавая теорию первичных влечений, Фрейд пользовался в основном понятием «Trieb». От этого же корня происходят некоторые слова и в русском языке: «требование», церковнославянские «требы» и «требник», возможно, «труба» и «утроба». Толковый словарь русского языка определяет влечение как «сильную склонность к чему-либо», что близко к определению Фрейда. Такое же значение дает и психоаналитический словарь Лапланша и Понталиса. Влечение (франц. «pulsion») – это «динамический процесс, при котором некоторое давление (энергетический заряд, движущая сила) подталкивает организм к некоторой цели». Влечение, понимаемое как сила, имеющая некоторое направление и цель, близко к математическому понятию вектора. Если мы представим человеческую жизнь как вектор с началом и неким направлением, сопоставим этот вектор с понятием влечения, то легко получим ответ на вопрос, влечению к чему будет соответствовать этот вектор. Этот вектор будет соответствовать влечению к смерти.
Как известно, в броуновском движении человеческих влечений Фрейд постарался вычленить те основные, которые могли бы определять глубинную динамику психических процессов, и сформулировал последовательно две дуалистические теории. В каждой из них постулировал два антагонистических влечения, в отношении которых пользовался такими словами, как «противоположно направленные» и «противостоящие». Но в отношении этих же «противоположно направленных» влечений он часто пользовался такими словами как «переплетение» и «смешивание», что с точки зрения векторной теории влечений принципиально невозможно. Два противоположно направленных вектора, равно как и влечения, не могут переплетаться друг с другом. Они могут лишь взаимно нейтрализовать или уравновешивать друг друга.
Фрейд никогда не чувствовал полной удовлетворенности от созданных им самим теорий влечений — ни от первой, ни от второй, и эта неудовлетворенность нашла свое отражение в понятийном тезаурусе. В первой теории влечений он, например, сомневался в уместности приложения одного и того же понятия «Trieb» к обеим группам влечений и неоднократно называл тенденцию к самосохранению не влечением («Trieb»), а потребностью («Bedurfnis»). Отношение между понятиями «потребность» и «влечение» в психологии примерно такое же, как отношение между понятиями «напряжение» и «сила» в физике. Чем выше потребность, тем сильнее влечение.
На то, что Фрейд старался терминологически отделить влечения, которые он относил к области сексуальности, от тех, которые он относил к самосохранению, исследователи уже обращали внимание. Гаддини замечает, что в истории болезни Шребера и работе о нарциссизме для отграничения влечений Я от сексуальных влечений Фрейд вводит понятие «интерес» (interest) Оно не получило развития в работах Фрейда, хотя в 16-й лекции «Введения в психоанализ» он пишет: «Мы обозначили катексис энергии, которую «Я» направляет на объекты своих сексуальных желаний как «либидо»; все остальное, что посылается наружу инстинктами самосохранения, мы обозначили термином «интерес». Гаддини уверен, что «поскольку термины для Фрейда никогда не были просто словами», термин «интерес» не был просто плеоназмом. Он отражает неудовлетворенность Фрейда теоретическим состоянием дуалистической теории влечений.
Помимо терминологических трудностей у самого Фрейда, достаточно большие проблемы возникли при переводе оригинального тезауруса Фрейда на друге языки. В английском языке немецкому понятию Trieb соответствуют сразу два понятия: instinkt и drive. Редактор перевода работ Фрейда на английский язык Джеймс Стрэчи предположил, что именно английское понятие instinct наиболее адекватно немецкому понятию Trieb. Для такой точки зрения, несмотря на дальнейшую критику в адрес Стрэчи, есть основания. Буквальный перевод слова «инстинкт» с латинского означает «внутреннее побуждение», что достаточно точно соответствует смыслу, который Фрейд вкладывал в понятие «влечение». Более того, и сам Фрейд не возражал против того, чтобы Trieb переводилось на английский язык именно как instinct, а не drive.
Однако другие англоязычные аналитики не всегда точно придерживались этой трактовки. Так, например, составитель «Критического словаря психоанализа» Чарльз Райкрофт рассматривает инстинкт традиционно – как «врожденное, биологически детерминированное побуждение к действию» и далее пытается в этих рамках описать теорию влечений Фрейда, приписывая инстинкту источник, энергию, цель и объект. Он принципиально не видит пользы в попытке выявить смысловые различия между влечением и инстинктом, однако пользуется преимущественно понятием «инстинкт» и методично критикует Фрейда за его диалектизм, дуализм и невнимание к остальным инстинктам, которых сам Райкрофт насчитывает семь. Незаметно для себя Райкрофт соскальзывает с фрейдовского понимания влечений как базовых первичных побуждений к действию на традиционное понимание инстинкта как совокупности наследственно предопределенных целесообразных действий, коих на самом деле можно насчитать много больше двух, и с этих позиций совершенно безосновательно критикует Фрейда.
Подобные трактовки заставляют некоторых аналитиков рассматривать выбор понятия «instinct» в качестве английского эквивалента «Trieb» как серьезную проблему психоаналитической и психологической литературы, порождающую «путаницу между фрейдовской теорией влечений и психологическими концепциями инстинкта у животных… приводя к утрате оригинального момента фрейдовской концепции, связанного с утверждением относительной неопределенности побуждающей силы, случайности объекта, а также изменчивости целей влечения».
Традиционно в биологии со времен Дарвина принято понимать под инстинктом не столько побуждение к действию, сколько механизм действия. Поэтому использование понятия «инстинкт» в рамках психоаналитической теории влечений не столько невозможно, сколько неоднозначно: каждому автору, использующему понятие «инстинкт», всегда придется оговаривать, какое из двух возможных значений он имеет в виду. Мне привычно пользоваться традиционным определением инстинкта как унаследованного, жесткого, не меняющегося от индивида к индивиду паттерна поведения, присущего определенному виду животных. Подобными врожденными паттернами поведения обладает и человек. Таков, например, классический укореняющий паттерн поведения, описанный у новорожденных Рене Шпицем. Прикосновение к лицу новорожденного младенца приводит к быстрому вращению головой из стороны в сторону с полуоткрытым ртом до тех пор, пока рот не наткнется на сосок и губы его не ухватят. В этот момент движения головы прекращаются и начинается сосание — еще один врожденный инстинктивный паттерн. Таков инстинкт дыхания, глотания, мигания, мочеиспускания, дефекации и десятки других генетически детерминированных паттернов поведения.
Разумеется, такое понятие инстинкта относится более к сфере интересов биологии и этологии, нежели психологии, но это не означает, что психология, по мнению некоторых авторов, должна «отказаться от употребления понятия инстинкта как научного термина». Если, например, Холт считает, что инстинкт как метапсихологическое понятие мертв и его необходимо заменить понятием «желание» (wish), то это может быть верным, если иметь в виду только метапсихологическую теорию Фрейда. Но если иметь в виду метапсихологическую теорию, контактирующую со смежными науками (биологией, зоологией, этологией, зоопсихологией), то понятие «инстинкт» еще долго не утратит для нас своей коммуникативной ценности. Уверен, что многие этологи, исследующие инстинктивное поведение животных, комплексы фиксированных действий, знаковые стимулы (релизеры и ключевые сигналы), импринтинг и условно-рефлекторное поведение, были бы крайне удивлены, узнав, что с точки зрения отдельных психологов понятие «инстинкт» мертво. Думаю, что для их «биологического уха» так же странно было слышать на протяжении всего XX столетия такие словосочетания, как «инстинкт жизни» или «инстинкт смерти». Одни лишь эти неверно переведенные и неверно использованные словосочетания могут побудить их сгоряча признать вслед за словосочетаниями и сами теории «чуждыми биологии… не только ненужными, но и неверными». Специалист в области эмоций Кэрролл Изард так и пишет: «Фрейд в свое время рассуждал об инстинктах жизни и смерти, но очень немногие из ученых, специализирующихся на исследовании поведения человека, согласятся с его концепцией». И правильно сделают. Но лишь в том случае, если их побуждать к тому, чтобы рассматривать влечение или драйв к смерти именно как инстинкт.
Но, поскольку основу фрейдовской теории влечений составляют не инстинкты как совокупность сложных врожденных реакций (актов поведения) организма, возникающие в ответ на внешние или внутренние раздражения, а постулирование побуждающей силы влечений к различным моделям поведения и различным объектам, помогающим достижению цели влечения, то, я думаю, удобнее использовать понятие «влечение» для перевода немецкого понятия «Trieb» на русский язык и присоединяюсь к тем англоязычным авторам, которые считают, что английское понятие «drive» — более адекватное для перевода на английский.
В некоторых переводах Фрейда на русский язык в качестве аналога немецкого понятия «Trieb» используется русское понятие «позыв», что с нашей точки зрения не совсем правильно, тем более, что сами переводчики внутри текста в скобках пишут понятие «влечение». Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой указывает, что использование понятия «позыв» в смысле «желания» или «влечения» теоретически возможно, но оно устарело, и современное значение слова «позыв» в русском языке больше соответствует ощущению конкретной физиологической потребности (позыв на рвоту или мочеиспускание).
Если мы обратимся к фундаментальной отечественной психологии, то увидим, что она обладает еще одним достаточно точным аналогом фрейдовского понятия «Trieb» - «динамическая направленная тенденция», которая подобно влечению Фрейда обладает и напряжением, и направленностью, и предметным содержанием (опредмечивается). Сергей Рубинштейн с позиций динамической направленной тенденции даже критиковал теорию влечений Фрейда за ее неполноту. Для Рубинштейна влечение — лишь начальный этап отражения органической потребности. «По мере того, как осознается служащий для удовлетворения потребности предмет, на который направляется влечение, а не только ощущается то органическое состояние, из которого оно исходит, влечение необходимо переходит в желание – новую форму проявления потребности».
Понятие «желание» представляет для нас большую ценность, поскольку отличается от понятия «влечение» именно степенью осознанности. Под «желанием» далее мы будем понимать осознанное влечение к чему-либо, например желание смерти. Рассматривая далее проявления патологической авитальной активности, мы будем говорить о таких пресуицидальных формах, как «желание умереть» и «нежелание жить» как осознанных проявлениях влечения к смерти. Любой человек имеет влечение к смерти, но нужно иметь очень некачественную жизнь, чтобы это влечение к смерти настолько усилилось, что смогло преодолеть блокирующие системы хронификации жизни (страх и боль) и проникнуть в сознание в форме желания смерти.
Разграничив влечения, инстинкты и желания, далее мы должны определиться с некоторыми фундаментальными понятиями, которые настолько традиционны, что, даже наполнив их здесь новым содержанием, мы не имеем надежды на их адекватное использование в ближайшее время.
Одним из таких фундаментальных понятий для нас, несомненно, является понятие «жизнь» и его производные — «жизненная активность» и «влечение к жизни».
Определение жизни как одной из форм существования материи, закономерно возникающей при определенных условиях в процессе ее развития, возражений не вызывает, но уже понятие «жизненная активность» и уж тем более понятие «влечение к жизни» являются для нас крайне двусмысленными. Акт (лат. actus) со времен Аристотеля понимается как деятельное осуществление чего-либо. В психологии под активностью (в противовес реактивности) понимают собственную динамику и деятельность живых существ. Если мы понимаем жизнь как активность и движение к смерти, возникающее за счет мотивационной силы влечения к смерти с одной стороны и активности внутренних систем хронификации жизни с другой стороны, то понятие «жизненная активность» становится крайне двусмысленным. Поскольку, если речь идет о живом существе, понятие «жизненная активность» может обозначать лишь внутреннюю активность систем хронификации жизни — систем, которые традиционно принято называть инстинктами самосохранения и в отношении которых Фрейд, определив их как инстинкты Я, не оставил четкого определения.
Найти определение инстинкта самосохранения в словарях по психологии и психоанализу также трудно. В критическом словаре психоанализа Райкрофта самосохранение определяется как Эго-инстинкты, а Эго-инстинкты — как самосохранение. Шпильрейн определяет инстинкт самосохранения как «статичный» инстинкт, защищающий уже существующего индивида от чуждых влияний, в отличие от «динамического» инстинкта сохранения вида, стремящегося к изменению и воскрешению индивида в новой форме.
Мы будем рассматривать самосохранение как врожденную систему хронификации жизни. Функционирование этой системы не позволяет живому организму максимально быстро приблизиться к конечному состоянию — смерти, заставляя каждый живой организм проделать свой собственный путь к смерти. Такое понимание инстинкта самосохранения близко к позиции Фрейда, когда он рассматривал его как фактор, обеспечивающий «окольный путь» каждого организма к смерти, но мы, в отличие от Фрейда, не будем спешить относить систему хронификации жизни ни к влечениям к смерти, ни к влечениям к жизни, равно как и противопоставлять его им. Более того, мы вообще не будем относить эту систему к категории влечений. Деятельность этой системы управляется и мотивируется влечением к смерти, подобно якорно-маятниковой системе в часах, которая действует, как и весь механизм часов, за счет тяжести гири, или напряжения пружины. При этом функция этой системы заключается в буквальном смысле слова не в поддержании и не в сохранении жизни, а в хронификации этого процесса. Сама система хронификации жизни не обладает ни внутренней энергией, ни внутренней мотивирующей силой. Она ограничивает возможности реализации влечения к смерти лишь теми путями, которые в форме инстинктов заложены в нас для созревания, репродукции и последующего патронажа. Деятельность системы хронификации жизни целиком и полностью зависит от энергии влечения к смерти и собственной энергией не обладает.
Что касается понятия «влечение к жизни», то если рассматривать влечение как «давление, подталкивающее организм к некоторой цели», то влечение к жизни не существует как таковое: если жизнь — процесс хронического умирания, то обладает ли человек самостоятельным влечением к хроническому умиранию? С нашей точки зрения — нет. Человек обладает влечением к смерти, но чаще всего не может его моментально удовлетворить в связи с тормозящим действием системы хронификации жизни. Так устроены все простые и сложные биологические системы. Человек — единственная биологическая система, которая может сознательно повредить или преодолеть системы хронификации жизни и достичь своей смерти максимально быстро.
Таким образом, ни понятие «влечение к жизни», ни понятие «инстинкт жизни» не являются с научной точки зрения верными. Человек как носитель психики, равно как и его организм, не обладают влечением к жизни, а неорганическая материя, поскольку она не обладает ни психикой, ни организмом, не может обладать и влечением к жизни.
Неорганическая материя обладает тенденцией к жизни, и при определенных условиях она неизбежно порождает жизнь, и если мы будем рассматривать влечение как некую общую тенденцию к направленной деятельности, как некий вектор, определяющий с одной стороны направление, а с другой — силу, то тогда влечением (тенденцией) к жизни обладает лишь неорганическая материя, а живая органическая материя будет обладать лишь влечением к смерти.
Смерть как прекращение жизнедеятельности организма и его гибель являются конечной и основной целью жизни, и качественное удовлетворение этого влечения равноценно понятию качественной жизни. Хорошо жить — это значит качественно умирать: не быстро и не долго, а именно столько, сколько заложено в нас природой, и именно теми способами, которые заложены в нас природой. Мы должны свободно «вбирать» в себя все то, что необходимо для нашей жизнедеятельности и «выбрасывать» из себя все то, что мешает ей. Эти способности касаются как системы хронификации жизни (обмен веществ) в целом, так и психических процессов в частности.
Если страх и боль — те ограничители, которые встроены в систему хронификации жизни, то агрессия и элиминация — те механизмы, которые последовательно обеспечивают процесс хронического умирания.
Понимание агрессии как процесса включения в себя является оптимально удобным и полностью исключает все те ужасающие нелепости, которые нагромождены за последние десятилетия вокруг этого понятия. Агрессия как «включение в себя» и элиминация как «исключение из себя» составные части жизни как диссипативного процесса, осуществляющие тот самый обмен веществ, который традиционно рассматривается как обязательный атрибут жизни.
Агрессия как часть системы хронификации жизни, подчиняющаяся влечению к смерти, предусматривает интерес к различным объектам окружающей среды, способным так или иначе удовлетворить наши потребности. То, что мы называем интересом, аффиляцией, любовью и т.п., есть различные проявления агрессивного механизма, вслед за которыми следует фиксация и деструкция — частичное или полное разрушение в целях дальнейшей инкорпорации (включения в себя). Механизм элиминации выводит из организма все те элементы, которые, оставшись в нем, могли бы привести к ускорению процесса умирания.
Система агрессии и элиминации имеет отношение как к биологическому, так и к психосоциальному функционированию. Для качественной жизни необходимо уметь не только агрессивно усваивать необходимые элементы окружающего физического мира и выводить из себя все мешающие, но и агрессивно устанавливать необходимые психологические и социальные связи, а также качественно рвать их в случае их повреждающего действия. Точно так же, как существенные нарушения в процессах усвоения и выведения различных веществ — основа практики соматической медицины, нарушения в процессах установления и разрыва социальных и психологических связей — основа практики психотерапии. Нет необходимости здесь говорить, что никакой жесткой границы при этом между ними не существует. Нет такого пациента, который бы не страдал в той или иной степени от невозможности установить те или иные связи или ассимилировать некие модели поведения, или наоборот — от невозможности разорвать те или иные связи или избавиться от тех или иных моделей поведения.
Что касается патологически усиленного влечения к смерти и развивающейся на этой основе авитальной активности, то даже если мы начнем рассмотрение с крайнего ее проявления – самоубийства, то, несмотря на то, что Эмиль Дюркгейм в 1897 году выбрал самоубийство темой своего знаменитого социологического этюда именно потому, что оно, как ему тогда казалось, «принадлежит к числу явлений, наиболее легко определяемых», в настоящее время признается, что широкие вариации определения суицидального поведения в различных исследованиях привели к нереальности и невозможности их сравнения. Терминологические и методологические проблемы создают большие ограничения в интерпретации результатов. Во избежание путаницы сегодня даже высказываются пожелания вообще не пытаться изменить каноническое определение самоубийства Дюркгеймом. Вспомним здесь Фрейда, которого часто несправедливо обвиняют в приверженности догме, но которому принадлежит фраза о том, что «прогресс понятия не терпит закоренелости формальных определений».
Терминологические проблемы возникают вследствие:
1)
Недефинированности многих аспектов феномена (так, например, плохо описаны и изучены различные формы пресуицидальной и парасуицидальной активности);
2)
Дефинитивной нечеткости многих имеющихся понятий (например, таких, как деструктивность, агрессивность);
3)
Дефинитивной многозначности и противоречивости (вплоть до взаимоисключения) некоторых понятий, связанных как с языковыми, так и с концептуальными моментами (например, в различных исследованиях различный смысл имеют такие понятия, как суицидальная попытка, пресуицид, парасуицид);
4)
Постоянного расширения сферы исследований и вторичного «размывания» границ понятий (в первую очередь от этого страдает само понятие суицидология, наряду с которой, по логике вещей, сейчас должны существовать пресуицидология и парасуицидология);
5)
Лингвистических трудностей переноса и/или перевода понятий с одного языка на другой (например, неадекватный перевод таких понятий, как влечение, инстинкт, тенденция).
Суицидология как междисциплинарная наука, изучающая суицидальное поведение, на сегодняшний день уже не может охватить все феномены, фактически рассматриваемые в ее рамках. Не случайно еще в 80-х годах один из ведущих американских суицидологических центров в Лос-Анджелесе был преобразован в институт по изучению аутодеструктивного (саморазрушающего) поведения. В России, как показали исследования В.Е.Кузнецова, понятия «сюицид», «сюисидолог», «сюисидология» появились в научной и общественной литературе ещё в конце XIX — начале XX веков. В зарубежной литературе термин «суицидология» появился впервые лишь в 1929 году.
Простота понятия «самоубийство» — не более чем обычная иллюзия повседневного мышления. Не случайно определения самоубийства нет ни в одном крупном руководстве по клинической психиатрии, изданном в нашей стране за последние десять лет. В первом русскоязычном руководстве по психиатрии, в котором «клинические аспекты суицидологии» выделены отдельной главой и, следовательно, суицидология признаётся и рассматривается как самостоятельная наука, раздел «Клинические аспекты суицидологии» начинается со слов: «Феномен самоубийства известен с давних времён…», а единственно цитируемое определение самоубийства принадлежит древнегреческому мыслителю Плинию, называвшему самоубийство «величайшей милостью, которая дана человеку».
Эмиль Дюркгейм (чьей несомненной заслугой является то, что он одним из первых рассмотрел самоубийство не как этнический или клинический феномен, не как экзотическую диковинку или симптом душевного расстройства, а как феномен социальный — обществом порождаемый, в обществе существующий и с обществом связанный) дал в то же время и одно из самых сложных определений самоубийства. Дюркгейм относил к самоубийству «каждый смертный случай, который непосредственно или опосредованно является результатом положительного или отрицательного поступка, совершённого самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его результатах».
В принципе, если ограничить область интересов суицидологии только законченными суицидами, как это и делалось в начале ХХ века, или только законченными суицидами и суицидальными попытками, как это было принято в 50—60гг. ХХ века, проблема многообразия форм суицидальной активности снимается сама собой, но цена такого упрощения слишком велика, чтобы мы могли согласиться на это.
Если Хальбвакс в
Суицидология достаточно быстро преодолела ограничения социологического подхода (Дюркгейм, рассматривая самоубийство как чисто социологический феномен, не считал целесообразным даже исследование индивидуальных случаев и мотивов самоубийств). Расширение исследований, особенно за счёт психологических и патопсихологических подходов, закономерно привело и к расширению поля исследований, и к появлению новых понятий. Именно с расширением сферы суицидологических исследований А.Г. Амбрумова связывает введение в 1947 году Дешэ принципиально важного понятия «суицидальное поведение». Она же подчёркивает, что изучение суицидального поведения нельзя сводить только к изучению законченных суицидов и суицидальных попыток: необходимо изучать всё многообразие этого феномена и рассматривать раздельно различные виды и типы суицидального поведения.
Расширение границ суицидологии и суицидального поведения связанно с актуальностью разработки превентивных мероприятий. На различные, и особенно ранние, формы суицидального поведения еще более ста лет тому назад обращал внимание известный русский психиатр И.А. Сикорский, подчёркивая, что суицидальное поведение особенно обратимо на ранних этапах формирования. Постепенно понятие суицидального поведения стало получать всё большее наполнение. Например, В.А.Тихоненко под собственно суицидальным поведением понимает любые внутренние и внешние формы психических актов, направляемых представлением о лишении себя жизни. Е. Шир признаёт «суицидальное поведение» как наиболее адекватный термин для определения всех сторон отношения индивида (мыслей, эмоций, словесных высказываний, действий) к возможной смерти в результате собственных действий.
Однако по сложившейся традиции в психологии под поведением понимаются только внешние проявления психической деятельности. Поэтому, в строгом смысле, понятие «суицидальное поведение» может обозначать лишь внешнюю суицидальную активность (суицидальные высказывания, угрозы, приготовления, попытки и завершённые суициды), оставляя за скобками внутреннюю психическую суицидальную активность, которая, вне всякого сомнения, также должна входить в сферу интересов суицидологии. В. Полдинжер более правильно обозначает такой «интеграл всех душевных сил и функций, имеющих отношение к суицидальному действию» как «суицидальность».
Суицидальное поведение как разновидность взаимодействия человека с окружающей средой, исходя из определения, есть результирующая внутренней (психической) и внешней (поведенческой) активности. Поэтому мы считаем более целесообразным использовать понятие «суицидальная активность». С одной стороны, активность всегда выступает в соотношении с деятельностью, с другой — её важной характеристикой является обусловленность производимых действий внутренним состоянием субъекта. Понятие суицидальной активности в своем прямом смысле включает в себя внутренние эмоционально-когнитивные процессы и внешнюю поведенческую активность, связанные с сознательным намерением прекратить собственную биологическую жизнь.
Дальнейший ход исследований настолько расширил сферу суицидологии, что буквальная трактовка термина «суицид» (убийство себя) перестала вмещать весь спектр изучаемых явлений.
Во-первых, как выяснилось, суицидальная модель поведения может использоваться в самых различных, не связанных непосредственно с «убийством себя» целях.
Во-вторых, многие фактически «самоубийственные» модели поведения не являются осознанными.
В-третьих, изучены многочисленные модели поведения, сутью которых является причинение себе вреда, но не смерти.
Всё это привело к появлению в суицидологии таких понятий, как «парасуицид», «хронический суицид», «протрагированный (продлённый) суицид», «органический суицид», «локальный суицид», «аутодеструктивное (саморазрушающее, деструктивное) поведение», «аутоагрессивное поведение» и др.
Понятие аутодеструктивного (self-destructive behavior), или саморазрушающего, поведения в качестве наиболее общего чаще других используется в научной литературе.
Что не лишает его, к сожалению, неоднозначной трактовки. Многие исследователи понимают аутодеструктивное поведение достаточно узко — только лишь как активность с высоким риском физического повреждения. В.А. Тихоненко под «аутодеструктивной активностью» понимает «опасные для жизни действия, не связанные с осознанными представлениями о собственной смерти». Американский исследователь Н. Табачник, наоборот, определяет саморазрушающее поведение как совершение «любых действий, над которыми у человека имеется некоторый реальный или потенциальный волевой контроль, способствующих продвижению индивида в направлении более ранней физической смерти».
Из отечественных авторов наиболее последовательно понятие саморазрушающего поведения в широком смысле использовал Ю.В. Попов. Он включал в это понятие «различные действия, поступки, поведение, в результате которых вольно или невольно причиняется существенный вред себе» и рассматривал в этих рамках не только суицидальное поведение (во всех его проявлениях: мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки), но и алкоголизм, наркомании и токсикомании.
Второе часто употребляющееся общее понятие — «аутоагрессивное поведение».
Но оно содержит в своем составе понятие «агрессивности» — одно из наиболее сложных и спорных в современной психологии (к нему мы обязательно вернемся ниже), и спорность эта неизбежно переносится и на понятие аутоагрессивного поведения. Так, например, Е. Шир считает этот термин неприемлемым, потому что термин «агрессия» кажется ему прерогативой теории ортодоксального психоанализа. Р. Бэрон и Д. Ричардсон, рассматривая агрессию как форму социального поведения и взаимодействия как минимум двух индивидов, придерживаются определения агрессии как поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного обращения. На этом основании авторы не относят самоубийство к агрессивным актам, так как при суициде агрессор выступает в роли собственной жертвы:
«Даже если целью суицида является не смерть, а отчаянный призыв к помощи, самоубийца все-таки стремится причинить вред себе».
Вышеуказанные разногласия и значительное расширение сферы исследований в суицидологии повлияли на необходимость создания нового максимально широкого понятия, включающего в себя как сознательную, так и бессознательную, как внешнюю, так и внутреннюю, как прямую, так и непрямую активность, направленную на снижение и/или прекращение социальной и/или биологической активности. Такую активность мы предлагаем называть авитальной (a (лат.) — приставка, обозначающая отрицание, vita (лат.) — «жизнь»).
Под авитальной активностью мы понимаем биологическую, психологическую и поведенческую активность, направленную на повреждение и/или прекращение собственного социального и биологического функционирования.
Суицидальная активность, направленная на сознательное прекращение собственного биологического функционирования (жизни), является одним из актуальных, но далеко не единственным из известных на сегодняшний день феноменов авитальной активности.
Не только терминологическая путаница подтолкнула нас к попытке разрубить терминологический «гордиев узел» с помощью введения нового понятия, но и живая динамика исследований в области активности, направленной против жизни. Пройдя многие этапы, включая психопатологию и уголовный кодекс, самоубийство как феномен вошло в сферу интересов социологии, затем психологии, и в настоящее время накапливается все больше данных, что самоубийство, как одно из крайних проявлений авитальной активности, обусловлено не столько внешними «факторами риска», сколько внутренней, биологической по своей природе, активностью, связанной с влечением к смерти и изначально заложенной в нас.
Таким образом, не влечение к смерти является патологическим по своей природе, а его усиление и возникающая на этой основе авитальная активность. Авитальная активность неизбежно возникает в тех случаях, когда биологические системы и структуры, последовательно удовлетворяющие влечение к смерти, не могут адекватно справиться с возложенной на них функцией.
Более детальное определение различных форм патологической авитальной активности мы дадим ниже в соответствующем разделе.
Влечения и их судьбы
Знакомым с «Никомаховой этикой» Аристотеля или «Основом философии» Гоббса, не говоря уже о философах нового времени, интерес психоаналитической науки к судьбе влечений не может показаться странным. «Как будет действовать тот, кто испытывает влечение, зависит, пожалуй, от него, но само влечение не есть нечто свободно избираемое им», — писал Гоббс, искренне удивляясь, что существует много людей, которые этого не понимают. Размышляя о причинах и судьбах влечений, он делает вывод, под которым могут подписаться многие современные психоаналитики: «они (влечения — Ю.В.) не зависят от нашей воли», то есть, лежат за пределами нашего сознательного контроля.
Как бы ни относился Фрейд к философии, многое из того, о чем ранее размышляли лишь философы, да еще, может быть, поэты, вошло в сферу приоритетных интересов психоанализа. Здесь Фрейд напрасно опасался размывания границ между философским и аналитическим подходом. Дорогая особенность психоанализа, его шибболет, в том, что, в отличие от философов, психоаналитики никогда не стремились разделить все влечения на «скотские» и «человеческие», искусственно унижая первые и возвышая вторые. Если снисходительный философ в добром расположении духа мог сказать про себя: «Ничто человеческое мне не чуждо», то психоаналитик легко может сказать про себя: «Ничто скотское мне не чуждо».
Ситуацию относительно судьбы влечений в психологии конца XIX – начала XX века хорошо описал Вильгельм Райх: «…насчитывалось столько же или почти столько же влечений, сколько и человеческих действий. Существовали, например, влечение к питанию, влечение к размножению, побуждавшее к продолжению рода, влечение к эксгибиционизму, влечение к власти, тщеславие, инстинкт питания, влечение к материнству, влечение к более высокому уровню развития человека, стадный инстинкт…»
Эмоции, инстинкты, воля уже начинают рассматриваются отдельно в руководствах по психологии, но лишь в самых последних главах. Расстройства влечений уже не рассматриваются как искушения дьявола, но еще приписываются наследственному вырождению и дегенерации.
Ситуация в психиатрии того же времени мало чем отличалась от ситуации в психологии. Достаточно заглянуть в «Общую психопатологию» — фундаментальный труд Карла Ясперса, являющийся настольной книгой нескольких поколений психопатологов во многих странах. Ясперс не только не дифференцирует такие понятия, как «потребность», «инстинкт», «влечение», «желание», «воля», но и выводит (!) их «по ту сторону удовольствия и неудовольствия». Цитируемое прижизненное издание 1959 года и само сочетание слов «по ту сторону удовольствия» предполагает, что Ясперс был знаком с последними трудами Фрейда, но они нисколько не повлияли на его подход к систематике влечений. Феноменологически он выделяет три иерархических уровня влечений:
1)
Соматические, чувственные влечения (половое, голод, жажда, сон, деятельность, сосание, еда, дефекация и мочеиспускание);
2)
Витальные влечения:
а)
Бытийные влечения (воля к власти, воля к подчинению, потребность в самоутверждении, потребность в самопожертвовании, своеволие и стадный инстинкт, храбрость и страх, самоуважение и влечение к самоуничижению, любовь и ненависть);
б)
Душевные влечения (любопытство, потребность в заботе о младших, влечение к путешествию, влечение к покою и удобствам, воля к обладанию);
в)
Творческие влечения (стремление к самовыражению, производству инструментов, труду и творчеству);
3)
Духовные влечения (религиозные, эстетические, этические и влечение «к воззрениям субъекта на истину»).
Общим фактором для последней группы влечений Ясперс считает «влечение к сохранению себя в вечности». Иерархический принцип классификации влечений у Ясперса тот же, что и во многих подобных классификациях: осуществление влечений каждой последующей группы возможно только после осуществления влечений предыдущей группы, однако это не обязательно. Знаменитый тезис Шиллера «любовь и голод правят миром» Ясперс оспаривает, не желая исключать из рассмотрения ситуации, «когда истинные духовные и интеллектуальные влечения управляют влечениями низших уровней». Аналогичным образом построена популярная в современной психологии иерархическая пирамида потребностей Маслоу, в которую каждый автор по своему усмотрению добавляет те или иные уровни.
Проблема взаимоотношений между глубинными влечениями, проблема отношений между влечениями и структурами психики была одной из основных в психоаналитической теории конца XIX — начала XX века. С середины и до конца XX века представители Эго-психологии, структурного психоанализа Лакана, гуманистические психологи стали постепенно смещать акцент с глубинных бессознательных влечений на функционирование Эго, объектные отношения, социальную среду и адаптацию в ней, последовательно дебиологизируя психоанализ. Объектные отношения стали определять и формировать влечения, а не наоборот. О гуманистической психологии – речь особая. Вся ее суть сводится к тотальному отрицанию биологических факторов, детерминирующих личностное функционирование и личностный онтогенез.
Уже в 40-х годах американский психолог Гордон Олпорт, рассматривая личность как открытую, постоянно развивающуюся систему, выдвинул концепцию функциональной автономии мотивов. Мотивы взрослого человека он предложил рассматривать «как бесконечно разнообразные и самоподдерживающиеся (selfsustaining) современные системы, вырастающие из предшествующих систем, но функционально независимые от них». Такой довольно незамысловатый ход был нужен Олпорту для того, чтобы оторвать мотивационные силы «Я» от энергии «Оно» и обеспечить «Я» собственной энергией. Таким образом традиционно достигается теоретический отрыв личности от ее биологических, организмических корней и утверждается качественная «несводимость» личностного и индивидуального онтогенеза.
Для советской психологии положение о том, что «человеческая мотивация качественно отличается от мотивации биологической и к ней несводима» является основополагающим и «нуждается не столько в доказательстве, сколько в уточнении того, в чем это отличие заключается». Не случайно советская психология так ухватилась за Олпорта и всей душой полюбила его. Теория Олпорта при минимальных усилиях по ее изнасилованию позволяла родить массу социалистически полезных тезисов, например, что именно капиталистический способ производства и капиталистический образ жизни подавляет в большинстве людей творческую активность, которая так наглядно проявляется в творческих личностях, а «в условиях общественной формации, приходящей на смену капиталистическому способу производства, становится достоянием всех людей». Советским психологам идея бесконечного развития личности присуща так же, как вера в Бога — верующим людям. «Развитие – основной способ существования личности на всех этапах ее индивидуального пути». «Структура личности должна отвечать идее развития». Та же идея как навязчивость, как бред преследует практически всех представителей гуманистической психологии. «Развитие личности достигается только упорным кропотливым трудом, сосредоточенностью, умением взять себя в руки, сконцентрировать свое внимание, — пишет Фромм. — У человека всегда есть две реальные возможности: либо остановиться в своем развитии и превратиться в порочное существо, либо полностью развернуть свои способности и превратиться в творца».
Очень редко на фоне этого хорового исполнения гимна величию человеческой экзистенции можно услышать негромкие, но трезвые и простые как жизнь слова: «Для всех животных, включая и антропоидов, содержанием индивидуального развития является воспроизведение вида. В пределах своих границ — от рождения до смерти — индивид осуществляет более или менее важные функции, но главной из них является функция воспроизведения себе подобных. Все остальные функции представляют собой лишь средства или условия, обеспечивающие выполнение этой функции».
Российская психиатрия конца XX века в отношении влечений и их расстройств разве что перестала ссылаться на дьявола. Лишившись психоанализа, психиатрия полностью лишила «патологические» влечения разумности, смысла, воли и чувств. Если у пациента «внезапно появляется желание ударить прохожего по лицу, сказать ему гадость, оскорбить его, цинично выругаться в общественном месте, выколоть соседу или родственнику глаза, сбросить с верхнего этажа на голову прохожих тяжелый предмет и т.п.» — это означает, что он страдает навязчивыми, компульсивными влечениями, и российский психиатр должен был задуматься разве что об уровне психического расстройства (невротическом или психотическом) и выборе метода биологического лечения (психотропные препараты или шоковые методы терапии). На психиатра, который попытался бы понять смысл и чувства, стоящие за этими навязчивыми влечениями, посмотрели бы крайне странно. На психиатра, который бы посмел сказать, что все те компульсивные влечения, которые А.В. Снежневский как бы случайно выбрал из сотен вариантов и привел в качестве психопатологических в своем руководстве (смотри выше), на самом деле могут быть идентичны и конгруэнтны неосознаваемым влечениям самого Снежневского (в связи с чем и были выбраны) – посмотрели бы уже не только странно, но и диагностически оценивающе. В 1998 году на конференции в Екатеринбурге я беседовал с дочерью Г.Я. Авруцкого о современных подходах к лечению панических расстройств. Узнав о том, что в своей практике я использую для лечения этих пациентов психотерапевтические методы и не использую лекарства, она плохо посмотрела на меня и утратила всякий интерес к беседе. Один из рецептов российской биологической психиатрии, популярный до настоящего времени: «Аминазин в нарастающих дозировках до исчезновения жалоб». Я всегда говорю студентам, что психиатры XVIII века, применявшие для лечения пациентов вращающиеся барабаны, колеса и кровати, не были садистами. Они применяли их потому, что видели их эффективность. Если человека с психомоторным возбуждением интенсивно вращать час в барабане, он некоторое время после этого будет спокойнее. Аминазин успокаивает пациентов еще более эффективно. Только не случайно использование психотропных препаратов образно называют «медикаментозным связыванием». Не случайно использование уже нескольких поколений антидепрессантов на протяжении нескольких десятилетий не привело к какому-либо снижению общего числа суицидов. Оно и понятно. Депрессия – это состояние, когда человек очень хочет умереть, но не может этого сделать по независящим от него причинам. То есть, у депрессивного пациента с одной стороны отсутствует возможность пользоваться теми моделями поведения, которые обеспечивают качественную и доставляющую удовольствие жизнь, а с другой стороны блокирована возможность быстрого и качественного ее прекращения (самоубийство). Ожидать помощи только от приема антидепрессантов в этой ситуации достаточно наивно. Как известно самые лучшие антидепрессанты всех времен и народов – опий и героин, а не селективные ингибиторы реаптейка серотонина.
Психиатрия и психотерапия переживают, к сожалению, сегодня нелегкий период. Как ни парадоксально – ситуация эта связана с бурным развитием психофармакологии. Синтез недорогих психотропных препаратов, особенно относящихся к группам бензодиазепинов и селективных ингибиторов реаптейка серотонина, породил иллюзию фармакологического чуда. Любой клиницист, финансово не зависимый от фармакологических компаний, знает, что никакого чуда нет, но большинство клинических руководств, конгрессов и конференций «оплачиваются» фармакологическими компаниями, и неудивительно, что основная тема большинства докладов — использование психофармакологических препаратов для лечения психических расстройств.
Специалисты, приезжающие из-за рубежа, теперь уже обучают нас, как после фармакологического насыщения психиатрического и психотерапевтического рынка необходимо грамотно захватывать рынок терапевтический. Оказывается, терапевты крайне плохо диагностирует депрессивные и тревожные расстройства, и поэтому огромное количество потенциальных потребителей психофармакологических препаратов проходит мимо аптек, не зная что такое «ксанакс» и «флюоксетин».
Фрейд знал ситуацию в философии, психологии и психиатрии относительно систематики влечений и считал, что предполагается «гораздо большее количество разнообразных влечений, чем это нужно: влечение к самоутверждению, подражанию, игре, общению и многие им подобные». Ему казалось, что за всеми этими мелкими влечениями скрывается нечто гораздо более серьезное и могущественное. Он полагает, что, если в прикладных исследованиях можно использовать термин «влечение» в отношении частных видов деятельности, то все же при этом не нужно упускать из вида, что «определенное значение может быть признано только за первичными, в дальнейшем неразложимыми влечениями». Приближение к ним Фрейд ставит одной из основных задач психоанализа. «Теория влечений — это, так сказать, наша мифология, влечения — мифические существа, грандиозные в своей неопределенности. Мы в нашей работе ни на минуту не можем упускать их из виду и при этом никогда не уверены, что видим их ясно», — писал Фрейд. Позже Юнг, вспоминая, с каким пафосом Фрейд всегда говорил о сексуальном влечении, усматривал в этом не научное, а практически религиозное отношение.
Сущность влечения, с точки зрения Фрейда, заключается в том, что оно постоянно действует изнутри организма, располагаясь как бы на границе между «душевным и соматическим», попадая, таким образом, в сферу интересов и биологии, и психологии. Биологическая потребность, связанная с напряжением, вызывает неприятные ощущения, неудовольствие и влечение избавиться от этого состояния, используя все когнитивные и поведенческие возможности.
С психологической точки зрения Фрейд выделяет для каждого влечения источник, цель и объект. Поскольку источник влечения находится в соматических процессах, — его изучение прямо не относится к сфере интересов психологии, и Фрейд возлагает здесь большие надежды на биологию, которая сможет в дальнейшем предоставить больше информации обо всех соматических источниках влечения. Фрейд же указывает, что для психологического исследования знание источника влечения по существу и не требуется. Поскольку цель влечения — удовлетворение потребности, то, зная цель, можно от обратного сделать вывод и об источнике влечения.
Начиная разрабатывать теорию влечений, Фрейд говорит о качественном характере различий между ними, но позднее, ставя перед собой вопрос, можно ли говорить о качественном различии биологически обусловленных влечений, достаточных оснований для этого не видит и рассматривает все влечения как однородные, действие которых определяется лишь «заключающейся в них величиной возбуждения». Тем не менее, постулирование Фрейдом для каждого влечения своего источника, цели и объекта привело в дальнейшем к критике его концепции влечений как недостаточно последовательной, глубокой и фундаментальной, что представляется нам верным лишь в той части, где теория Фрейда критикуется за ее непоследовательность.
Даже если мы предполагаем здесь, что в теоретическом фундаменте психоаналитической теории имеется существенный изъян, из-за которого здание постепенно начинает проседать, жильцы из него выезжают, а стены и содержимое растаскиваются проворными соседями на хозяйственные нужды, если мы предполагаем здесь, что здание это имеет не только культурно-исторический, но и научно-практический интерес, мы должны попытаться, используя психоаналитический же подход, научивший нас выявлять бессознательные и глубоко скрытые причины по видимым и наблюдаемым поверхностным расстройствам, обнаружить под просевшей стеной психоаналитического здания тот неверно уложенный теоретический блок фундамента, позиция которого угрожает существованию всего здания. Эти неверные, с нашей точки зрения, позиционные моменты нуждаются в обозначении и отдельном освещении.
Современная психоаналитическая литература показывает нам, что судьба влечений в теории психоанализа не столь плачевна, как спешат декларировать некоторые философы, «близкие к воззрениям Ясперса и Поппера», которые смело утверждают, что современный аналитик «совершенно спокойно обходится без широких обобщений о “судьбах влечений”». Разумеется, вызывает сожаление отчетливая тенденция современного психоанализа отрываться от биологических, организмических основ функционирования психики. «Надо подчеркнуть, — пишут современные ведущие аналитики Томэ и Кэхеле вслед за Олпортом, — что психосоциальные и социокультурные явления до некоторой степени автономны; ни их происхождение, ни их модификация не ограничиваются биологическими процессами». Эта тенденция вызывает сожаление, но не опасение. Если разбежавшийся, оттолкнувшийся от земли и высоко подпрыгнувший человек склонен утверждать, что он умеет летать — не нужно спорить. Нужно немного подождать, пока он сам вернется на землю. Прискорбно лишь то, что люди, утверждающие мотивационную автономию «Я», именуют себя последователями Фрейда и психоаналитиками. Возможно, они много больше вредят развитию современной психоаналитической теории, чем те недостатки, которые эта теория содержит.
Десятилетние попытки похоронить психоаналитическую теорию заживо, кастрировать ее сексуальность или произвести легкое и красивое обрезание метапсихологической теории влечений от структурной теории личности не увенчались успехом. Вэйкко Тэхкэ, последнюю монографию которого «Психика и ее лечение: психоаналитический подход» называют не только самой современной книгой по психоанализу, но и «энциклопедией современного практического психоанализа», вновь акцентирует внимание на динамической точке зрения в психоаналитической теории в связи с ее «относительно пренебрегаемым статусом». Последние теории, по мнению Тэхкэ ограничиваются описанием того, что происходит, но никак не отвечают на вопрос: почему это происходит. Чтобы избежать псевдообъясняющих описаний и конструктов (график развития, тренировка функций) Тэхкэ сознательно ограничивает себя в постулировании любых феноменов развития без надежного динамического или мотивационного обоснования.
Говоря о влечении, он подчеркивает, что с самого начала важно договориться, что мы имеем в виду. Является ли влечение лишь неким количеством общей стимулирующей энергии для функционирования различных психических структур или влечения отличаются качественно, и каждое имеет свой источник, цель и объект. Другими словами: напоминает ли влечение общее напряжение в электрической сети, обеспечивающее деятельность любых электрических приборов, или для различных приборов существует качественно различное напряжение с различными источниками, сетью и розетками.
Тэхкэ критикует как двойственную и противоречивую ту позицию, где влечение «одновременно рассматривается и как количественная величина, не обладающая качествами, и как нечто психически представленное, то есть, обладающее содержанием и качествами». Основание для критики ему дает уже упоминавшееся нами постулирование Фрейдом источника, цели и объекта влечений, что придает им «иные, нежели чисто энергетические смыслы и качества» и приводит к дальнейшим неверным (с точки зрения Тэхкэ) теоретическим конструктам переплетения влечений, дериватов влечения, нейтрализации влечений (Hartmann), нарциссическому либидо как особой форме энергии влечения (Kohut).
Считая позицию Фрейда и его сторонников «запутывающей и алогичной», Тэхкэ определяет влечение, как «энергию живого человеческого организма в целом». Это влечение «заряжает энергией все нормальные и патологические элементы содержания и все процессы психики», но «любые качества принадлежат психике, а не самой энергии». Влечение не имеет ни цели, ни объекта, ни развития. Уменьшение напряжения представляется Тэхкэ центральной и первичной целью организма.
По сути, здесь мы можем наблюдать, как современная психоаналитическая теория в лице Вэйко Тэхкэ начинает склоняться не к первой и не ко второй дуалистической концепции влечений Фрейда, речь о которых пойдет ниже, а к монистической теории влечений, исключающей всякое разнообразие инстинктивных влечений. Эта теория постулирует влечение как «энергию, вырабатывающуюся на протяжении всей жизни индивида, постоянно возобновляясь, аккумулируясь и обладая принуждающей природой. Вследствие того, что влечение носит принуждающий характер и требует разрядки, оно мобилизует и заряжает энергией все те индивидуальные специфические для данных особей «программы поведения» и потенциалы, которые, взаимодействуя с человеческим окружением и природной средой, ведут к бесконечному разнообразию реализаций индивидуальной человеческой жизни».
Точно так же, как Фрейд в свое время отмежевывался от интерпретации либидо и влечения к жизни в широком юнговском смысле, Тэхкэ в своей работе сразу же отмежевывается от возможной интерпретации своего влечения и его энергии как «жизненного инстинкта» Фрейда. Но на этом он останавливается. Вопрос о происхождении и «целях» этой энергии он относит к разряду философских вопросов о происхождении и смысле жизни и считает, что на современном уровне знаний на них невозможно убедительно ответить. Единственное, что можно с уверенностью утверждать – это то, что влечения пронизывают все физические и психические процессы человека и «уменьшение напряжения представляется центральной первичной целью организма». Запомним здесь этот основной вывод современного психоанализа относительно теории влечений и перейдем далее к рассмотрению двух дуалистических теорий влечений Фрейда.
Первая дуалистическая теория влечений Фрейда
Первый опыт формулировки теории влечений Фрейд предпринимает в 1905 году в работе «Три очерка по теории сексуальности». Основной упор сделан, разумеется, на сексуальное влечение (либидо), но и другие влечения не отрицаются. Например, на первой же странице либидо определяется по аналогии с влечением к пище и голодом. Эта аналогия позднее будет повторена и в двадцатой лекции «Введения в психоанализ». Фрейд еще не противопоставляет, но уже различает сексуальные влечения (либидо) и влечение к пище, которое позднее будет включено им во влечения Я или влечение к самосохранению. Причем, как можно заметить, различает их качественно, как два различных влечения. Это именно тот аспект в теории влечений Фрейда, который справедливо подвергнут критике в работе Тэхкэ. В последнем, третьем, очерке, в разделе «Теория либидо» Фрейд дает определение либидо как «меняющейся количественно силе, которой можно измерять все процессы и превращения в области сексуального возбуждения», и отличает либидо от «энергии, которую следует положить вообще в основу душевных процессов, в отношении ее особого происхождения, и этим приписываем ей также особый качественный характер (курсив наш. — Ю.В.). Отделением либидозной психической энергии от другой мы выражаем наше предположение, что сексуальные процессы организма отличаются от процессов питания организма особым химизмом». Достаточно странное суждение, на первый взгляд. У кого, собственно, в здравом уме и ясной памяти возникнет желание спорить с тем, что химизм сексуальных и пищеварительных процессов различается между собой. Понятно, что пепсину — пепсиново, а тестостерону — тестостероново. Дело в том, что Фрейд здесь старается подчеркнуть особое, качественно своеобразное значение химизма сексуальных процессов для психики. Психическая энергия имеет, по его мнению, преимущественно сексуальную либидинозную природу. С этим мнением Фрейда не могли согласиться очень многие исследователи, и в первую очередь Юнг.
В «Либидо, его метаморфозах и символах» Юнг прослеживает изначальное значение понятия «libido» со ссылкой на труды Цицерона и Саллюстия и указывает на его «весьма широкий смысл»: «значение libido здесь желание и (в отличие от стоического понятия хотеть) необузданное страстное желание». В разделе «О понятии и генетической теории libido» Юнг со ссылкой на «Три очерка…» описывает этапы формулирования Фрейдом понятия либидо. Он замечает, что Фрейд и сам был вынужден расширить понятие libido, столкнувшись с феноменом паранойи. Цитируя большой отрывок из размышлений Фрейда по этому вопросу, Юнг отмечает, что в нем Фрейд с очевидностью подходит к вопросу, «можно ли в утере восприятия действительности в случае паранойи видеть исключительно следствие обращения вспять «либидинозных притоков» или эта утеря совпадает с исчезновением всякого так называемого объективного интереса».
В более ранней работе «Психология dementia praecox» Юнг уже использовал как максимально общее понятие «психическая энергия», и здесь он еще раз подчеркивает, что любые попытки строить теорию dementia praecox, основываясь на сексуально понимаемом libido, невозможны. «Мое сдержанное отношение к вездесущей сексуальности, какое, признавая все психологические механизмы, я обнаружил в предисловии к Психологии dementia praecox, было подсказано тогдашним состоянием теории libido, сексуальное определение которой не дозволяло мне искать в этой теории объяснения для функциональных нарушений, относящихся столь же к области (правда, неопределенной) влечений голода, сколь и к области влечений пола», — пишет Юнг и продолжает: «В течение моей аналитической работы вместе с нарастанием опыта я подметил медленное изменение моего понятия libido: вместо описательного определения, свойственного «Трем очеркам» Фрейда, выступило понемногу определение генетическое, давшее мне возможность заменить выражение психическая энергия термином libido».
Фрейд выступает в «Очерках» с крайне слабым аргументом против расширительного толкования либидо как всеобщей движущей психической силы, ссылаясь на то, что такое толкование приведет к «исчезновению завоеваний всех психоаналитических наблюдений». В дальнейшем критики неоднократно замечали эту оплошность, высказываясь в том смысле, что если переформулировка всего лишь одного понятия может привести к потере всех достижений психоанализа, то немного эти достижения и стоят. Юнг, как и другие исследователи, никогда не мог понять, почему сексуальному влечению придается доминирующее значение, и обвинял Фрейда в пансексуализме как разновидности религиозного, а не научного подхода. Та нуменозная сила, которую Фрейд называл либидо, осуществила оккупацию практически всех механизмов и систем, обеспечивающих жизнедеятельность живого существа, начиная от поглотительных и пищеварительных функций и кончая выделительными. Либидо получило царское право быть в этом мире всем и во всем: ребенок сосет материнское молоко — это оральное либидо, ребенок овладевает навыками опрятности — это анальное либидо, созревает сексуальная система и наследный принц — генитальное либидо вступает в свои законные права, не обделяя при этом своим царским вниманием прежние зоны обитания. Если возникают проблемы в генитальном царстве — либидо может оставить его во власти невроза и, как король Лир, отправиться погостить (регрессировать) в места своего детства и отрочества. Задача аналитика — вместе с либидо вернуться в генитальную сферу по королевской дороге сновидения и изгнать невроз, сразившись с ним на территории бессознательного и победив трех страшных врагов: цензуру, сопротивление и симптомы.
В рамках тифоаналитической теории нам предстоит рассмотреть сексуальность как структурный компонент влечения к смерти (что Фрейд никогда не решался сделать), а влечение к смерти — как единую и единственную движущую жизненную силу (которую Юнг называл либидо, но никогда не увязывал с влечением к смерти). Таким образом, от теории либидо как фундамента аналитической теории останется на самом деле немного. В каком-то смысле — вообще ничего не останется, поскольку у нас нет никаких теоретических и клинических оснований для выделения сексуального влечения в самостоятельное и качественно своеобразное.
Либидо, как его понимал Фрейд, в клинической реальности не существует. Существует влечение к смерти с одной стороны и сексуальность как один из механизмов его реализации — с другой стороны. Существует сексуальность как система, которая функционирует за счет влечения к смерти, и которая, возможно, лучше, чем какая-либо другая система позволяет влечение к смерти удовлетворить и именно потому наполняет максимальным удовольствием жизнь и максимально близко и часто подходит к смерти или даже переходит в нее. Однако сексуальность – это не влечение. И подобная перегруппировка и пересмотр основополагающих, фундаментальных конструктов психоаналитической теории не только, как нам кажется, не разрушит здания психоанализа, но, наоборот, придаст ему большую прочность и позволит избежать участи преждевременного крушения.
Теория либидо при этом не уничтожается и никуда не девается. Она прочно занимает свое, не фундаментальное, разумеется, но почетное краеугольное место. Так или иначе, но последовательный процесс пересмотра теории либидо мы уже наблюдаем в современном психоанализе. Если же говорить о том, что пересмотр теории либидо может привести к потере всех психоаналитических наблюдений, то этот страх совершенно не оправдан. Многие даже неверно интерпретированные наблюдения Фрейда имеют большую ценность, чем верно интерпретированные наблюдения целого ряда других исследователей.
Достижения и Юнга, широко трактующего либидо как психическую энергию, и Фрейда, подходившего к этому вопросу, но отвергавшему монистическую идею влечений, стоят одинаково дорого. Мне кажется, что я лишь недавно стал действительно понимать, насколько дорого они стоят. Моя коллега-психотерапевт, работавшая ранее психиатром, рассказала мне, как сложно ей выслушивать пациентов. Когда они рассказывают о своих переживаниях, ей с большим трудом удается сохранить стройность и ясность своего мышления и возникает труднопреодолимое желание назначить им какой-нибудь знакомый, хорошо проверенный практикой лекарственный препарат. После этого я стал лучше понимать явную нелюбовь многих врачей в целом и психиатров в частности к психотерапевтам.
Заглядывая в душу другого человека, нужно всегда быть готовым к тому, что, сколько ты увидишь там, ровно столько ты увидишь и в себе, и наоборот. Сабина Шпильрейн писала, что «для каждого человека другие люди существуют вообще только настолько, насколько они доступны его Душе, от другого для нас существует только соответствующее нам». Фрейд и Юнг, в ряду представителей созерцательной философии, интроспективной психологии, феноменологической психиатрии, были гениальными вуайеристами в лучшем смысле этого слова. Их объединяла страсть к подглядыванию сквозь замочную скважину аналитической беседы за самыми интимными процессами, происходящими в здании человеческой психики и при этом бесшабашная смелость встретиться с этими процессами в себе самом. Волею судьбы Фрейд начал с неврозов и спальни, Юнг — с психозов и подвалов, другие — с голода, агрессии и кухни. У каждого была своя позиция и своя точка зрения. Встать на позицию другого не возникало желания не потому, что позиция представлялась неверной или неинтересной, но потому, что своя позиция не исчерпывала своего интереса.
Все они были креативными личностями, и как человек, страдающий от жажды, везде ищет воду, так креативная личность движимая душевным напряжением, всегда ищет для себя проблемы и проблемные ситуации. Нет большего счастья для креативной личности, чем найти полностью неизведанную, неразработанную, неупорядоченную проблему. С великим воодушевлением бросается она в бой, чтобы успеть победить, чтобы кто-то другой, столь же голодный и ненасытный, не успел все систематизировать и упорядочить. И нет большего несчастья для креативной личности, чем известие о том, что проблема, которая позволяет тебе втихомолку тратить свою психическую энергию, уже кем-то решена. Отчаяние, которое возникает при этом, совершенно непонятно по своей этиологической природе обычному человеку. Это не зависть чужому успеху и чужой славе, желание которых лишь в последнюю очередь свойственно креативной личности. Это не зависть человека, имеющего мало, к человеку, имеющему много. Это биологическая злоба голодного существа, у которого из-под носа украли пищу.
Креативная личность всегда стремится к уединению и индивидуальной самостоятельной деятельности. Единственным исключением можно считать те случаи, когда сферы деятельности двух креативных личностей настолько далеко отстоят друг от друга, что не возникает опасения в проникновении конкурента на свою территорию. Тогда креативные личности могут с определенной безопасностью устанавливать более или менее тесные межличностные связи, испытывать взаимную симпатию и интерес. Это могло произойти между Фрейдом и Эйнштейном, Фрейдом и Томасом Манном, Фрейдом и Стефаном Цвейгом, но не между Фрейдом и Юнгом.
Клондайком Фрейда стала сексуальность, копями царя Соломона Юнга — глубинные структуры бессознательного. Фрейд изучал либидо в горизонтали онтогенеза («Три очерка по теории сексуальности») и применял позднее эти знания к вертикали филогенеза («Тотем и табу»). Юнг, листая древние алхимические книги, разворачивая ветхие манускрипты, путешествуя по Тунису, Кении, Уганде, Индии и Северной Америке, изучал либидо в вертикали филогенеза и находил его архаичные структурные следы в онтогенезе клинических метаморфоз либидо у своих пациентов. Продвигаясь вверх к истокам либидо, Фрейд проходил анальные и оральные территории и возвращался назад обогащенный этими бесценными знаниями. Опускаясь в глубины объективной психики, Юнг наблюдал нуминозные символы либидо, чтобы затем, поднимаясь вверх, наблюдать их субъективные метаморфозы.
Итак, в самом начале XX века Фрейд формулирует, сначала нечетко, дуалистическую теорию влечений, постулируя, со ссылкой на биологию, противопоставление либидо и влечений Я. Лишь позднее, в «Лекциях по введению в психоанализ», разграничение этих двух групп влечений было проведено более четко. «Как бы ревностно мы ни защищали в иных случаях независимость психологии от любой другой науки, здесь мы все-таки находимся в плену незыблемого биологического фактора, согласно которому отдельное живое существо служит двум намерениям, самосохранению и сохранению вида, кажущимися независимыми друг от друга, которые, насколько нам известно, пока еще не сведены к единому источнику и интересы которых в животной жизни часто противоречат друг другу». Инстинкт самосохранения, как влечение, направленное на сохранение индивида, не просто отделяется, но и противопоставляется половому инстинкту, направленному на сохранение вида. Конфликт, возникающий при этом между двумя влечениями, когда влечения Я ограничивают сексуальные влечения, а последние пытаются их обойти, Фрейд усматривал в основе неврозов.
В одной из своих поздних работ Фрейд признает, что учение о влечениях формировалось намного труднее, чем остальные стороны психоаналитической теории. Сначала, «будучи в полной беспомощности», Фрейд опирается на слова Шиллера, что миром правят любовь и голод. Голод при этом может быть выражением влечений, направленных на сохранение индивида, а любовь — влечений, направленных на продолжение рода.
«Так, — пишет Фрейд, — инстинкты Я были поначалу противопоставлены влечениям, направленным на объекты. Энергия последних получила название либидо».
Но заметим, что уже в 1915 году, за пять лет до публикации «По ту сторону принципа удовольствия», в работе «Влечения и их судьба», предлагая различать все те же два первичных влечения, Фрейд предлагает их всего лишь как вспомогательные конструкции, нуждающиеся в сохранении лишь до тех пор, пока они будут полезными, из эвристических мотивов, пока это разделение, быть может, не окажется неправильным, и указывает, что более глубокое изучение нарциссических психоневрозов, шизофрении, возможно, заставит изменить эту формулировку и сделать новую перегруппировку первичных влечений. В 1915 году такая формула была ему еще не известна, и он очень скептически высказывается о принципиальной возможности исследования первичных влечений с позиции исследования психической деятельности.
В 1917 году в 26-й лекции «Введения в психоанализ» Фрейд все еще отрицает возможность отменить «наше право разделять инстинкты «Я» и сексуальные влечения». И хотя вновь ставит вопрос о том, насколько правомочно разделение этих первичных влечений и насколько существенно их различие, право решающего голоса он оставляет за биологией, одновременно при этом заранее дезавуируя любой ее вариант решения. О биологии влечений «мы пока знаем слишком мало, а если бы даже знали больше, то к нашей аналитической задаче это не имело бы отношения». И вообще: «вопрос о том, как далеко следует вести, несомненно, оправданное разделение на сексуальные влечения и инстинкты самосохранения, для психоанализа большого значения не имеет». Дальнейшее развитие психоаналитической теории показало, что это далеко не так.
Вторая дуалистическая теория влечений Фрейда
Сложности применения первой теории влечений к практической деятельности начались когда он стал более внимательно изучать клинические и динамические особенности садизма и особенно мазохизма. Сначала Фрейд рассматривал садизм как сексуальное влечение, в котором гипертрофирован нормальный агрессивный компонент, а мазохизм — как вторичный феномен, возникающий при обращении садизма на себя. Садизм как очевидная разновидность сексуального влечения отличался при этом той интересной особенностью, что был «не слишком любвеобильным» и слишком явно примыкал к влечению к обладанию как разновидности влечений «Я».
И все же как на поворотный пункт в развитии теории влечений Фрейд указывает не на сложности интерпретации агрессивных компонентов сексуального влечения, а на начало углубленного изучения нарциссизма.
«Решающим для этого было введение понятия нарциссизма, т.е. точки зрения, согласно которой само “Я” находится во власти либидо, являясь не только первоначальным вместилищем, но оставаясь в известной мере и главной штаб-квартирой либидо. Либидо нарциссического характера обращается на объекты, становится “объект-либидо” и может снова приобрести нарциссический характер. Понятие нарциссизма позволило психоаналитически объяснить травматические неврозы и многие близкие к психозам аффективные состояния. Объяснение неврозов перенесения как попытки защиты “Я” от сексуальности можно было при этом не отбрасывать, но тогда наступали сомнения в отношении понятия либидо. Так как и инстинкты “Я” имели либидонозный характер, некоторое время казалось неизбежным вообще признать тождество между либидо с энергией первичных позывов, как это уже раньше намеревался сделать К. Г. Юнг. Но при этом оставалась какая-то недоказуемая уверенность, что не все первичные позывы имеют одинаковую природу. Следующий шаг я сделал в работе “По ту сторону принципа наслаждения”».
Так в 1930 году, оглядываясь назад, описывал ситуацию сам Фрейд.
Позже во многих работах Фрейд искренне удивляется: «почему нам понадобилось так много времени, чтобы решиться признать существование стремления к агрессии, почему столь очевидные и общеизвестные факты не использовались без промедления для теории?». Экзистенциальный психотерапевт Ирвин Ялом, анализируя творчество Фрейда, отмечает, что, начиная с первых работ, Фрейд не просто не замечал, а старательно избегал тематики смерти. Ялом уверен, что при всей невероятной интуиции Фрейда тема смерти оставалась для него слепым пятном, скрывавшим некоторые очевидные аспекты внутреннего мира человека.
Фрейд на самом деле очень долго исключал агрессивность и деструктивность из сферы своих интересов, рассматривая их как вторичные феномены в паре сексуального инстинкта и инстинкта самосохранения. Он долго не решался признать существование внутри человека тенденций, направленных против жизни, а признав, неоднократно удивлялся тому, что не сделал этого раньше. «Мне теперь непонятно, как мы проглядели повсеместность неэротической агрессивности и деструктивности, упустили из виду принадлежащее ей в истолковании жизни место».
Ранее, когда в 1908 году Адлер выдвинул идею агрессивного влечения, Фрейд хотя и внимательно отнесся к ней, но, тем не менее, не согласился ее принять: «я не могу решиться признать особое агрессивное влечение наряду и на одинаковых правах с известными нам влечениями самосохранения и сексуальными». Фрейд рассматривал тогда агрессивность как компонент любого влечения и считал, что если исключить из других влечений агрессивность как активную направленность на достижение, то от последних ничего кроме собственно отношения к цели и не останется: «несмотря на всю сомнительность и неясность нашего учения о влечениях, я все-таки пока держался бы привычных воззрений, которые признают за каждым влечением свою собственную возможность сделаться агрессивным».
Так же негативно отнесся Фрейд и к докладу Сабины Шпильрейн на заседании Венского психоаналитического общества 25 ноября 1911 года. Ещё в 1909 году Шпильрейн высказала предположение, что наряду с сексуальным влечением, вместе с ним существует влечение к разрушению и уничтожению жизни. Свои мысли она доложила на заседании в присутствии Фрейда, Федерна, Ранка, Сакса, Штекеля, Тауска и опубликовала в 1912 году. На следующем заседании в ноябре того же года Шпильрейн, выступая с сообщением «О трансформации», поставила вопрос о существовании инстинкта смерти, сделав при этом ссылку на И.И. Мечникова, который в 1905 году в работе «Этюды о природе человека» выдвинул идею «инстинкта смерти», полагая, что «данный инстинкт гнездится в глубине человеческой природы в скрытом состоянии». Удивительно, что Фрейд упрекнул тогда Шпильрейн в попытке обосновать теорию инстинктов исходя из биологических представлений, хотя сам не только всегда располагал теорию влечений на границе между биологией и психологией, но и неоднократно сам подвергался критике за это.
Достойно подчеркивания и то, что первый крупный камень в фундамент теории влечения к смерти был взят из научной каменоломни российского биолога и заложен еврейской женщиной, родившейся и выросшей в России, и на этом камне были написаны немецкие слова «Die Destruktion als Ursache des Werdens». Судьба распорядилась так, что немецкую речь и немецкие слова услышала эта великая ростовская еврейка в тот самый день, когда ее вместе с двумя дочерьми расстреляли у стен ростовской синагоги в 1941 году.
Теория деструктивного влечения Сабины Шпильрейн
О Сабине Нафтуловне Шпильрейн, родившейся в 1885 году в России, в Ростове-на-Дону, написано несколько исследований. В их числе переведенное на многие европейские языки монографическое исследование итальянского профессора Альдо Каротенуто ее дневников и личной переписки с Юнгом и Фрейдом. В 1993 году Александр Эткинд в работе «Эрос невозможного. История психоанализа в России» посвятил Сабине Шпильрейн отдельную главу. В 1994 году знаменитая статья Шпильрейн «Деструкция как причина становления» была впервые опубликована в России в философско-литературном журнале «Логос», а в 1999 году по праву включена в 1-й том антологии российского психоанализа. Тем не менее, до сих пор признается, что «несмотря на большое значение Сабины Шпильрейн она сегодня полностью забыта», и что «в России даже иные доктора психологических наук никогда не слышали ее имени».
Первая пациентка Юнга, которую он лечил, используя аналитический метод, не только обогатила опытом своей судьбы своего лечащего врача, но и сама, обогащенная опытом психоанализа, стала позднее видным психоаналитиком, членом Венского психоаналитического общества и пополнила психоанализ своей теорией деструктивности. Эткинд высказывает осторожное предположение, что знаменитое открытие Шпильрейн, возможно, вытекает непосредственно из ее сложных личных отношений с Юнгом. «Демоническая сила, сущностью которой является разрушение (зло) – в то же время и есть творческая сила, потому что из разрушения двух индивидов появляется новый индивид. Это и есть сексуальное влечение, которое по своей природе есть влечение к разрушению, влечение индивида к уничтожению себя», – записала Шпильрейн в своем дневнике в 1909 году. Примерно в то же время их роман с Юнгом претерпевает критическую фазу. Шпильрейн посылает Юнгу свою статью «Деструкция как причина становления» и пишет: «Дорогой мой! Получи дитя нашей любви… Это исследование значит для меня больше чем жизнь». Известно, что Шпильрейн мечтала иметь ребенка от Юнга, который соединил бы в себе величие арийской и еврейской рас. Юнг, судя по всему, был категорически против ребенка, а в письме к Фрейду подверг уничтожающей критике и статью.
Шпильрейн в статье о личных мотивах, разумеется, не упоминает, а ссылается на опыт своей аналитической работы. Анализируя сексуальность девушек, она заинтересовалась: «почему этот могущественный инстинкт, инстинкт продолжения рода, наряду с положительными эмоциями, которые можно ожидать «априори», содержит отрицательные — такие как тревогу и отвращение». Она высказывает здесь удовольствие от возможности сослаться на идеи Юнга по поводу либидо, являющегося как силой, которая всё украшает, так и силой, которая в определённых обстоятельствах способна всё разрушать.
В работе «Либидо, его метаморфозы и символы» Юнг незадолго до этого написал: «Давать жизнь другим, значит разрушать самого себя, так как с возникновением следующего поколения поколение предшествующее перешло высший путь своего развития; так наши потомки становятся опаснейшими врагами для нас; мы не можем с ними справиться, так как они нас переживут, и потому наверняка вырвут власть из наших обессиленных рук». И чуть ниже Юнг делает замечание по поводу того, что тот человек (невротик), который откажется жить естественной, полной риска жизнью, «будет вынужден подавлять в себе искушение совершить самоубийство». Шпильрейн по этому поводу в другом месте цитирует Ницше, который подметил не только разрушительный аспект продолжения жизни, но и его приятность: «Но я лежал, прикованный любовью к своим детям: желание любви наложило на меня эти узы, так что я сделался жертвою своих детей и из-за них потерял себя». В саморазрушении ради детей своих столько приятности, что многие, очень многие готовы ради этой цели разрушить не только себя, но уже и самих детей своих, задушить их своей ненасытной любовью ради утоления жажды своего удовольствия.
Замечательно, что Сабине Шпильрейн удалось связать между собой (даже помимо их желания) два гениальных ума: Юнга, на выводы которого она ссылается как полностью соответствующие своим, и Фрейда, который в работе «По ту сторону принципа удовольствия» в свою очередь ссылается на Шпильрейн как «предвосхитившую значительную часть его рассуждений».
Сама Шпильрейн, работая с девушками, заметила, что у них при возможности реализовать свои сексуальные желания часто возникает определенный страх: девушка чувствует врага в самой себе: «это собственный жар любви, с железной необходимостью принуждающий к тому, чего не хотят, они чувствуют скороприходящий конец, от чего напрасно хотелось бы бежать в незнакомые дали. Им хотелось бы спросить — и это все? Это вершина и больше ничего не будет сверх этого?». Аналогичным образом одна из моих пациенток, способная к глубокому самоанализу, однажды задумалась над тем, что её разрушает изнутри. В ходе активного фантазирования она увидела тёмную окружность с острыми, как бы торчащими краями, в которую входила и выходила нечёткая продолговатая тень. В этом ритмичном движении она безошибочно узнала сексуальную символику и поняла, что это (сексуальность) и есть то, что её разрушает. «Чувствовалось, что этому нет никакого дела до меня всей в целом, до моих рук, ног, головы… Оно занято только собой и до меня ему никакого дела нет… Оно очень агрессивно…», — рассказывала она мне.
Шпильрейн, так же, как позже Фрейд, ссылается на биологические факты, указывающие на то, что многие живые существа погибают непосредственно в момент произведения новой жизни и нового поколения. Высокоорганизованный организм, естественно, не весь разрушается в момент полового акта, но уничтожаются его важнейшие экстракты: мужская часть растворяется в женской, а женская, благодаря внедрению чужого захватчика, начинает быстро и интенсивно перестраиваться и разрушаться. При этом как чувство наслаждения, заложенное в инстинкте продолжения рода, так и страх и отвращение соответствуют разрушительным компонентам самого сексуального влечения.
Шпильрейн практически полностью предвосхищает дальнейшие мысли Фрейда по поводу стремления всего живого к начальному неорганическому состоянию. Она пишет, что не зря Анаксагор находил происхождение мировой скорби в дифференцировании сущего из праэлементов. Боль человеческого бытия заключается в том, что «каждая частица нашего существа стремится к обратному превращению в свою изначальность, из чего потом опять проистекает новое становление».
Соглашаясь в целом с постулатом Фрейда о подчиненности психической деятельности принципу удовольствия и переходя к анализу первой дуалистической теории влечений, Шпильрейн, в отличие от Фрейда, не столько противопоставляет их, сколько рядополагает, указывая, что напряженность одного снижается удовлетворением другого и что во многом они взаимозаменяемы.
Замечая возможность наслаждения от боли, «которая сама по себе тяжело окрашена неудовольствием, ведь боль соответствует повреждению индивида, чему противится в нас инстинкт самосохранения», она признает, что в «нашей глубине есть что-то, как бы парадоксально это ни звучало a priori, желающее этого самоповреждения, поскольку «Я» реагирует на это с удовольствием. Желание самоповреждения, радость от боли, однако совершенно непонятны, если мы учитываем только жизнь «Я», желающего иметь только удовольствие».
Опираясь на позиции Юнга, Шпильрейн описывает возможный антагонизм между «Я» и «родовой душой», когда интересы «Я» могут не совпадать с интересами родовой души, и то, что человек не столько индивидуум, сколько «дивидуум», так как психика разделена и состоит из комплекса автономий. При определенных обстоятельствах автономный комплекс «Я» имеет неодолимое стремление раствориться в душе рода. Что же может означать это растворение для «Я»-частицы, если не смерть? — резонно спрашивает Шпильрейн, и подчеркивает, что именно для пациентов с расстройствами психической деятельности (шизофренией и неврозами) характерно выраженное преобладание тенденции комплекса «Я» к разрушению, а не становлению. Если при шизофрении комплекс «Я» полностью поглощается родовой психикой и «Я» прекращает функционировать, то при неврозах «Я» ведет изнурительную символическую борьбу с резко усиленной тенденцией к разрушению. Поскольку с точки зрения Шпильрейн разрушение тесно связано и вытекает из сексуальности, становится понятен страх невротиков перед сексуальностью, половым актом и беременностью. Внутри невротиков деструктивный импульс и так силен настолько, что лишь ценой существенного понижения качества своей жизни они могут выдерживать его осаду. Сексуальность и половой акт для невротика – это настоящий троянский конь, с помощью которого деструктивность пытается проникнуть вглубь охраняемого неврозом ригидного центра «Я».
Заметим здесь одну важную неточность, которую допускают многие авторы, изучающие теорию Шпильрейн. Считается, что Шпильрейн противопоставляет сексуальное влечение влечению к разрушению и уничтожению жизни. Если мы внимательно прочитаем работу Шпильрейн, то поймем, что это не так. Она обнаружила в сексуальном влечении деструктивный компонент, она обнаружила связь сексуальных желаний и представлений о смерти, амбивалентность сексуального влечения, но она не постулировала их противоположности. Она постулировала их рядоположность в силу амбивалентности сексуального влечения и наличия в нем деструктивного компонента, но амбивалентность — не есть противоположность. Это противопоставление — результат дальнейшего развития идеи Шпильрейн Фрейдом. Шпильрейн писала лишь о том, что «инстинкт сохранения вида по своей сути амбивалентен; поэтому возбуждение положительной составляющей вызывает одновременно возбуждение отрицательной и наоборот». Она полностью соглашается со Штекелем, который также выводил деструктивные тенденции из сексуальности, но не сексуальные тенденции из деструктивности. Она цитирует Штекеля, который писал, что «высшее удовлетворение жизнью часто выражается в желании смерти. Похожие психологические воззрения имеют, впрочем, значение и для самоубийства и также выбор смерти находится под влиянием эротических фантазий. Эти мысли неоднократно повторялись поэтами; также и философы неоднократно освещали эти связи между Эросом и Танталом. Даже смерть во сне, как часто и в жизни, всего лишь убийство из удовольствия и часто представляет собою не что иное, как ярко окрашенный садистический половой акт». Если обычное «обузданное» сексуальное влечение протекает со слабыми деструктивными проявлениями: поддразниванием, причинением боли, то «дикая страсть садиста разряжается в отвратительных сценах, которые могут дойти до убийства из сладострастия», — пишет Шпильрейн.
Все имеющиеся у человека деструктивные тенденции Шпильрейн последовательно выводит из сексуальности: «соответственно содержащимся в сексуальном инстинкте разрушающим элементам, более активно настроенный мужчина имеет также и более садистические желания: он хочет разрушить возлюбленную, женщина, представляющая себя по преимуществу как объект любви, хочет быть разрушенной», а «направленная против себя любовь ведет к самодеструкции, так, например к самоумерщвлению плоти, мученичеству, да и к полному уничтожению собственной сексуальности как при кастрации».
В конце работы она подтверждает связь между сексуальностью и деструктивностью амбивалентным значением сексуальной символики во снах и мифологии (например, лошадь – одновременно символ сексуальности и смерти). Она приводит пример любви Христа к человечеству и его смерть на кресте, который по легенде был сделан из древа жизни, выросшего над могилой Адама – первого человека на Земле. Она вспоминает Ницше, в творчестве которого сексуальность и деструктивность переплелись очень тесно, а Ницше вспоминает всех поэтов, вечно рифмующих любовь и смерть.
Недавно мы закончили разработку варианта ассоциативного теста для выявления патологической авитальной активности. Для этих целей были отобраны 60 слов, из которых 20 имели отношение к теме смерти, 20 — к теме жизни, а 20 были нейтральными. Мы предполагали, что бессознательное усиление влечения к смерти должно привести к усилению страха смерти, и этот страх приведет к образованию отрицательно заряженного комплекса смерти, который можно будет выявить по увеличению времени реакции на слова, имеющие отношение к теме смерти, в сравнении со временем реакции на нейтральные слова. Наше предположение полностью подтвердилось. Комплекс смерти был выявлен как у психически здоровых лиц группы контроля (достоверное увеличение среднего времени реакции на слова, имеющие отношение к теме смерти, на 25 процентов), так и существенно усилен у лиц с невротической патологией (увеличение среднего времени реакции на 100 и более процентов). У 50-ти человек группы контроля мы решили посмотреть, какие из предложенных шестидесяти слов, вне зависимости от их принадлежности к трем темам (жизнь, смерть и нейтральные), дадут максимальное увеличение времени реакции, то есть на какие слова человеческий мозг дает максимальную эмоциональную реакцию. Когда компьютер закончил обработку информации и выдал нам результат, мы с коллегой очень долго смеялись, потому что с помощью теста, который разрабатывался около года, с помощью методов математической статистики, с помощью компьютерной обработки материала мы получили знание, которым на протяжении тысяч лет владели все поэты. Компьютер выдал нам два слова, вызывающие максимальное увеличение времени реакции: «смерть» и «любовь».
Завершает свой труд Шпильрейн словами: «Смерть сама по себе ужасна, смерть на службе у сексуального инстинкта, то есть как его разрушающая составляющая, ведущая к становлению, приносит благо».
В 1913 году, буквально через год после публикации работы Шпильрейн, в интернациональном журнале психоанализа появляется положительная рецензия Пауля Федерна — официального личного представителя Фрейда. В ней выражается признательность Шпильрейн за попытку теоретического анализа амбивалентных компонентов влечений.
«Так как эти проблемы в настоящее время пока недоступны разрешению, — пишет Федерн, — то нам не остаётся ничего иного как не вступая в полемику относительно её гипотез быть благодарными Шпильрейн за кропотливую и необычайно интересную работу, в которой представлены взаимосвязи представлений смерти и возрождения, влечения к продолжению рода и желаний смерти, утверждения Я и стремления затеряться в универсальном».
Фрейд, не испытывающий к Сабине Шпильрейн той личной неприязни, которую он испытывал к Адлеру, в письме к Юнгу отозвался о ее работе тем не менее довольно скептически. Он признает ее талант и даже видит смысл во всем, что она сообщает, но «её деструктивное влечение мне не очень нравится, потому что мне кажется, что оно личностно обусловлено. Она выглядит ненормально амбивалентной». Правда, здесь нужно помнить, кому написаны эти слова — бывшему лечащему врачу докладчицы, который не только не сумел удержаться с ней в рамках отношений «врач — пациент», но и призвал Фрейда в качестве третьей стороны. По разным причинам Фрейд встал на сторону Юнга.
Лишь в 1914 году, через месяц после начала первой мировой войны, в журнале «Имаго» Фрейд опубликовал статью «Современный взгляд на войну и смерть», в которой впервые задался вопросом:
«Не лучше ли нам придавать смерти в жизни и наших мыслях место, которое ему соответствует, и уделять больше внимания нашему бессознательному отношению к смерти, которое мы обычно так старательно подавляем?». Спустя восемнадцать лет Фрейд скажет: «Я помню моё собственное защитное отношение к идее инстинкта разрушения, когда она впервые появилась в психоаналитической литературе, и то, какое долгое время понадобилось мне, прежде чем я смог её принять».
В работе «По ту сторону принципа удовольствия», с которой принято отсчитывать начало развития теории влечения к смерти, Фрейд делает ссылку на Сабину Шпильрейн: «В одной очень богатой содержанием и мыслями работе, к сожалению, не совсем понятной для меня, Сабина Шпильрейн предвосхитила значительную часть этих рассуждений». Эта ссылка Фрейда не помешала Юнгу позже обвинить Фрейда в том, что последний присвоил идею его ученицы.
Нельзя сказать, что обвинения Юнга в данном случае обоснованы. Сабина Шпильрейн, равно как и Адлер, выдвинула лишь идею (от которой Адлер, кстати, позднее отказался). Фрейд же, исходя из собственного клинического материала, самостоятельно развил эту идею в смелую теорию, которая заставила его в корне пересмотреть основы психоаналитической парадигмы, и, может быть, никогда ранее он не высказывал столько осторожности и сомнений по поводу своих рассуждений и выводов. «Меня могли бы спросить, — писал он, — убеждён ли я сам, и в какой мере, в развитых здесь предположениях. Ответ гласил бы, что я не только не убеждён в них, но и никого не стараюсь склонить к вере в них. Правильнее сказать, я не знаю, насколько я в них верю». Только в 1923 году Фрейд окончательно формулирует свои выводы относительно «двух видов первичных позывов», действующих «в каждой живой субстанции». Но и в 1933 году, спустя 13 лет после выхода в свет «По ту сторону принципа удовольствия», Фрейд всё ещё пишет как о гипотезе о наличии «влечений к смерти (Todestrieb), которые противостоят этому стремлению (влечению к жизни) и приводят живое к неорганическому состоянию». Он всё ещё опасается обвинений со стороны читателей в спекулятивной философии и заявляет, что не пойдёт «дальше той области, где нам открылась эта точка зрения»
По ту сторону принципа удовольствия
Основные положения теории влечения к смерти были сформулированы Фрейдом в работе «По ту сторону принципа удовольствия». Работа состоит из семи частей. Психоанализ большое значение придаёт символике, которая через бессознательные пласты психики влияет на нашу психическую активность. Фрейд в своей работе фактически заново создаёт теоретические основы психоанализа — и как Бог создал Землю за семь дней, так и Фрейд выделяет в своей работе семь этапов. Каждая из семи частей постепенно и последовательно ведёт читателя к формулировке той знаменитой концепции влечения к смерти, которая и в настоящее время вызывает самые ожесточённые споры даже в среде последователей Фрейда.
Схематически статья представляет собой примерно следующее:
1.
В первой части Фрейд говорит о принципе удовольствия, которому подчиняется вся психическая жизнь, и о том, что удовольствие связано с уменьшением напряжения и наоборот.
2.
Во второй части приводятся три примера, когда психическая активность не подчиняется принципу удовольствия: навязчивые повторяющиеся кошмарные сновидения, неоднократное проигрывание психотравмирующих ситуаций у детей, драматическое и трагическое театральное искусство.
3.
В третьей части высказывается предположение, что за стремлением к навязчивому повторению неприятных моментов кроется некое влечение, не подчиняющееся принципу удовольствия.
4.
В четвертой с помощью модели простейшей организации жизни Фрейд пытается понять принцип удовольствия и делает шаг для объяснения противоречащих ему фактов с помощью кроющегося за ними иного принципа.
5.
В пятой части на основании многочисленных примеров «стремления к повторению» в органической жизни Фрейд предполагает в живом организме стремление к восстановлению прежнего неорганического состояния, то есть влечение к смерти.
6.
В шестой части, исходя из этого, Фрейд впервые постулирует новую пару противоположно направленных влечений: влечение к жизни и влечение к смерти.
7.
В седьмой части приходит к трудному, но окончательному выводу: принцип удовольствия находится на службе у влечения к смерти.
Начиная свою работу с того, что «в психоаналитической теории мы без колебания принимаем положение, что течение психических процессов автоматически регулируется принципом удовольствия», Фрейд заканчивает её тем, что «влечение к жизни» выступает нарушителем мира покоя, принося с собой напряжение. Разрешение от напряжения, связанного с влечением к жизни, воспринимается как удовольствие, «влечение к смерти непрерывно производит свою работу, и принцип удовольствия находится в подчинении у влечения к смерти».
Между первой фразой в начале работы и второй фразой в конце находится тот водораздел, который сразу же и на многие десятилетия расколол всех учёных, занимающихся проблемами витальной активности, на два лагеря: принявших концепцию Фрейда о влечении к смерти и отвергнувших её как «чуждую биологии… не только ненужную, но и неверную», как вообще «малопонятную» и «жалкую путаницу».
Фрейд только в конце работы осознанно приходит к выводу о том, что принцип удовольствия на самом деле обслуживает влечение к смерти. В начале работы он больше говорит о принципах удовольствия и реальности, как бы подготавливая читателя к путешествию «по ту сторону принципа удовольствия» — на территорию влечения к смерти, но, что интересно, уже в первой части он целиком и полностью находится на территории смерти, рассуждает, сам того не подозревая, о смерти и даже во многом объясняет многие принципы проявлений смерти в организме.
Самые первые фразы «По ту сторону…», будучи «переведёнными» с учётом наших теперешних знаний, начинают звучать совершенно естественно и не требуют тех трудных интеллектуальных «сальто-мортале», которые приходится совершать Фрейду на протяжении всех семи частей работы.
Он пишет в первой части: «Под влиянием стремления организма к самосохранению принцип удовольствия сменяется «принципом реальности», который, не оставляя конечной цели — достижения удовольствия, откладывает возможности удовлетворения и временно терпит неудовольствие на длинном окольном пути к удовольствию».
Поскольку мы знаем, что за удовольствием лежит влечение к смерти и его удовлетворение, а за неудовольствием – напряжение, возникающее в результате деятельности механизмов, препятствующих его мгновенной разрядке путем «короткого замыкания», поскольку мы знаем, что лежит за «удовольствием» и «неудовольствием», эта фраза легко может быть прочитана нами таким образом: «Под влиянием стремления организма к самосохранению влечение к смерти сменяется «принципом реальности», который, не оставляя конечной цели — достижение смерти, откладывает возможности удовлетворения и временно терпит жизнь на длинном окольном пути к смерти».
Этой теме будет посвящён далее весь пятый раздел работы, где Фрейд уже открыто напишет: «Положение о существовании влечения к самосохранению, которое мы приписываем каждому живому существу, состоит в заметном противоречии с утверждением, что вся жизнь влечений направлена на достижение смерти. Получается, что организм хочет умереть только по-своему. Он противится всем возможностям достигнуть смерти самым коротким путём».
Но, как мы могли только что убедиться, уже на первых страницах первого раздела работы вся теория влечения к смерти представлена Фрейдом в полном объеме. Еще одна фраза первого же раздела поможет нам убедиться в этом. Фрейд пишет: «Всякое невротическое неудовольствие есть подобного рода удовольствие, которое не может быть воспринято как таковое».
При нашем переводе это буквально означает следующее: «Всякая невротическая жизнь есть подобного рода смерть, которая не может быть воспринята как таковая».
Вдумайтесь в смысл этой фразы, которая сразу же объясняет нам, как невротические пациенты или пациенты, страдающие зависимостью от алкоголя и наркотиков, нашли способ обмануть принцип, который мешает всем нам умереть максимально быстро, получив при этом максимум удовольствия. Они организовали свою жизнь таким образом, что система хронификации жизни не может качественно зафиксировать усиление влечения к смерти и организовать достойный отпор. Но к этой проблеме мы ещё вернемся позже.
Далее во второй части Фрейд описывает у людей, реально переживших опасность для жизни, феномен, который, видимо, противоречит принципу удовольствия. Больной с травматическим неврозом во время сна возвращается в ситуацию, вызвавшую когда-то невроз, и каждый раз заново переживает испуг. И Фрейд отмечает, что этому крайне мало удивляются. Фрейд использует этот пример только для того, чтобы показать психическую активность, выходящую за рамки принципа удовольствия. Он обращает внимание, что в то время как лица, страдающие травматическим неврозом, в бодрствующем состоянии всеми силами стараются избегать травмирующих воспоминаний или вообще о них не думать, во сне они вновь и вновь навязчиво попадают в травмировавшую ситуацию, что плохо соотносится с природой сна. Природе сна больше соответствовало бы, с точки зрения Фрейда, возвращать человека в тот период, когда он был здоров, или рисовать ему картины скорейшего выздоровления. Здесь Фрейд опирается на свое предположение, что в основе сна, как и в основе любой формы психической деятельности, лежит принцип удовольствия, а удовольствие должно быть связано со здоровьем или выздоровлением. Таким образом, у этих пациентов Фрейд полагает либо существенное повреждение природы сна, либо некие загадочные мазохистические тенденции Я.
Переходя далее к примерам детского проигрывания травматических событий (уход матери), драматическому и трагическому театральному искусству, он предлагает читателям оставить «тёмную и мрачную тему травматического невроза», используя его лишь для того, чтобы показать факт психической активности, выходящий за рамки принципа удовольствия. Фрейд не доводит анализ травматических сновидений до конца.
Травматический невроз
Восполняя этот пробел, попытаемся понять, какие сознательные и бессознательные динамические процессы протекают в психике пациентов, страдающих посттравматическим стрессовым расстройством, и как эти процессы обусловливают всё разнообразие его феноменологии.
Как известно посттравматическое стрессовое расстройство развивается в ответ на травмирующие психику экстремальные воздействия, при которых человек как правило является участником или свидетелем событий, сопряженных с тяжелыми травмами, гибелью или угрозой гибели людей или угрозой ему самому, и испытывает при этом сильный страх, тревогу или беспомощность.
Д. Калшэд суммируя выводы, полученные в результате наблюдений за людьми, перенесшими травму, пишет, «как бы сильно он или она не желали измениться, как бы настойчиво ни пытались улучшить свою жизнь или отношения, нечто более могущественное, чем эго, постоянно подрывает прогресс и разрушает надежду… как если бы индивид был одержим некой дьявольской силой» и приходит к выводам о том, что:
1) травмированная психика продолжает травмировать саму себя;
2) люди, перенесшие психическую травму, постоянно обнаруживают себя в жизненных ситуациях, в которых они подвергаются повторной травматизации.
Изучение имеющейся литературы позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день посттравматическое стрессовое расстройство — одно из наиболее феноменологически изученных расстройств психической деятельности, и в то же время — одно из наименее изученных и понятых в психодинамическом плане. Ч. Райкрофт специально подчеркивает, что травматический невроз отличается от других неврозов тем, что его симптомы, включая травматические сновидения, не поддаются интерпретации и он лишен бессознательного смысла.
Имеет распространение гипотеза Карла Абрахама начала века о реактивации при травматическом неврозе ранних детских неразрешенных эмоциональных травм. Абрахам описал своеобразный феномен «травмофилии» у людей, которые, страшась травматических ситуаций, бессознательно ищут их. Согласно схожей точке зрения Отто Фенихеля пациенты желают повторения травмы, стремясь к ее отреагированию, «чтобы разрешить болезненное напряжение», однако это повторение вновь и вновь приносит страдание, и больной оказывается в порочном круге. Эта психодинамическая гипотеза в качестве единственной приводится Г. Каплан и Дж. Сэдок в руководстве по клинической психиатрии.
Приходится констатировать, что попытка понять психодинамику травматического невроза, предпринятая Фрейдом в работе «По ту сторону принципа удовольствия» если и не забыта, то фактически не используется. В предисловии к русскому переводу «По ту сторону…» Лурия и Выготский писали, что даже правоверные психоаналитики находят возможным обойти эту одинокую работу молчанием.
Что же происходит при травматическом неврозе?
Если мы с вами взглянем на ситуацию с точки зрения тифоаналитической теории, утверждающей, что в основе жизнедеятельности человека лежит влечение к смерти, и что на протяжении всей своей жизни человек наравне с животными успешно усваивает модели поведения, обеспечивающие нормальное функционирование в границах, обусловленных системой хронификации жизни. Напряжение и боль, вызванные прекращением поступления кислорода в организм сразу же после рождения, приводят к автоматическому запуску механизма дыхания. Напряжение и боль, вызванные прекращением поступления в организм пищи после рождения приводят к крику и укореняющему поведению. Уже эти модели поведения очень сложны, и с каждым годом они становятся все сложнее.
Человеку дорого приходится платить за достижение удовольствия, расслабления и покоя. На протяжении всей своей жизни он развивает и совершенствует системы получения максимального удовольствия ценой минимального неудовольствия. У кого-то это получается лучше, у кого-то хуже.
Столкнувшись с реальной опасностью для жизни, человек внезапно обнаруживает для себя возможность умереть (достигнуть полного покоя) значительно быстрее, чем позволяло ему рассчитывать его собственное сознание, прикрытое страхом. Но в тот же момент, когда эта «соблазнительная» идея начинает проникать в его сознание, система хронификации жизни незамедлительно пытается блокировать её, включая негативные эмоции тревоги, страха и ужаса.
На феноменологическом уровне этот процесс ведёт к тому, что в бодрствующем состоянии человек с посттравматическим стрессовым расстройством стремится всячески избегать мыслей, ощущений и разговоров, связанных с тем, что он пережил. Он избегает людей, мест и деятельности, вызывающих воспоминания о случившемся, ему трудно воспроизвести в сознании многие важные детали пережитого, у него возникают выраженная тревога и дискомфорт от напоминаний или намёков на пережитые события. Фрейд пишет, что ему не известны случаи, когда больные с травматическими расстройствами в бодрствующем состоянии уделяли много внимания своим воспоминаниям.
Но далее сама клиника и феноменология травматического невроза наталкивает нас на мысль, что полностью осуществить блокаду и вытеснить нежелательную информацию системе хронификации жизни не удается. Слишком поздно. Психика уже подметила и зафиксировала всю «прелесть» и «притягательность» ситуации. Не только характерные повторяющиеся сновидения, включающие сцены из пережитых событий, но и повторяющиеся навязчивые воспоминания, доходящие в своей интенсивности до иллюзорных и галлюцинаторных феноменов (флэшбэки), заставляют нас вслед за Фрейдом предположить, что в психической реальности действует сила, для которой ситуация с максимальным риском для жизни представляет несомненную ценность.
При этом нужно заметить, что состояние сна, когда происходит основной прорыв воспоминаний, много ближе к смерти, чем состояние бодрствования. Во время сна функционирование системы хронификации жизни в значительной степени ослаблено. Во сне человек как бы забывает, что нельзя думать о смерти, и навязчиво, раз за разом возвращается к моменту максимальной близости с желанным состоянием небытия, которое он однажды случайно «подсмотрел» в жизни.
Но система хронификации жизни «не спит» даже во время сна и, как только распознаёт мысленное посягательство на жизнь, «наказывает» немедленным пробуждением, тревогой, испугом и ужасом, лишает человека удовольствия блаженного сна, вызывает в дальнейшем затруднение засыпания и поддержания сна. Феноменологически наблюдаются реакции избыточной активации: бессонница, сверхбдительность, раздражительность, преувеличенная реакция испуга. Психодинамически это соответствует гиперактивации систем хронификации жизни. За попытку достичь удовольствия смерти человек лишается в наказание малого удовольствия сна.
Клинические примеры развития посттравматических стрессовых расстройств можно приводить до бесконечности — это одна из наиболее часто встречающихся проблем в современной психопатологии, учитывая, что данный механизм не столь очевидно, но со столь же плачевными результатами присутствует в значительном количестве расстройств психической деятельности, описываемых в других рубриках.
Типичный пример — панические атаки.
В любом случае панической атаки, сняв пласт тревожной, фобической и обсессивной симптоматики, мы обнаружим пусковую ситуацию, которая недвусмысленно довела до сознания человека тот факт, что его существование не безусловно — вполне возможны и иные варианты. То же самое мы обнаруживаем в случаях обсессивно-фобических расстройств и других.
Правда, здесь мне могут задать один каверзный вопрос из разряда тех, которые в свое время и я сам задавал себе: почему не у всех людей, которые сталкиваются с ситуациями, угрожающими их жизни, развивается травматический невроз? Кроме того, я уверен, любой клиницист может привести не один пример, когда травматический невроз после столкновения с ситуацией угрожающей жизни развивался у человека, который ранее уже сталкивался с ними, но, невроза ранее не развивалось. Например, один из моих пациентов, в результате своей финансовой оплошности утратил достаточно большую сумму денег. Эти деньги не принадлежали ему, и за утрату такой суммы в этот период развития экономики в России просто убивали. Он это великолепно понимал. У него была реальная возможность бежать. Однако он поступил иначе: поцеловал жену, сына и пошел к тем людям, которые доверили ему деньги, и сказал им, что, если они хотят его убить, то, собственно, вот и он, но если удовольствию от его смерти есть какая-то альтернатива, то он хотел бы попросить еще денег и постарается исправить свою ошибку. Денег ему дали, и ошибку он исправил, заняв спустя несколько лет очень достойное место в бизнесе. Никакими существенными расстройствами психической деятельности весь этот период не сопровождался, равно как и весь предыдущий период его достаточно неспокойной жизни. За помощью он обратился много позже — после того как за границей случайно попробовал покурить вещество, производное конопли. У него произошел сосудистый коллапс, и он был доставлен в местную реанимацию. Сразу после реанимации развернулась клиника панических атак, и в Россию его везли в самолете, завернутым в несколько одеял и трясущимся от страха и ужаса неминуемой смерти.
В настоящий момент я лечу пациентку, которая в силу особенностей своей работы вынуждена часто и далеко ездить на машине. Год тому назад она попала в тяжелую автокатастрофу. В машину, на которой она ехала, врезалась другая машина, и пациентке еще повезло, так как она получила «всего лишь» множественные ушибы мягких тканей лица и сотрясение мозга. Вместе с ней в машине ехали водитель и ее коллега по работе. Они тоже пострадали, но, со слов пациентки, быстро забыли о произошедшем (коллега даже не стала рассказывать о происшедшем у себя дома). Она же уже год не может избавиться от страха транспорта, не может ездить со скоростью выше 60 км/час, ей постоянно снятся кошмарные сновидения в которых травматическая ситуация не только проигрывается вновь и вновь, но и еще более усугубляется ужасными сценами, в которых ее разрывает на части и она лежит в луже собственной крови.
Фоном для развития травматического невроза у пациентки служит крайне неблагоприятная ситуация в личной жизни. Она живет с мужчиной, который не удовлетворяет ее ни в каких отношениях, не будучи в силах ни бросить его, ни терпеть дальше. Семейная жизнь водителя и коллеги по работе вполне удовлетворительная.
Для того чтобы у человека возникла клиника посттравматического стрессового расстройства, мало одной лишь реальной угрозы его жизни — необходимо, чтобы с другой стороны существовало мощное, патологически усиленное влечение к смерти.
Только тогда — для того, чтобы влечение к смерти и ситуация, которая способна его реализовать, не встретились между собой — между ними возникает мощный вал фобической симптоматики, разделяющий их. Лишь тогда становится понятно, почему в этом случае влечение к смерти начинает «привязываться» к любым ситуациям, хотя бы отдаленно напоминающим притягательную. Люди с посттравматическим стрессовым расстройством боятся смотреть передачи, в которых показывают эпизоды насилия, они не могут читать газеты, в которых имеется милицейская хроника, не могут слушать любые рассказы, в которых приводятся примеры, как кто-то заболел или с ним произошло какое-то несчастье. Они слишком хотят, чтобы все это с ними произошло, чтобы система хронификации жизни могла позволить им получать доступ к подобной информации. Они в данном случае напоминают старых дев, которые настолько хотят сексуального удовлетворения, что вынуждены избегать любых сексуальных тем и любой сексуальной информации, панически пугаясь ее. Человек, у которого система сексуальности работает нормально, и равным образом человек, у которого влечение к смерти не усилено, с удовольствием относятся и к теме сексуальности, и к теме смерти. По большому счету, это и есть те две основные темы, которые интересуют подавляющее большинство нормальных людей, с удовольствием движущихся дорогой сексуальности к смерти.
Стремление назад
Не доведя до конца разбор травматических неврозов и травматических сновидений, Фрейд переходит к случаю полуторагодовалого мальчика, который, будучи часто оставляем матерью, относился к этому довольно спокойно, разработав своеобразную игру с катушкой. Он выбрасывал её, держа за нитку, так, что она исчезала, говоря при этом: «О-о-о-о!», а затем вытаскивал катушку назад с довольным видом и радостным возгласом «тут».
Фрейда удивляет вопрос: почему, если в принципе уход матери для ребёнка не может быть приятен, он бесконечное количество раз по собственному почину воспроизводит в игре неприятную для него ситуацию? Он объясняет это двумя способами:
1)
Стремление к овладению, то есть переходу из пассивного состояния, когда ситуация владела тобой, к активному состоянию, когда ты владеешь ситуацией.
2)
Отбрасывание предмета, так, что он исчезает, может быть удовлетворением подавленного в жизни импульса мщения матери за то, что она ушла, то есть ребёнок таким образом как бы символически убивает мать.
Фрейд не знает, какой из этих двух концепций отдать предпочтение. Он пишет, что достаточно ясно, что игра детей обусловлена желанием стать взрослыми. Это, кстати, не совсем ясно с точки зрения современной гуманистической парадигмы: почему многие дети хотят стать взрослыми, то есть «более мёртвыми», и почему взрослые, «уже достаточно мёртвые», не хотят, подобно детям, стать ещё более мертвыми или «почти мёртвыми», то есть старыми? Почему взрослые не хотят стареть? Что есть такого в старости, что отвращает взрослых от неё и толкает их как бы вспять, заставляя мечтать о сохранении юности и молодости? Только ли страх болезней, немощности и боли, которые часто сопутствуют старости?
Итак, исходя из трёх моментов: травматический невроз, детское проигрывание травматических факторов, драматическое и трагическое театральное искусство, Фрейд приходит к убеждению, что и при господстве принципа удовольствия неприятное может прорываться в психическую деятельность, в сознание, делаться «предметом воспоминания» и «психической обработки».
Он предполагает, что за стремлением к навязчивому повторению эмоционально неприятных состояний кроется некое влечение, не подчиняющееся принципу удовольствия. Новый и удивительный факт, который Фрейд описывает, «состоит в том, что «навязчивое повторение» воспроизводит также и такие переживания из прошлого, которые не содержат никакой возможности удовольствия, которые не могли повлечь за собой удовлетворения даже вытесненных прежде влечений».
Это влечение кажется ему «более первоначальным, элементарным, обладающим большей принудительной силой, чем отодвинутый им в сторону принцип удовольствия». Фрейд задаётся вопросом: «Какой функции оно соответствует, при каких условиях оно может выявиться и в каком отношении стоит оно к принципу удовольствия?»
Пытаясь осмыслить три примера навязчивого повторения, Фрейд делает предположение о наличии в живом организме стремления к восстановлению какого-либо прежнего состояния. И подтверждает свою мысль примерами поведения птиц, рыб, развитием эмбрионов. Он приходит к выводу, что собственно первичным состоянием всего живого было неорганическое состояние, и стремление к восстановлению первичного состояния иначе как влечением к смерти назвать и нельзя. «Если мы примем как не допускающий исключения факт, что всё живущее вследствие внутренних причин умирает, возвращается к неорганическому, то мы можем сказать: целью всякой жизни является смерть, и обратно — неживое было раньше, чем живое… Некогда какими-то совершенно неизвестными силами пробуждены были в неодушевлённой материи свойства живого… Возникшее тогда в неживой перед тем материи напряжение стремилось уравновеситься: это было первое стремление возвратиться к неживому». Здесь Фрейд сам пугается и долго извиняется за столь дерзкое предположение: «для нас было бы облегчением, если бы всё наше построение оказалось ошибочным».
Но логика рассуждений неизбежно ведёт его к постулированию двух противоположно направленных влечений — влечения к жизни и влечения к смерти, и в итоге Фрейд приходит к заключению, что принцип удовольствия, которому подчиняется вся психическая деятельность, находится на службе у функции, которой присуще стремление сделать психический аппарат вообще лишенным возбуждений. Принцип удовольствия находится в подчинении у влечения к смерти.
Таково краткое изложение теории влечения к смерти, сформулированной в работе «По ту сторону принципа удовольствия», теории, которая заставила Фрейда в корне пересмотреть не только свое отношение к проблеме неврозов, но и всю психоаналитическую теорию.
Дальнейшее развитие теории влечения к смерти
Развитию дуалистической теории первичных влечений посвящено фактически все дальнейшее творчество Фрейда на протяжении последних двух десятилетий его жизни. Для того чтобы это заметить, не нужно прилагать больших усилий, тем более что многие работы этого периода либо прямо начинаются с указания на это, либо в своем составе имеют значительные разделы, посвященные этой теме. Но, так как теория влечения к смерти с самого начала была крайне плохо принята (в отличие от теории либидо) самими же психоаналитиками, то крайне трудно встретить в психоаналитической литературе какое-либо связное изложение развития дальнейших взглядов Фрейда по этому вопросу. Чтобы не быть голословным, приведу лишь один конкретный пример: ни в одной работе мне не приходилось читать о таком принципиальном моменте, как постулирование в работе «Я и Оно» возможности существования особого влечения, наполняющего своей индифферентной энергией качественно-дифференцированные эротические и разрушительные влечения. Сам Фрейд пишет по этому поводу, что «мы вообще не можем обойтись без предположения такой способной к смещению энергии». Но если Фрейд без такого предположения обойтись не может, то его формальные последователи легко обходятся не только без него (они его вообще не заметили), но и без самой теории влечения к смерти.
Я, по уже изложенным соображениям, критически отношусь к теории влечения к смерти в том виде, как она была сформулирована Фрейдом, но мне бы хотелось обособить свою критику от той, с которой мне приходилось часто встречаться на станицах психиатрической, психоаналитической и психологической литературы и которой специально будет посвящен следующий раздел нашей работы. По очень многим принципиальным позициям я не согласен с теорией влечения к смерти Фрейда, но я не считаю, что под названием «влечение к смерти» Фрейд описал собственные метафизические фантазии, вызванные, по мнению различных авторов-психоаналитиков, его старостью, болезнью, войной, смертью дочери или ослаблением умственных процессов. Открытие Фрейдом влечения к смерти можно сравнить с открытием Христофором Колумбом Америки. Хотя Колумб искренне считал, что он открыл западный путь в Индию, но ведь земля была, и был остров Самана, и было Саргассово море, и Куба, и Гаити, и Багамские острова. Количество открытий Фрейда, равно как и количество открытий Колумба, велико, и их нисколько не умаляет достаточное количество ошибок и неточностей. Фрейд никогда не уставал исправлять их, не боялся открыто признавать и, даже совершая новые, часто здесь же допускал саму возможность ошибиться. Колумб тоже, кстати, во время четвертой экспедиции в 1502 году, встретив представителей древней цивилизации майя, умудрился не придать этому великому народу никакого значения.
Фрейда крайне плохо читают, и я в этом смысле хорошо понимаю смысл лозунга Лакана: «Назад к Фрейду». Могу здесь лишь позавидовать тем людям, для которых, в отличие от меня, за буквами «G.W.» и «S.E.» располагается не ссылка на умозрительное полное собрание сочинений, а возможность читать оригинал фрейдовского текста.
В 1921 году, примерно через год после публикации «По ту сторону…», выходит крупная работа Фрейда «Психология масс и анализ человеческого “Я”», в которой продолжается исследование двух новых постулированных первичных влечений на примере теперь уже функционирования человеческих сообществ.
Стремление людей объединяться друг с другом, равно как и их стремление разрывать эти связи, равно как и свойственную любому человеческому сообществу агрессивность по отношению ко всему, что в него не входит, Фрейд выводит теперь из противодействия двух первичных влечений: Эроса — как влечения к всеобщему объединению, и Танатоса — как деструктивного и разрушительного влечения. Указывая на неоднократно замеченное и описанное стремление людей объединяться в массы, Фрейд объясняет его непосредственным проявлением первичного влечения к жизни – Эроса: «Масса, очевидно, объединяется некою силой. Но какой же силе можно, скорее всего, приписать это действие, как не Эросу, все в мире объединяющему?». Эрос в свою очередь сдерживает другой всегда имеющийся внутри любой массы первичный импульс – импульс к агрессии и разрушению, импульс к смерти.
Во-первых:
В любой момент при малейшем ослаблении либидозной связи проявляется в неконтролируемой панике, которая приводит к моментальному разрушению массовой структуры (например, паника в войсках).
Во-вторых:
Любое социальное объединение, будь то отношения между двумя людьми (брак, дружба, родители и дети) или многими людьми (семьи, города, кантоны), всегда «содержит осадок отвергающих враждебных чувств». Южный немец не выносит северного, англичанин — шотландца, испанец — португальца и так далее, пишет Фрейд.
В-третьих:
Агрессивный и деструктивный импульс особенно сильно проявляется против всего того, что не входит в объединенную либидо массу. Более того, чем сильнее либидо объединяет массу, тем сильнее ее агрессивный и деструктивный импульс в отношении окружающих. Рассматривая как удобный пример массового образования церковь, Фрейд вспоминает ее традиционную нетерпимость к инакомыслящим и усматривает причины относительного снижения агрессивности церкви не в «смягчении человеческих нравов», а в «ослаблении религиозных чувств». Любая другая прочная связь, пришедшая на место религиозной, — полагает Фрейд, — вновь приведет «к той же нетерпимости к внестоящим». В качестве примера такой формирующейся связи масс он приводит социализм, заочно известный ему на примере российского сообщества. С примером немецкого национал-социализма ему очень скоро предстоит познакомиться очно.
Обратим внимание на то, что в конце этой работы Фрейд опять поднимает вопрос об отношениях между Эросом как объединяющей силой влечения к жизни и либидо как сексуальном влечении. «Едва ли имеет смысл задавать вопрос о гомосексуальной или гетеросексуальной природе либидо, соединяющего массы, так как оно не дифференцируется по полу и, что особенно важно, совершенно не предусматривает целей генитальной организации либидо». Либидо по-прежнему, наряду с инстинктом самосохранения, составляет основу влечения к жизни, но так или иначе, используя это понятие для объяснения психологии масс, Фрейду приходится существенно поступиться его исконными сексуальными характеристиками, что он, судя по переписке с Гроддеком, хорошо понимает: «Вы еще говорите, что я отвращаюсь от эротики. Следующее мое сочинение (Психология масс…), наверное покажет Вам, что когда я это делаю, Эрос следует за мной по пятам».
В 1923 году увидела свет следующая большая работа Фрейда, «Я и Оно», посвященная структурным и экономическим проблемам устройства психики. С первых же строк Фрейд подчеркивает, что «настоящее обсуждение продолжает ход мыслей, начатый в моем труде «По ту сторону принципа удовольствия». Оно продолжает прежние мысли… но не прибегает к новым заимствованиям у биологии, и поэтому ближе к психоанализу, чем мой труд “По ту сторону…”». Работа состоит из пяти разделов. Первые три раздела развивают структурную теорию, которая помимо трех старых понятий: «бессознательное», «предсознательное» и «сознание», дополняется новыми структурными понятиями: «Я», «Сверх-Я» и «Оно». Четвертый и пятый разделы полностью посвящены теории двух видов первичных влечений.
Условно поделив психическую структуру на три части и описав их, Фрейд задается вопросом о том, что «это деление должно оказаться также и средством для более глубокого понимания и лучшего описания динамических соотношений психической жизни», и далее: «нельзя ли найти разъясняющие соотношения между принятыми нами образованиями «Я», «Сверх-Я» и «Оно», с одной стороны, и обоими видами первичных влечений, с другой стороны… можем ли мы для принципа удовольствия, господствующего над душевными процессами, установить твердую позицию в отношении обоих первичных влечений и психических дифференциаций».
Говоря о первичных влечениях, Фрейд акцентирует внимание на том, что первое из них — сексуальное влечение или Эрос — гораздо более заметно и доступно для изучения. Определение второго происходило, по признанию Фрейда, намного труднее. Хотя психоаналитическая практика вновь акцентируется как стимул к этому выделению (в частности феномен садизма), Фрейд все же признает, что в основном «на основании теоретических, опирающихся на биологию, размышлений мы предположили наличие инстинкта смерти, задачей которого является приводить все органически живущее к состоянию безжизненности». Его по-прежнему сильно беспокоит проблема недостаточности фактологического и феноменологического обоснования теории влечения к смерти.
«В наличии принципа удовольствия нельзя сомневаться, — пишет Фрейд, — деление «Я» основано на клинических подтверждениях; но распознавание обоих видов первичных влечений кажется недостаточно твердо обеспеченным». Оставляя разрешение вопроса о происхождении жизни области космологии, на вопрос о цели и назначении жизни Фрейд отвечает дуалистически: «возникновение жизни было бы, таким образом, причиной дальнейшего продолжения жизни и одновременно и причиной стремления к смерти – сама жизнь была бы борьбой с компромиссом между этими двумя стремлениями».
Фрейд указывает в этой работе, что каждому первичному влечению должен быть приписан особый физиологический процесс (рост и распад), но не заявляет здесь столь же прямо и решительно, как в случае сексуального влечения, что им должны соответствовать свои источник, объект и цель. Пока еще «совершенно невозможно представить себе, каким образом оба первичных влечения соединяются, смешиваются и сплавляются друг с другом; но что это происходит регулярно и в значительных масштабах – является для нас неопровержимой предпосылкой». Фрейд обращает внимание на роль мускулатуры как особого «органа», который нейтрализует в организме влечение к смерти отдельной клетки и отводит первичное разрушительное влечение на внешний мир и другие живые существа.
В качестве примеров, когда переплетенные первичные влечения распадаются и влечение к смерти может наблюдаться в качестве самостоятельно действующей силы, Фрейд приводит уже упомянутый ранее садизм, эпилептические припадки и тяжелые неврозы. В клинических феноменах регресса либидо до садистско-анальной фазы он находит теперь усиление влечения к смерти, и наоборот: в развитии либидо через оральную и анальную фазу к окончательной генитальной — усиление эротического компонента. В давно замеченной и описанной конституциональной амбивалентности невротиков Фрейд видит теперь не распад первичных влечений, а неполное их переплетение.
Основываясь на клиническом анализе амбивалентности и частых взаимопревращениях любви и ненависти, Фрейд высказывает очень интересное предположение: «если это превращение больше, чем лишь последовательность во времени, то есть смена, то, очевидно, не имеет под собой почвы такое основополагающее различие, как различие между эротическими инстинктами и инстинктами смерти, предполагающее противоположно идущие физиологические процессы» Как мы должны это понимать? Чуть ранее в этой же работе Фрейд уже предположил наличие особого физиологического процесса для каждого из первичных влечений. Отказывается ли он тем самым от своей точки зрения? Складывается впечатление, что в этом месте Фрейд в третий раз подошел вплотную к монистической теории влечений, но так и не сформулировал ее.
Хотя клинические факты вновь и вновь подталкивают его к этому. Так, например, при бреде преследования пациент может защищаться от своей слишком сильной гомосексуальной привязанности к объекту таким образом, что любимое лицо становится преследователем, против которого теперь вместо любви направляется агрессия. Стараясь глубже вглядеться в этот процесс, Фрейд видит больше чем просто смену одного влечения другим, он предполагает, что нечто превратило любовь в ненависть. Энергия, отнятая у эротического чувства, передается чувству враждебному. Сходный процесс Фрейд наблюдает при преодолении враждебного соперничества, не имеющего шансов быть удовлетворенным, с помощью экономически более выгодной и предоставляющей шанс быть удовлетворенной гомосексуальной любовной установки. Таким образом, пишет Фрейд «мы молча сделали другое предположение, которое заслуживает того, чтобы его огласили. Мы действовали так, как будто в психической жизни — еще неизвестно, в «Я» или в «Оно», — существует способная к смещению энергия, сама по себе индифферентная, которая может примкнуть к качественно-дифференцированному эротическому или разрушительному импульсу и его повысить. Мы вообще не можем обойтись без предположения такой способной к смещению энергии. Вопрос лишь в том, откуда она берется, к чему принадлежит и что означает. Проблема качества первичных влечений и их сохранения при различных судьбах первичных влечений еще очень непроницаема и в настоящее время еще почти не разработана».
Нетрудно догадаться, что добрая толика этой непроницаемости связана с психологически понятной эмоциональной привязанностью Фрейда к собственной теории либидо. Она сильно искажала всю картину первичных влечений не только ему, но и его последователям. Не случайно Анна Фрейд в 1971 году на психоаналитическом конгрессе предположила, что одной из причин трудностей, возникающих при исследовании первичных влечений и целом и агрессии в частности, может быть то, что аналитики слишком много знают о сексуальности. Анна Фрейд считала, что сексуальность затмевает глаза аналитиков, когда они вплотную подходят к агрессивности.
В силу вышеуказанных обстоятельств сразу же после предположения о возможности существования третьей силы и энергии (хотя она по логике первая и единственная), Фрейд «на уровне предположения, но не доказательства» пишет, что этой недифференцированной энергией может быть опять же некий «запас либидо нарциссического характера», «десексуализированный Эрос», обладающий максимальной пластичностью как в направлении, так и в способе и объекте разрядки.
Он развивает следующую логическую цепочку: «Я» как самостоятельная психическая структура, объявляя себя объектом нарциссической любви, динамически «оттягивает» на себя объектное либидо. Таким образом «Я», во-первых, работает против целей Эроса, направленных вовне. Во-вторых, вслед за притягиванием к себе объектного либидо, автоматически «Я» притягивает к себе и сцепленное с либидо агрессивно-разрушительное влечение и даже в каком-то смысле структурно-динамически обслуживает первичное влечение к смерти. Здесь Фрейд приносит в жертву дуалистической теории влечений свое же учение о нарциссизме, постулируя его (нарциссизма) вторичный характер. При этом он сразу же попадает в старый тупик, в котором уже дважды был и из которого дважды отказывался выходить через заманчивую перспективу монистической теории влечений.
«Мы все снова убеждаемся, — пишет Фрейд, — что движения первичных влечений, которые мы можем проследить, оказываются отпрысками Эроса». Ему вновь трудно удержать основное дуалистическое воззрение, и вновь у него создается впечатление, что «инстинкты смерти в основном немы, а шум жизни большей частью исходит от Эроса».
Вновь Фрейд оказывается перед «угрозой» монистической теории влечений в целом и перед «угрозой» монистического либидо Юнга в частности. Поэтому он очень эмоционально восклицает: «А борьба против Эроса!». Кто будет отвечать за борьбу против эротического влечения? Рассматривая либидо (ошибочно, с нашей точки зрения) как источник повышения напряженности в живой системе, Фрейд заявляет, что принцип удовольствия служит для «Оно» компасом в борьбе против либидо, и ниже делает очень интересное (но, с нашей точки зрения, совершенно неверное) предположение, что после выключения Эроса путем удовлетворения наступает состояние, напоминающее умирание (а у низших животных смерть), потому что «после выключения Эроса путем удовлетворения, инстинкт смерти получает полную свободу осуществления своих намерений», а не потому, что либидо есть (с нашей точки зрения) одно из самых явных и сильных проявлений влечения к смерти.
Возвращаясь в пятом разделе к новой структурной теории психики, Фрейд обращает внимание на интересные взаимоотношения между «Я» и «Сверх-Я». Они напоминают ему реальные семейные отношения: «как ребенок был принужден слушаться своих родителей, так и «Я» подчиняется категорическому императиву своего «Сверх-Я». Он вспоминает здесь же описанную в работе «Печаль и меланхолия» возможность жесточайшей агрессии со стороны «Сверх-Я» по отношению к «Я», которая может закончиться гибелью «Я». Он даже допускает, что человек может совершить преступление из-за чувства вины, а не наоборот, как это принято считать.
«Как это происходит, — спрашивает Фрейд, — что «Сверх-Я»… развивает по отношению к «Я» такую исключительную жестокость и строгость?».
Почему при меланхолии «Сверх-Я» действует с такой беспощадной яростью, как будто присвоило себе весь имеющийся в индивиде садизм?
«То, что теперь господствует в «Сверх-Я», — отвечает на это Фрейд, — является как бы чистой культурой инстинкта смерти, и, действительно, ему довольно часто удается довести «Я» до смерти».
Почему это происходит? Чем больше человек сдерживает свою агрессию, направленную вовне, тем более агрессивным становиться внутреннее «Сверх-Я» по отношению к «Я». Происходит смещение и поворот агрессии против собственного «Я». «Я», таким образом, с точки зрения Фрейда, является слугой даже не двух, а трех господ. «Я» разрывается между «Оно», «Сверх-Я» и реальностью. Стараясь ограничить и хоть как-то соотнести либидинозные импульсы «Оно» с реальностью, «Я» предлагает себя в качестве объекта любви. Но, преодолевая и ограничивая либидо, «Я» открывает дорогу влечению к смерти, само при этом рискуя стать его объектом. Заканчивает работу Фрейд печальными словами:
«Я» находится под властью немых, но мощных инстинктов смерти, которые стремятся к покою и по указанию принципа удовольствия хотят заставить замолчать нарушителя этого спокойствия — Эроса». Разве что мы недооцениваем силы Эроса — с долей надежды полагает он.
Через четыре года после «Я и Оно», в августе 1927 года, выходит третья крупная работа — «Будущее одной иллюзии», в которой Фрейд продолжает развивать идеи первичных влечений, но теперь уже в аспекте их взаимоотношений с культурой. Собственно, сама культура интересует здесь Фрейда постольку, поскольку она является, по его мнению, социальным институтом, призванным подавлять первичные влечения. Без принуждения культуры, полагает Фрейд, большинство людей откажутся выполнять даже те минимальные трудовые повинности, которые необходимы для воспроизводства материальных благ.
«У всех людей имеются разрушительные, следовательно, противообщественные и антикультурные тенденции», — так развивает идею первичного деструктивного влечения Фрейд, пытаясь четче феноменологически показать его проявления на культурном фоне. Если раньше можно было надеяться, что с достижением культурой этапа избыточного производства всех материальных благ и справедливого их распределения наступит «золотой век», то теперь, с открытием врага внутри самого человека, эта надежда, по мнению Фрейда, становится не более чем еще одной иллюзией.
Даже те желания, которые культура на протяжении тысячелетий искореняет в человеке (кровосмешение, каннибализм, страсть к убийству), все еще живут в нас и «вновь рождаются с каждым рождающимся ребенком». Только с помощью такого «драгоценного психологического достояния культуры», как «Сверх-Я», они с раннего детства подавляются так, что «человек из противника культуры становится носителем культуры». Но «бесконечное множество культурных людей, которые отшатнулись бы от убийства или кровосмешения, не отказывают себе в удовлетворении жадности, жажды агрессии, половой похоти, не перестают вредить другим ложью, обманом и клеветой, если это можно делать безнаказанно».
Развивая идеи, высказанные в «Психологии масс…» относительно переплетения эротических и деструктивных влечений в любом коллективе, в любой культуре, он показывает, как в целях нейтрализации деструктивного импульса любая культура разрабатывает механизмы отвода и стремится отвести агрессивно-деструктивные импульсы своих членов на представителей других культур. Так, ничтожный римский плебей становится великим римлянином, и его агрессия направляется на каждого представителя угнетаемых Римом народов, но не на угнетающую его самого кучку римской аристократии. Как известно, один старый мудрый армянин, умирая, завещал своим сыновьям: «Дети мои, берегите евреев. Потому что, когда их всех уничтожат, примутся за нас».
Для защиты человека от другой опасности — страха и чувства беспомощности перед силами природы — культура создает «свое самое ценное достояние» — религию, которая наполняет все вокруг смыслом и целесообразностью. Предварительно показав, как мир человеческих отношений постепенно проецируется на мир природы и что отношение взрослого человека к Богу мало чем отличается от отношения младенца к своему отцу, Фрейд притворно робко спрашивает: какова же действительная ценность религиозной культуры? Когда Святой Бонифаций срубил священное дерево, которому поклонялись саксы, все ожидали ужасных событий, но они не произошли — и саксы обратились в христианскую веру. Фрейд методично и усердно, со словами «не я первый, не я последний», рубит в этой работе священное дерево христианской религии, не уставая при этом извиняться.
Фрейду более 70 лет. Он стар и болен. Но, читая эту работу, предположить у него снижение умственных способностей, могущее как-то обесценить его творчество позднего периода, очень сложно. Он много развлекается в этой работе, много издевается, даже придумывает сам для себя строгого и умного оппонента (не надеясь, очевидно, на сообразительность оппонентов реальных), от имени которого остроумно нападает сам на себя, и сам же разрушает свои «неопровержимые» доводы. Легко и последовательно Фрейд доказывает, что именно те достояния нашей культуры, которым дано задание объяснить все загадки мира и примирить нас со страданиями жизни, имеют наименьшую достоверность и очень небольшую ценность.
Фрейд не ошибся в своих прогнозах. Своей работой он задел такое больное место человечества, что оно не только тут же воспользовалось своим самым излюбленным защитным механизмом — отрицанием (идеи Фрейда не столько обсуждаются, сколько отрицаются), но и в качестве гиперкомпенсации с маниакальным упорством стало развивать в течение последующих десятилетий гуманистическое направление в психологии и психотерапии. Гуманистическое направление, ярким представителем которого является логотерапия Франкла, прилагает все усилия, чтобы вновь наполнить человеческое существование смыслом и целесообразностью.
Можно здесь, конечно, приравнять критику религии Фрейда к «избиению младенцев», если по его же теории понимать веру взрослого человека как перенос на Бога отношения маленького ребенка к своему отцу. Но рука не поднимается это сделать. Слишком уж много этих «детей» и уж слишком они опасны, особенно объединенные в толпу (опять же в соответствии с теорией Фрейда), для тех немногих взрослых, в толпу не включенных и способных без страха смотреть в нечеловеческое лицо бездушной Вселенной. Даже Иисус, кажется, возроптал на вершине человеческого страдания и даже Сиддхартха Гаутама Будда не выдержал встречи с реальностью. У Николая Гумилева есть замечательное стихотворение «Звездный ужас». «Горе! Горе! Страх, петля и яма для того, кто на земле родился», — кричит старик, взглянувший в пустое небо. Старший сын его:
лег на землю,
Не ничком на землю лег, спиною.
Все стояли, затаив дыханье,
Слушали и ждали очень долго.
Вот старик спросил, дрожа от страха:
«Что ты видишь?» — но ответа не дал
Сын его с седою бородою.
И когда над ним склонились братья,
То увидели, что он не дышит,
Что лицо его, темнее меди,
Исковеркано руками смерти.
Дальше сходит с ума его жена, взглянувшая в небо. Никто не может выдержать, не повредившись умом, «ужас» пустого неба. Но, как ни странно, всех он почему-то влечет. Только ребенок (восьмилетняя девочка Гарра), меньше всех обремененный культурой, легко глядит в небо и видит:
…только небо вогнутое, черное, пустое.
И на небе огоньки повсюду,
как цветы весною на болоте…
Фрейд задает хороший вопрос: как влияет культура и религия на детей? Приносит ли она больше вреда или пользы? Не подавляет ли она возможность воспринимать мир более естественным образом с меньшим количеством иллюзий, не навязывает ли она свое консервативное и очень медленно меняющееся видение? Он считает, что это так. С ним можно согласиться. Директор светской школы, в которой учится моя старшая дочь, в конце XX века на уроке астрономии рассказывает детям, что на той стороне луны, которая не видна, живут души всех умерших людей. Я думаю, хорошо, что моя дочь смеялась, рассказывая об этом, но я думаю, что нехорошо, когда дети смеются над своими учителями.
Педагогика, психология и психотерапия в России в последние десятилетия в целом сильно пострадали от прямой агрессии религиозного мировоззрения под маской гуманистической психологии. Существует программа «Обновление гуманитарного образования в России», осуществляемая Государственным комитетом Российской Федерации по высшему образованию и Международным фондом «Культурная инициатива». Спонсором программы является Джордж Сорос. Это обновление «гуманитарного образования» и «обновление» российской психологии идет в направлении неприкрытой, откровенной, агрессивной религиозной экспансии, причем преподносится все это как великое достижение отечественной психологии. В учебнике для студентов старших курсов, аспирантов и преподавателей философских и психологических факультетов университетов «Человек развивающийся. Очерки российской психологии» предметом «серьезных научных размышлений и исследований» ставятся в первом ряду: «Духосфера, Духовная вертикаль, Духопроводность, Духовная субстанция, Духовное материнство, Духовное лоно, Духовная близость, Духовные потенции, Духовный организм, Духовная конституция, Духовный генофонд, Духовная установка, Духовный фон, Духовное начало, Духовное производство, Духовная опора, Духовные устои, Духовная ситуация, Духовное зеркало, Духовный облик, Духовное здоровье, Духовное равновесие, Духовное единство, Духовное измерение, Духовная красота, Духовный взор, глаз духовный, Духовный нерв, Духовный свет, Духовное обоняние, Духовная жажда, Духовный поиск, Духовное руководство, Духовные способности, Деятельность Духа, Духовное оборудование, Духовная мастерская, Духовный уклад, Духовные упражнения, Сила Духа, Духовное развитие, Духовный рост, Духовное общение, Духовный подвиг, Духовный расцвет, Духовное наследие, Памятник Духа, Духовное царствие, память Духа, Печать Духа, Духовная щедрость, Духовная родина, Духовное самоопределение, Духовное самоотречение, Духовная аскеза, Духовное величие, Духовное бытие, Духовная жизнь…». Ну и во втором ряду: «духовная слабость, духовная смерть…» и т.д.
Причем всё это «серьёзное научное» безобразие пишет ученый, который ещё вчера грозил большой социальной ответственностью (что это такое — в то время хорошо знали) психологам за «циркуляцию в общественном сознании идей, искажённо отражающих природу человека и ведущих к отрицательным социально-политическим последствиям».
К сожалению, не лучше обстоит дело и в российской философии. Издание трудов русских религиозных философов настолько поразило отечественную «интеллигенцию» глубиной своего содержания, фундаментальностью, эпичностью, даже космологичностью мышления, что она, как малый ребёнок, пошла за большим дядей, напрочь забросив все свои «материалистические погремушки».
Из современных философов в большом фаворе Мамардашвили, который в результате своих исследований пришёл к выводу, что сознание локализуется не в голове, а между головами.
Дуализм, дихотомия души и тела, противопоставление физического и психического, богословские споры о Душе и Плоти — всё это так же интересно, как и старо. Я сам очень люблю русских религиозных философов за их восторженность, детскую непосредственность, какую-то исключительно милую наивность. Я очень люблю Соловьёва и Бердяева, Франка и Булгакова, Ильина и Шпета, я обожаю Лосева в его академической шапочке, с партитурой в руках размышляющего о Вагнере, и я нисколько не против Веры, но до тех пор, пока эта Вера не начинает заявлять свои права на меня и на то дело, которым я занимаюсь.
Давайте поставим все точки над «i». Там, где есть Вера — нет Науки. Учёный имеет право доверять, но верить — это, пожалуйста, в храм Божий. Как это понимать, когда психолог пишет: оптимистическая традиция Маслоу, Мэя, Роджерса, Фромма «основана на вере в конструктивное, активное, созидающее и творческое начало человеческой природы, на его изначальной моральности и доброте, его альтруистической и коллективистической направленности». Какая такая вера, позвольте спросить? Какое такое «идеальное пространство личностного развития, личностного роста»? Что это за наука, основанная на вере? Не могут быть предметы богословия и богославия предметами психологии.
Многие после 30 лет, смутно чувствуя свою ненужность и исчерпанность, постепенно впадают в тоску, и единственным их утешением является мысль, что, может быть, если они не нужны больше природе, они нужны Богу. «Как могу я заслужить Его любовь? Может быть, я должен отказаться ради Него не только от знаний, но и от природы?» — спрашивает себя такая инволюционирующая личность. Именно поэтому в любой религии последних тысячелетий так много ненависти к природной сущности человека. В какой-то степени всё это связано именно с увеличением продолжительности жизни. Когда она составляла 25—30 лет, человек умирал в расцвете: он любил жизнь, и религии его были земными. Самым дорогим для человека была жизнь — её, как самое ценное, он приносил в жертву своим богам. В религиях последних тысячелетий самое дорогое для человека — смерть. Какая религия может быть более показательной в этом отношении, нежели христианство? В христианстве ненавидится всё, что связано с полом, с размножением, с продолжением жизни. Не случайно монахиням совершают постриг. Ведь волосы — это символ жизни, то, что растёт быстрее всего. Все эти «покаянные хоры девственниц», святые мощи… В конце концов, какое удовольствие носить на шее изображение мужчины, умершего две тысячи лет тому назад?
Я очень люблю Лосева, но как нужно относиться к жене, чтобы писать, что «совокупление есть вульгаризация брака»? Бедная Тахо-Годи. Жалкая монашка, которой так восхищается Лосев, ему дороже: «милое, родное, вечное в этом исхудалом и тонком теле, в этих сухих и несмелых косточках.., близкое, светлое, чистое, родное-родное, простое, глубокое, ясное, вселенское, умное, подвижническое, благоуханное, наивное, материнское — в этой впалой груди, в усталых глазах, в слабом и хрупком теле, в чёрном и длинном одеянии, которое уже одно, само по себе, вливает в оглушённую и оцепеневшую душу умиление и утешение…». Материнское — во впалой груди и исхудалом теле? Какой ужас. Прости меня, конечно, Господи, если я чего-то не понимаю…
Вера разрушает Знания, а Знания разрушают Веру. Более того: там, где есть Вера, нет места Знаниям, а там, где есть Знания, нет места Вере. В этом нет ничего странного, страшного, трагичного, ужасного и вообще плохого. Это просто так. Ребёнку и подростку нужны Знания, старикам нужна Вера. Зрелые люди более или менее удачно сочетают в себе то и другое, но сами по себе Знание и Вера несовместимы. Не может быть предмет Веры предметом науки. Не может наука заниматься Духосферами, да ещё рассматривать всё это как перспективу российской психологии. Есть монастыри, есть кельи — там вам и «Духовный подвиг», и «Духовное развитие», и «сухие косточки», и «впалая грудь».
И есть психология — наука, которая изучает среди прочего и психологические причины и механизмы Веры, но никак не атрибуты Веры. И для Веры в этом нет ничего обидного. Психология может изучать, к примеру, либидинозную подоплёку творчества, но категории искусства (прекрасное, ужасное, трагичное, комичное, возвышенное и т.д.) — предмет эстетики, а не психологии.
Если для религии дихотомия души и тела — первичный принцип, обеспечивающий веру в возможность посмертного возрождения, то для психологии такой дихотомии не существует. Психическая деятельность есть функция головного мозга — и подчиняется в своих динамических и содержательных аспектах онтогенезу. «Мы являемся организмами, мы не имеем организма, — писал Фредерик Перлз, — мы являемся здоровым единством». Стареет организм — стареет личность. Умирает организм — умирает личность.
И Фрейда религия интересует в этой работе отнюдь не из деструктивных побуждений (как часто пишут), а как наглядный пример системы, которая создана для подавления и борьбы с первичными человеческими влечениями.
Религия — это не заблуждение, религия — это иллюзия, а для иллюзии характерно ее происхождение из человеческих желаний.
Если однажды вера рухнет и человек поймет, что никто и никогда не вознаградит его за сдерживание агрессивных и сексуальных порывов ни в этой жизни, ни в той, и что никто, кроме светской власти, не накажет его за открытое проявление первичных влечений, — что будет? Ничего не будет, — считает Фрейд. Если мы внимательно присмотримся к «Божьим заповедям», то обнаружится, что они в большинстве своем обладают несомненной социальной выгодностью. Поэтому Фрейд сравнивает религиозность современного ему человека с преходящим неврозом ребенка, который обучается подавлять свои первичные влечения с помощью запретов и страха перед наказанием, и надеется, что психоанализ в какой-то степени поможет излечению от этого невроза. Фрейд только надеется, что это утверждение не является иллюзией, но здесь же вполне допускает и обратное.
Проходит три года, и в 1930 году появляется четвертая крупная работа Фрейда — «Неудовлетворенность культурой». Если вернуться назад, то мы вспомним, что уже в «Будущем одной иллюзии» Фрейд писал, что «ужасающее количество людей недовольно культурой, несчастно в ней и ощущает ее как ярмо, которое нужно сбросить». В новой работе Фрейд обращается к этой проблеме еще раз.
В начале ее он отвечает своему другу, писателю Ромену Роллану, который, прочитав посланное ему Фрейдом «Будущее одной иллюзии», написал, что не может целиком согласиться с такой оценкой религии. Подлинным источником религиозности Роллан считает особое чувство, «обнаруживаемое им у многих других и, предположительно, присущее миллионам». Это — «ощущение вечности» и чувство чего-то безграничного, бескрайнего, «океанического». Именно это «океаническое» чувство Роллан называет источником религиозной энергии, — только испытав его, человек становится религиозным.
Фрейд не находит у себя этого чувства и с юмором приводит слова поэта, который аналогичным образом утешал своего героя перед самоубийством: «Нам не уйти из этого мира». Личный опыт не убеждает Фрейда, что «чувство единства с миром» первично по своей природе. Он не оспаривает наличие его у других, но ставит вопрос: насколько верно оно истолковывается и может ли считаться причиной всех религиозных запросов?
«Я не могу ничего предложить, что могло бы оказать решающее влияние на разрешение этого вопроса, — пишет Фрейд. — Мысль, что человек постигает свою общность с окружающим миром через непосредственное и с самого начала направленное на эту идею чувство, кажется настолько странной, что плохо вяжется со всей структурой нашей психики, что оправданной становиться попытка психоаналитического, т.е. генетического, объяснения этого чувства».
Можно только удивиться здесь, как создатель теории влечения к смерти, как человек, сам ранее описавший «всеобщее стремление живущего к возвращению в состояние покоя неорганической материи», как человек, неоднократно высказывающий озабоченность слабым фактическим подкреплением своей теории, как он не заметил в этом «океаническом чувстве», присущем миллионам, очевидное и бросающееся в глаза фактическое подтверждение его же теории существования влечения к смерти. Более того, наличие «океанического чувства» в сознании миллионов людей подтверждает не только факт наличия тенденции к смерти в области, более близкой к биологии, чем к психологии, но и факт повсеместности психологически и сознательно переживаемого влечения к смерти.
Мне также мало знакомо «океаническое» чувство из личного опыта, но я отдаю ему должное, особенно после того, как одна из моих коллег, филигранности восприятия которой я всегда доверял, рассказала мне о том, как в африканской пустыне она пережила одно из самых сильных чувств в своей жизни: глядя на бескрайние пески, она испытала непреодолимое желание лечь и раствориться в них, перестать быть, перестать существовать, стать мельчайшей песчинкой и навсегда влиться в это море без мыслей, без эмоций, без чувств. Что это, если не влечение к смерти? Вода и огонь – две стихии, на которые человек может смотреть бесконечно. В океаническом чувстве в различных его проявлениях я вижу одно из многочисленных доказательств существования влечения к смерти, к описанию которых мы еще вернемся далее.
Фрейд, продолжая удивляться этому «океаническому чувству, пишет, что для психоанализа более привычно чувство границы между «Я» и внешним миром, правда, при различных патологических и не очень патологических состояниях эта граница может нарушаться: «Из патологии мы узнаем о большом количестве состояний, при которых грань между «Я» и внешним миром становится неопределенной или действительно неправильно проложенной: случаи, при которых части нашего собственного тела, даже части собственного душевного мира, восприятия, мысли, чувства кажутся нам как бы чужими, не принадлежащими нашему «Я», а также и те случаи, когда мы приписываем внешнему миру то, что явно родилось в нашем «Я»» и только к нему и может быть отнесено. Следовательно, чувство «Я» подвержено искажениям, а границы «Я» не являются постоянными».
Описывая здесь же этапы развития «Я», Фрейд размышляет, что наше взрослое «Я» есть продукт первоначального детского «Я» включающего в себя изначально все, и лишь затем внешний мир из него выделяется: «Наше нынешнее чувство «Я» есть лишь жалкий остаток первоначально гораздо более широкого, более того, всеобъемлющего чувства, которое и соответствовало внутреннему ощущению связанности «Я» с окружающим миром. Если можно было бы предположить, что это первоначальное чувство «Я» – в большей или меньшей степени – сохраняется в душевной жизни многих людей, то тогда следовало бы признать, что оно сопутствует более узкому и ограниченному чувству «Я» в зрелого возраста в качестве своего рода партнера; проистекающее из этого первоначального чувства содержание представлений и соответствовало бы тому ощущению безграничности и связанности с миром, которое мой друг определял как чувство “океаническое”». Онтогенетическая позиция Фрейда, побуждающая его максимально редуцировать все наблюдаемые психические феномены до их начальных онтогенетических проявлений, несомненно, мешает ему усмотреть в океаническом чувстве, равно как и в его следствии — религиозном чувстве, те самые «шумные проявления» влечения к смерти, которые он так искал на протяжении последних двадцати лет своей жизни.
С редким для больного 70-летнего человека здравомыслием и юмором Фрейд рассуждает здесь о смысле и цели человеческой жизни. Он полагает, что вопрос о смысле жизни как приносит, так и уносит с собой религия, что человек, заявляющий, что жизнь без смысла не имеет ценности, — смешон (к сожалению работы Франкла еще не были написаны). Живут ведь животные без смысла. Цель жизни проста и задается принципом удовольствия. Мы избегаем неудовольствия и стремимся к удовольствию. Возможности получить удовольствие и избежать неудовольствия ограничиваются нашей конституцией и реальностью. Поэтому в психической жизни мы чаще наблюдаем принцип реальности, когда человек вынужден терпеть неудовольствие ради возможности в перспективе получить удовольствие. Это как-то связано с «химизмом» нашего организма, поскольку есть вещества (наркотики, с действием которых Фрейд к этому периоду был уже достаточно хорошо знаком), которые способны подавлять неудовольствие и давать удовольствие. Наличие подобных веществ в самом организме Фрейд здесь же предполагает задолго до открытия эндогенных опиатов. «Остается только пожалеть, что эта токсикологическая сторона душевных процессов еще ускользнула от научного исследования, — пишет он. — Действие наркотиков в борьбе за счастье и для устранения несчастья признано как отдельными людьми, так и народами настолько благодетельным, что они заняли почетное место в экономии (психоэнергетике) либидо. Наркотики ценятся не только за то, что они увеличивают непосредственное наслаждение, но и за то, что они позволяют достичь столь вожделенной степени независимости от внешнего мира. Известно ведь, что при помощи избавителя от забот можно в любой момент уйти от гнета реальности и найти убежище в собственном мире, где царят лучшие условия для восприятия ощущений. На них иногда лежит вина за то, что большие запасы энергии, которые могли бы быть использованы для улучшения человеческой участи, растрачиваются зря».
Другой способ сбалансировать и упорядочить удовольствие и неудовольствие — сублимация (занятия наукой, искусством). Этот способ, правда, доступен не всем и плохо защищает от страданий плоти. Некоторые не бегут от мира реальности, как отшельники, и не прячутся от него в наркотики, науку или искусство, а предпринимают безнадежный (с точки зрения Фрейда) бунт против реальности. Эти мечтатели и параноики пытаются воплотить в реальность свои фантазии, преобразовать реальность, но по большей части все это иллюзия, считает Фрейд. Можно попытаться изменить не мир, а себя, попытавшись подавить свои влечения. Крайний случай такого «умерщвления влечений» – практика йоги. Только, если это удается, вместе с влечениями в жертву приносится и сама жизнь, происходит «несомненное снижение возможностей наслаждения. Ощущение счастья при удовлетворении диких, не обузданных нашим «Я» влечений несравненно более интенсивно, чем насыщение укрощенного первичного позыва. Непреодолимость извращенных импульсов, как и вообще притягательная сила запрещенного, находит в этом свое психоэнергетическое объяснение».
Сходная мысль мне позднее встретилась в замечательной работе немецкого философа Генриха Риккерта «Философия жизни»:
«Человек должен как можно больше переживать и как можно более жизненно развертывать свою жизнь во всех направлениях. Ничего живого, что хочет проявиться, он не вправе подавлять и губить. Подобно дереву и цветку полевому, цветет и человек, и он должен знать это. Не изжить своего цветения, не принимать каждое переживание в распростертые объятия, не ценить его — значит убивать самого себя».
Лучше, наверное, и не скажешь.
Фрейд пишет, что он перечислил, разумеется, не все известные человечеству методы оптимизации психической экономики, более того — он не упомянул о самом главном (с точки зрения Фрейда) методе: методе, когда человек не отворачивает свое либидо от внешнего мира, а напротив, «крепко цепляется за объекты этого мира и обретает счастье путем эмоционального взаимоотношения с ни. Она не довольствуется при этом устало отрешенной целью избегания страданий, она скорее оставляет такую цель без внимания, а твердо придерживается первоначального страстного стремления к положительному достижению счастья. Возможно, что эта методика приводит к цели скорее, чем какая-либо другая», но почему-то он все же в конце второго раздела делает пессимистический вывод: «Программа того, как стать счастливым, к которой нас принуждает принцип наслаждения, не может быть реализована… Можно выбирать самые различные пути, отдавая предпочтение либо положительному содержанию цели – к наслаждению, либо стремлению к ее негативному содержанию – к предотвращению неудовольствия. Ни на одном из этих путей мы не можем достичь того, чего желаем. Счастье, в том умеренном значении, в котором оно рассматривается как возможное, есть проблема индивидуальной экономии либидо. И тут нельзя дать пригодного для всех ответа – каждый сам должен стараться стать счастливым на свой собственный лад».
С нашей точки зрения, пессимизм Фрейда здесь совершенно неоправдан. Мы с вами хорошо помним, что принцип удовольствия находится на службе у влечения к смерти, и сам же Фрейд открыл этот закон в работе «По ту сторону…». Насколько нам известно, еще ни один человек на Земле не организовал свою жизнь настолько плохо, чтобы так или иначе, рано или поздно не удовлетворить свое влечение к смерти. Все люди, жившие на Земле до нас, живущие рядом с нами, и те, кто будут жить после нас, умерли или умрут. Поэтому что это значит: «Программа стать счастливым, к которой нас принуждает принцип удовольствия, неисполнима»? Мы что — никогда не умрем? Это вряд ли. Значит, нет и повода для беспокойства. Как раз наоборот, какой бы путь мы ни избрали: позитивный (стремление к наслаждению), негативный (избегание страданий), на любом из них мы достигнем желанного результата — умрем. Обязательно. По этому поводу можно даже не переживать. Остается только успокоиться и постараться обеспечить себе процесс качественного умирания на протяжении всей своей жизни, а не оставлять все для последних минут и секунд. Поскольку нам некуда спешить и нечего волноваться по поводу достижения конечной цели, пора выгнать из родного дома своей психики всех тех свиней, совместное существование с которыми пытается навязать нам культура. Выгнать, как тот еврей из известного анекдота, которому раввин посоветовал завести от плохой жизни свинью, а потом, когда жизнь станет уже совсем невозможной, выгнать ее в шею — и испытать истинное облегчение. Если это простое описание нормализации механизма элиминации системы хронификации жизни слишком сложно для понимания, то можно посоветовать лет двадцать изучать тонкости диссипативного процесса дыхания в закрытом буддийском монастыре. Если у вас не хватает смелости изменить жизнь к своему большему удовольствию и «Бойцовский клуб» вам не помог, то почему бы не начать с дыхания.
В последнее время я заметил, что администрации различных учебных заведений и курсов повышения квалификации боятся приглашать меня для чтения лекций, потому что после них часть слушателей прекращает получать второе высшее образование и начинает заниматься личной жизнью, полагая, что привязанность к своим возлюбленным и детям имеет бóльшую ценность, чем второй красный диплом. Я подозреваю, что администрация моей родной академии (если узнает) плохо отнесется к тому, что я говорю студентам. А говорю я, что если студент считает, что главной его задачей является учеба, а личная жизнь должна быть на втором плане, если студент считает, что сначала он должен получить высшее образование, а затем может позволить себе создать семью, — он психологически нездоров, и ему самое место в нашем психотерапевтическом отделении. Нормальный студент в первую очередь должен быть озабочен системой своих «влюбленностей-разлюбленностей», а уже во вторую — периодически вспоминать, что он еще и в медицинской академии учится.
В третьей части «Неудовлетворенности культурой» Фрейд рассматривает еще один крайне интересный момент экономического устройства человеческой психики. Традиционно считается, что культура и цивилизация повышают способность человека получать удовольствие от жизни и уменьшают количество страданий. Это не факт, пишет Фрейд. Достаточное количество людей замечает, что возможно обратное. Ровно столько же несчастий и проблем, сколько цивилизация убирает из жизни человека одной рукой, она другой рукой добавляет. Далеко не факт, что общее количество удовольствия в жизни прямо зависит от развития культуры. Не факт, что мы, вооруженные цивилизацией и защищенные от всех тех несчастий, которые свободно обрушивались на наших предков, намного счастливее их. Фрейд не уверен, что невольник на римской галере обязательно был более несчастлив, чем современный культурный европеец в своем рабочем кабинете и доме. И можно с ним здесь согласиться.
Четвертый и пятый разделы работы посвящены обсуждению того, как и для чего культура подавляет сексуальные и агрессивные влечения человека, которые по своей сути неискоренимы. Он вновь вспоминает о том, насколько враждебно одна культура относится к другой, переживает, что будут делать большевики, когда истребят всех буржуев. Нам теперь хорошо известно, что, истребив всех буржуев, большевики принялись самозабвенно истреблять сами себя и, скорее всего, справились бы с этим намного быстрее и намного лучше, если бы немецкие национал-социалисты не предоставили им более благодатное поле для многолетней деятельности. Разгромив фашистов, коммунисты взялись по старой хорошей традиции за евреев (врачей-космополитов), но, решив, что, в конце концов, это уже как-то скучно, вновь принялись сами за себя и мировой капитализм.
Следует отметить, что в шестом разделе Фрейд фактически признает самостоятельность существования агрессивного влечения. Означает ли это пересмотр психоаналитического учения об инстинктах, задает себе вопрос Фрейд, и отвечает, что это не совсем так. Он окидывает взглядом, начиная с публикации в 1905 году «Трех очерков по теории сексуальности», четвертьвековой период развития психоанализа и признает, что учение о первичных влечениях продвигалось вперед много труднее, чем остальные направления психоаналитической теории. «В моей первоначальной полной беспомощности первый толчок дала мне одна фраза поэта-философа Шиллера о том, что мир держится на «Голоде и Любви». Голод можно было бы себе представить как первичный позыв, служащий самосохранению отдельного существа, любовь же направлена на объекты; ее главная функция, всячески поощряемая природой, служить сохранению рода. Так первичные позывы «Я» с самого начала были противопоставлены первичным позывам, направленным на объекты. Энергию этих последних, и их исключительно, я назвал либидо; так вступал в силу антагонизм между первичными позывами «Я» и направленными на объект «либидинозными» первичными позывами любви, в широком смысле этого слова». Затем помимо Эроса в психоаналитической теории появился гипотетический инстинкт смерти, и феномен жизни можно теперь было объяснять их взаимодействием и противодействием. И десять лет спустя Фрейд называет этот инстинкт гипотетическим и пишет, что «признание этого инстинкта покоится в основном на теоретическом базе, следует полагать, что оно не полностью защищено и от теоретических возражений. Но так нам все это рисуется при современном состоянии наших представлений; дальнейшие исследования и размышления внесут, очевидно, в эту область окончательную ясность».
Фрейд переживает из-за того, что до сих пор нелегко найти очевидные свидетельства деятельности этого гипотетического инстинкта, так как «шумные проявления Эроса бросаются в глаза», а проявления деятельности инстинкта смерти не так очевидны, и если только «предположить, что он глухо ведет свою работу по разложению внутри живого существа, но такое предположение, конечно, не равноценно доказательству».
Легко понять теоретические проблемы Фрейда, противопоставляющего сексуальность как компонент влечения к жизни агрессивности как компоненту или даже эквиваленту влечения к смерти. Если бы Сабина Шпильрейн или Фрейд всего лишь сумели взглянуть на сексуальное влечение не только как на компонент влечения к жизни и не только как на влечение, имеющее в своем составе агрессивный и деструктивный компонент, но и как на непосредственное проявление влечения к смерти, им было бы много проще увидеть явные свидетельства деятельности этого «гипотетического» инстинкта. «Шумные проявления Эроса», бросающиеся в глаза, стали бы при этом автоматически «шумными проявлениями Танатоса», столь же очевидно бросающимися в глаза.
Но Фрейд абсолютно не допускает такой возможности, не желает допускать, вслед за Сабиной Шпильрейн, деструктивного характера сексуальности и критикует всех, кто продолжает это делать. Агрессивность и деструктивность не являются для Фрейда компонентами сексуальности. Они становятся таковыми лишь тогда, когда влечение к смерти в форме агрессивности проявляет себя через сексуальное влечение: «часть этого инстинкта обращается против внешнего мира и заявляет о себе во влечении к агрессии и деструкции. Этот инстинкт принуждается тем самым служить Эросу, поскольку направлен на уничтожение другого (одушевленного или неодушевленного), а не себя самого». Особенно сильный сплав сексуального и деструктивного влечения Фрейд усматривает в садизме, но и в мазохизме точно так же присутствует связь внутренне направленной деструктивности с сексуальностью. Мазохизм однозначно рассматривается теперь как первичный феномен.
Развивая гипотезу, в соответствии с которой влечение к смерти, направленное первоначально на саморазрушение, смещается вместе с сексуальным влечением на внешние объекты и тем самым частично нейтрализует свой саморазрушительный импульс, Фрейд указывает, что попытка подавить и ограничить проявление агрессивности вовне приведет к усилению агрессивности и деструктивности, направленных внутрь самого человека: «ограничения агрессивности вовне должны были бы усиливать и так уже идущие сами по себе процессы самоуничтожения». Другой вариант внешнего проявления влечения к смерти – асексуальная ярость «слепого разрушения» с нарциссическим удовлетворением древнего желания Я к обладанию, удовлетворению своих нужд, господству над природой и всемогуществу. Таким образом, влечение к смерти и разрушению может примешиваться не только к сексуальному влечению, но и к той части влечения к жизни, которая раньше именовалась влечениями «Я» или инстинктом самосохранения.
Сообщая, что все эти соображения он представил поначалу лишь как опытные данные, Фрейд признается далее, что «с течением времени они приобрели такую власть надо мной, что я не могу думать иначе. Я полагаю, что эти утверждения теоретически гораздо более применимы, чем все возможные иные; они многое упрощают без пренебрежения фактами или насилования их — к чему мы и стремимся в научной работе. Я признаю, что в садизме и мазохизме мы всегда обнаруживали сильные сплавленные с эротикой проявления разрушительного первичного позыва, направленной как наружу, так и внутрь, но я никак не могу понять, как могли мы просмотреть вездесущность неэротической агрессивности и разрушительности и не предоставить ей подобающее место в толковании жизни».
Далее Фрейд начинает развивать вытекающую из теоретического антагонизма влечения к жизни (Эроса) и влечения к смерти (Танатоса) теорию изначальной противоположности человеческой культуры, состоящей на службе у Эроса, и деструктивными и агрессивными тенденциями, состоящими на службе у Танатоса. «У нас уже сложилось представление о культуре как особом процессе, захватывающем людей в своем течении, и мы все еще пребываем под впечатлением этой идеи. Добавим, что этот процесс служит Эросу, стремящемуся объединить сначала отдельных людей, затем семьи, затем племена, народы, нации в одно большое целое – человечество. Почему это так должно происходить – мы не знаем; просто такова активность Эроса. Человеческие массы должны быть либидинозно связаны; одна необходимость, одни преимущества объединения в труде не могли бы их удержать вместе. Но этим предначертаниям культуры противодействует прирожденный первичный позыв человеческой агрессивности, враждебности каждого ко всем и всех к одному. Этот обнаруженный нами наряду с Эросом, инстинкт агрессивности является потом и главным представителем первичного позыва смерти, разделяющего с Эросом господство над миром. И теперь, мне кажется смысл развития культуры перестал быть для нас неясным. Оно должно показать нам борьбу между Эросом и Смертью, между инстинктом жизни и инстинктом разрушения, как она протекает в человеческой среде. Эта борьба составляет существенное содержание жизни вообще, и поэтому развитие культуры можно было бы просто назвать борьбой человечества за существование».
Как достигли гармоничного равновесия между объединяющими силами Эроса и деструктивными силами Танатоса представители других живых культур (пчелы, муравьи, термиты) и почему мы не можем достичь той же гармонии — Фрейд не знает. Вопросов здесь больше, чем ответов, — пишет он. Как человеческая культура борется с внутренней агрессивностью, стараясь обезвредить ее, спрашивает Фрейд, и отвечает: «агрессия интроецируется, становится частью внутреннего мира, т.е., направляется туда, откуда она и произошла, она направляется против собственного «Я». Там она перехватывается частью «Я», которая как «Сверх-Я» противопоставляет себя остальной части «Я» и, уже как совесть, осуществляет по отношению к «Я» такую же готовность к агрессии, которую «Я» охотно удовлетворило бы за счет других, чужих индивидов. Напряжение между усиленным «Сверх-Я» и подчиненным ему «Я» мы называем сознанием вины; оно проявляется в потребности наказания. Культура, таким образом побеждает опасные агрессивные страхи путем их ослабления, она обезоруживает их и оставляет под наблюдением инстанции, находящейся внутри самого этого индивида наподобие оккупационной власти в побежденном городе».
Дальнейшие страницы посвящены более детальному разбору запутанных и сложных отношений между «Я» и «Сверх-Я», совестью и чувством вины, взаимосвязям между развитием человеческого индивида и человеческой культуры. Роковым для человеческого рода Фрейду кажется вопрос:
«Удастся ли развитию культуры и в какой мере обуздать человеческий первичный позыв агрессии и самоуничтожения, нарушающий сосуществование людей… люди так далеко зашли в своем господстве над силами природы, что с его помощью они легко могут уничтожить друг друга вплоть до последнего человека. Люди это знают, и отсюда – значительная доля их теперешнего беспокойства, их несчастья, их тревожных настроений».
Фрейд очень надеется, что «вечный Эрос» как другая небесная власть приложит все силы, чтобы отстоять свои права в борьбе с равно бессмертным противником. Он не знает, на чьей стороне будет победа и кому будет доступно предвидение исхода борьбы.
Последний раз к теории влечений Фрейд возвращается в 1933 году в «Продолжении лекций по введению в психоанализ». Он называет теорию влечений мифологией психоанализа, а влечения — мифическими существами, грандиозными в своей неопределенности. Он вспоминает историю развития теории влечений от первых скромных шагов в области биологической психологии к теории либидо и первой дуалистической теории. Он признается, что до сих пор «не особенно хорошо понимает» влечения, их качественную своеобразность в зависимости от отношения к различным соматическим источникам, целям и объектам, способности к переплетению и взаимозаменяемости. Обращает на себя внимание, но до конца не понятно явное качественное различие между сексуальными влечениями и инстинктами самосохранения (Фрейд даже использует здесь два различных понятия: влечение и инстинкт). Сексуальные влечения пластичны, взаимозаменяемы и способны к длительной задержке. Инстинкты самосохранения «непреклонны, безотлагательны и императивны». Во всем этом есть очень много непонятного и необъяснимого.
Переход ко второй дуалистической теории, по словам Фрейда, вызвал сильные аффективные реакции и тотальное неприятие. Судя по всему, этот фактор повлиял и на самого Фрейда, заставив его стать более дипломатичным, но не заставив отказаться от теории влечения к смерти. Дипломатичность Фрейда проявляется в том, что он не говорит сначала о противостоянии влечения к смерти и влечения к жизни, а говорит о противостоянии сексуальных влечений (Эроса) и агрессивных влечений, цель которых — разрушение. Он аппелирует к животным, говоря, что предположение у них агрессивного инстинкта вряд ли может вызвать у кого-либо сопротивление. Уроки истории, жизненный и клинический опыт, пишет Фрейд, позволяют утверждать, что и в человеке таится особый инстинкт агрессии и разрушения, и достойно сожаления, что эти взгляды до сих пор не применяются в клинической практике психоанализа. Без понимания динамики агрессивного инстинкта, с точки зрения Фрейда, трудно понять такие распространенные клинические феномены, как садизм и мазохизм.
И уже далее он осторожно переходит к описанию стремления к «навязчивому повторению» и его отношению к саморазрушению.
«Если правда, что в незапамятные времена и непостижимым образом однажды из неживой материи родилась жизнь, то согласно нашему предположению тогда возникло влечение, которое стремиться вновь уничтожить жизнь и восстановить неорганическое состояние».
Лишь после этого он постулирует разделение влечений на две группы: эротические, которые стремятся «привести все еще живую субстанцию в большее единство», и влечения к смерти, которые «противостоят этому стремлению и приводят живое к неорганическому состоянию».
Отвечая на возможные обвинения его в склонности к философии Шопенгауэра, Фрейд пишет, что, во-первых, в совпадении его точки зрения с прозрениями смелого ума нет ничего зазорного, а во-вторых, его подход отличается от подхода Шопенгауэра, так как он не утверждает, что смерть есть единственная цель жизни: «мы признаем два основных влечения и приписываем каждому его собственную цель». Выяснить, как они переплетаются между собой, как влечение к смерти используется для целей Эроса, как Эрос может ослабить внешние и внутренние проявления агрессивности — задача будущих исследований. Фрейд останавливается на этом. «Мы не пойдем дальше той области, где нам открылась эта точка зрения» – пишет он, и нам думается, что человек в возрасте 77 лет имеет право на такую остановку.
Фрейд очень надеялся, что его труд не будет забыт, а его исследования будут продолжены. Как нам теперь известно, его надежды оправдались только наполовину. Его труд не был забыт, но его исследования не были продолжены, — по крайней мере, в том направлении, в каком он сам не решился пойти, но которое видел и на которое указал.
Не знаю, обрадовался бы он, узнав, что так любимое им либидо и «вечный Эрос», на которые он возлагал столько надежд в борьбе с силами смерти, на самом деле не героические борцы против деструктивных сил влечения к смерти, а их давние и преданные друзья и союзники. Проблема, очерченная Фрейдом, а в дальнейшем еще шире очерченная Меннингером и специалистами по саморазрушающему поведению, выглядит сейчас еще сложнее, чем это виделось Фрейду в начале XX столетия. Поскольку мы не обладаем влечением к жизни, а обладаем лишь влечением к смерти, то на первый взгляд нам не на что опереться в борьбе с влечением к смерти. Мы (люди) называем себя вершиной эволюционного процесса, мы утверждаем, что человек является самым приспособляемым живым существом на земной поверхности. Мы на самом деле научились жить даже в условиях космического пространства, но… мы же представляем собой тот единственный вид, представители которого могут самостоятельно прекращать своё существование, и мы же по иронии судьбы — тот единственный вид, который в процессе своей эволюции реально подошёл к тому, чтобы полностью прекратить жизнь на Земле, чтобы на той самой эволюции, которой мы обязаны самим фактом своего существования, поставить раз и навсегда жирную точку.
Как и на всех живых существ, на нас постоянно действуют разрушительные силы окружающей среды, умением противостоять которым мы справедливо гордимся, но беда пришла откуда не ждали: мы научились отражать атаки врага снаружи, а он пришёл изнутри. Мы тратим огромные средства на то, чтобы предсказать землетрясение, ураган или цунами, но мы пока лишь с удивлением взираем на то, как саморазрушительные процессы сметают с лица Земли не меньшее, если не большее, число людей. Мы видим, как некое мощное течение уносит от нас прочь подростков и взрослых, злоупотребляющих психоактивными веществами и заканчивающих жизнь самоубийством. Огромная невидимая рука вырывает их с корнем из школьной, семейной и личной жизни. Никакие призывы не в силах остановить их и вернуть к нормальной жизни. Более того, они сами протягивают к нам руки с мольбой о помощи, потому что чувствуют и понимают гораздо лучше нас: что-то страшное проснулось в глубинах их мозга. Мы же не понимаем, а чаще и не хотим понять, полностью всего того, что происходит. И мы к этому пока настолько не готовы, что даже не способны иногда признать сам факт наличия проблемы. Как верно подметил Карл Меннингер:
«Все, кто изучал поведение человека, неизбежно приходят к осознанию того, что основную причину людских невзгод следует искать в самих людях. Иными словами, в значительной степени проклятие, тяготеющее над человечеством, можно определить как самоуничтожение».
Разумеется, не все, но многие приходят к осознанию того, что у представителей человеческого рода мы наблюдаем совершенно особое, на первый взгляд, уникальное для живой природы явление — авитальную активность (активность, направленную против жизни, против себя, активность к смерти, влечение к смерти). Поэтому пришла пора расставаться с очень многими нашими старыми, добрыми, удобными и уютными заблуждениями. Пришла пора прекратить искать простые неверные решения для очень сложных проблем.
Критика теории влечения к смерти
На то, что гипотеза влечения к смерти столкнулась с сопротивлением даже в психоаналитических кругах обратил внимание уже сам Фрейд в 1930 году. Но, честно вспоминая о своем собственном сопротивлении при первой встрече с этой идеей в психоаналитической литературе, и хорошо помня, как долго оно длилось, Фрейд не удивляется и тому, что другие ее также отрицают. Удивляться неприятию этой теории имеем право мы по прошествии без малого столетия после начала развития идеи влечения к смерти в психоаналитической литературе.
«В психоаналитической теории мы без колебания принимаем положение, что течение психических процессов автоматически регулируется принципом удовольствия».
С этой фразы Фрейд начинает развивать теорию влечения к смерти, и с этой же фразы начинается и критика его теории. Виктор Франкл убеждает нас, что принцип удовольствия есть не более чем «психологический артефакт», и на самом деле «человек хочет не удовольствия, а именно того, что он хочет». То есть, если я хочу есть — это значит по Франклу, что я хочу именно есть, а удовольствие, которое я получаю при этом, — всего лишь некий артефакт, необязательный и несущественный. Даже если бы я не получал удовольствия от еды, я все равно бы ел, потому что хотел бы именно этого.
Франкл, как и многие, обвиняет Фрейда за то, к чему тот сознательно и целенаправленно стремился всю свою научную жизнь. Аналогичным образом бихевиористов часто умудряются критиковать за их пренебрежение к психическим процессам, несмотря на то, что сами же бихевиористы с самого начала постулируют свое пренебрежение к психическим процессам (помещая их в условный черный ящик) в пользу исследований поведенческих реакций в ответ на различные стимулы. Попытка обнаружить за сотнями предметных влечений более фундаментальные, по мнению Франкла, ведет к «нивелированию всех возможных целевых установок». Совершенно непонятно — почему. Почему Франкла так обижает, что за актом благотворительности, равно как и за актом поглощения пищи, может лежать один и тот же принцип удовольствия — непонятно. Он пытается издеваться над принципом удовольствия с помощью его как бы «переворачивания». Если человек что-либо делает ради удовольствия, — утверждает Франкл, — то значит все, что он делает, он делает ради удовольствия. Тогда, если Наполеон, по логике принципа удовольствия, в начале своей карьеры проводил победоносные сражения ради удовольствия, то в конце своей карьеры, когда Наполеон стал терпеть поражения, по «перевернутой» логике Франкла, он действовал ради удовольствия поражения.
Между прочим не только тифоанализ, но и классическая современная психология вполне допускают возможность самопораженческого поведения с получением прямого удовольствия от последнего. Но здесь явно дело не в стремлении к самопоражению. Почему-то Франкл забывает в этом забавном примере, что удовольствие от победы стремились получить не только Наполеон, но и другие господа: например, русская армия в целом и Михаил Илларионович Кутузов в частности, который, как и Наполеон, радея о своем удовольствии и удовольствии русского народа, прямо так обращался к своим воинам перед битвой: «Воины! Потщимся выполнить сие, и Россия будет нами довольна».
Собственно, именно извечное столкновение принципа удовольствия с реальностью привело Фрейда к постулированию принципа реальности, который в то же время нисколько не отменяет принцип удовольствия и является его дериватом.
По непонятным причинам Франкл считает, что если смысл жизни заключается в получении удовольствия, то такая жизнь бессмысленна, а если удовольствие — следствие некоего биохимического мозгового процесса, то жить и вообще не стоит. В подтверждение своих слов он приводит интересный пример, который вместо того чтобы поддержать точку зрения Франкла, ее же и опровергает. Он говорит о том, насколько нелепо с точки зрения приговоренного к смерти наслаждаться последней трапезой, стоя перед лицом смерти. Нелепо это только с точки зрения Франкла. Многие поколения приговоренных к смерти, не знакомые, видимо, с теорией Франкла о бессмысленности последних мгновений жизни, умудрялись наслаждаться и последней трапезой, и последним свиданием, и последней молитвой, и последней сигаретой, и последним рассветом. Миллионы «глупцов» получают в последние минуты жизни удовольствие от общения с близкими людьми, что с точки зрения Франкла опять же нелепо. Более того: достаточное количество неглупых людей хорошо понимает, насколько близость смерти обостряет удовольствие от жизни.
Говоря уже о собственно теории влечения к смерти, сформулированной Фрейдом в работе «По ту сторону…», Франкл сначала легко допускает ее и даже расширяет до всеобщего энтропийного космического принципа, но далее внезапно «легким движением руки» совершенно выводит человека как субъекта из-под действия любых законов объективного мира: «все объективно происходящее для субъекта ни в коей мере не обязательно. Кто говорит, что мы должны, так сказать, идентифицировать себя со всеми этими принципами и тенденциями?».
И в самом деле: кто это говорит такие глупости? Кто говорит, что мы должны идентифицировать себя с такими мировыми тенденциями, как сила тяготения, инерция, время, пространство? Одностороннее естественно-научное образование? Довольно мы уже уважали результаты их точных естественно-научных исследований, — пишет Франкл. Пора прислушаться к «внутреннему опыту непредвзятых простых житейских переживаний», «саморазумению нашего человеко-бытия как бытия-ответственности».
Только внимательное чтение Франкла позволяет понять, почему он так обижен на принцип удовольствия: «в закрытой системе «душевного аппарата», над которым господствует принцип удовольствия, нет места для того, что мы назвали волей к смыслу». Вот чего нет — того нет. Нет там места ни влечению к смыслу, ни влечению к самоактуализации, ни даже влечению к самосовершенствованию. Именно поэтому вторую дуалистическую теорию влечений Фрейда и влечение к смерти так не любят все представители гуманистического психоанализа: ни Фромм, ни Хорни, ни Франкл.
Начиная свою работу с того, что в психоаналитической теории без колебания принимается положение, что течение психических процессов регулируется принципом удовольствия, Фрейд заканчивает ее тем, что:
«Влечение к жизни» выступает нарушителем мира покоя, принося с собой напряжение. Разрешение от напряжения, связанного с влечением к жизни, воспринимается как удовольствие: влечение к смерти непрерывно производит свою работу, и принцип удовольствия находится в подчинении у влечения к смерти».
Эта концепция — «практически единственное из заявлений Фрейда, которое вызвало бурю протеста среди ортодоксальных сподвижников, воспользовавшихся преимущественно языком морального осуждения», — считает исследователь дальнейшего развития теории Фрейда Дж. Браун. Х. Томэ и Х. Кэхеле пишут, что даже названия статей, в которых обсуждается метапсихологическая теория Фрейда, создают впечатление запальчивого обсуждения: «Метапсихология — это не психология», «Две теории или одна?», «Метапсихология — кому она нужна?».
Райкрофт пишет, что «те, кто верят в существование инстинкта жизни и инстинкта смерти, логически вынуждены противопоставлять либидо — энергии инстинкта жизни — другой вид энергии, характерный для инстинкта смерти. Хотя были сделаны попытки заполнить этот пробел введением понятий «мортидо» и «декструдо», ни одно из них не привилось».
Лишь немногие психоаналитики не только приняли ее, но и плодотворно использовали в своей терапевтической и научной деятельности. Нюнберг пишет, что хотя эта гипотеза и может показаться поначалу странной, ее эвристическая ценность неоспорима. Такое разделение влечений дает рабочую гипотезу, обойтись без которой на сегодняшний день невозможно.
Логика Фрейда столь убедительна, что её сложно аргументировано опровергнуть, поэтому, если точно охарактеризовать создавшееся положение, подавляющее большинство исследователей предпочло и предпочитает просто игнорировать теорию Фрейда о влечении к смерти, критикуя скорее не саму теорию, а личность Фрейда. Складывается впечатление, что большинство ученых «обиделось» не столько на саму теорию влечения к смерти, сколько на ее обозначение. Можно различить три варианта эмоционального отторжения теории влечения к смерти Фрейда:
1)
Чисто эмоциональное отторжение по принципу «мне это не нравится» без какой-либо дополнительной аргументации;
2)
Эмоциональное отторжение с последующей попыткой «повредить» не саму теорию, а ее автора — по принципу «не может быть хорошей теории у плохого автора» (варианты: больного, старого, несчастного, уставшего);
3)
Эмоциональное отторжение с последующей попыткой его рационализации и аргументации.
Пол Феррис — один из биографов Фрейда — считает, что на формирование теории влечения к смерти повлиял «обычный пессимизм Фрейда, возраст и реакция на войну». Книга о смерти – естественное следствие меланхолии Фрейда, считает он. Точно так же, как ранее сам Фрейд приписывал идеи агрессивности и влечения к смерти личностным особенностям учёных, впервые заговоривших об этом (паронойяльности Адлера и амбивалентности Шпильрейн), многие последователи Фрейда поспешили приписать идеи влечения к смерти личностным проблемам самого Фрейда.
Карен Хорни считает, что концепция деструктивного влечения опирается прежде всего на распространенность жестокости в истории человечества — войн, революций, преступлений. Свою критику она строит следующим образом: переходя от термина влечение к смерти к термину деструктивное влечение как «деривату влечения к смерти», она оспаривает инстинктивность деструктивного влечения на том основании, что, если мы сможем доказать, что деструктивный импульс всегда является по своей сути реактивным образованием на внешнюю провокацию — значит, говорить о врожденности деструктивного влечения и влечении к смерти нет никакого основания. Подобным же образом адвокат одного известного мне доктора, который попался на торговле наркотиками, обвинял его бывших коллег за то, что они отсутствием своей бдительности спровоцировали несчастного доктора на неправильное поведение. Не у самого доктора было желание торговать наркотиками, а только лишь внешние обстоятельства практически вынудили его к этому. Адвокат искренне был убежден, что если ему удастся доказать факт попустительского отношения к рецептурным бланкам со стороны начальства, то тем самым вина доктора, чья рука (между прочим совершеннолетняя) заполняла этот бланк, будет полостью элиминирована. На том же основании можно легко обвинить директора ресторана, чей сотрудник зарезал кого-либо из посетителей в пренебрежительном отношении к хранению столовых ножей.
С точки зрения Хорни, теория деструктивного влечения не только необоснованна и противоречит фактам, но и, несомненно, вредна по своим культурным последствиям. Для какой культуры вредна теория Фрейда — Хорни не уточняет.
Эрик Фромм рассматривал теорию влечения к смерти как следствие, с одной стороны, болезни и старости Фрейда, а с другой — как следствие его идейных разногласий с Юнгом и необходимости «пристроить свою новую убеждённость в силе человеческой агрессивности». «Тяжёлая болезнь Фрейда запечатлелась в его сознании, подкрепив страх смерти, и тем самым внесла свой вклад в формулировку инстинкта смерти», — пишет Фромм по этому поводу, считая, что допущение, согласно которому человеку приходится умирать потому, что смерть — цель жизни, не более чем утешение и облегчение страха смерти. Теоретические открытия Фрейда на самом деле совпали с ухудшением состояния его здоровья. В 1921 году он пишет, что с «марта этого года я вдруг сделал шаг к настоящей старости. С тех пор мысль о смерти не покидает меня… и все-таки я не поддался ипохондрии, а просто бесстрастно изучаю все это, как если бы проводил исследования к книге «За пределами принципа удовольствия». Франц Александер и Шелтон Селесник, по чьей работе я цитирую письмо Фрейда, специально указывают, что интеллектуальные возможности Фрейда в период болезни не только не обнаружили спада, но напротив — его поздние работы в чем-то превзошли ранние.
Высказывались также предположения, что на Фрейда могли повлиять такие события, как смерть второй жены его отца, Ревекки, самоубийство одного из его лучших учеников Виктора Тауска, смерть дочери Софии.
Собственно, Фрейд и сам опасается, как бы его размышления не были приняты за переосмысление событий личной жизни. В письмах к Эйтингтону и Виттельсу он подчёркивает, что работа «По ту сторону…» была написана за год до смерти его дочери — «когда моя дочь была молода и жизнерадостна». И все же биографы считают, что Фрейд, не желая признать связь между своей теорией и личной трагедией, внес изменения в рукопись постфактум.
Райкрофт считает, что в принципе дуалистические теории влечений Фрейда связаны не с клиническими фактами, а с особенностями немецкой культуры и немецкого языка. Немецкая диалектика Гегеля и Маркса, с точки зрения Райкрофта, повлияла на тенденцию Фрейда к созданию непременно дуалистических антагонистических теорий влечений.
Существуют также психоаналитики, которые, не отягощая себя критикой метапсихологической теории Фрейда (очевидно, по принципу «о мертвых или хорошо, или ничего»), спешат раньше времени произвести похороны метапсихологической теории Фрейда и перейти к разделу имущества. Подавляющее большинство считает, что фрейдовская теория влечения к смерти вряд ли играет существенную роль в современной психоаналитической литературе. Хайнц Хензелер, анализируя вклад психоанализа в проблему суицида, пишет, что эта теория не получила поддержки у многих психоаналитиков: «она представляет собой интересную натурфилософскую спекуляцию, но не приносит пользы в клинико-теоретическом смысле».
Самой взвешенной и рациональной из всех многими признается критика теории влечения к смерти Отто Фенихеля. Фенихель считает, что Фрейд необоснованно смешал два разных понятия: влечение к смерти и влечение к агрессии. Влечение к агрессии внутренне присуще человеку, и ее движущие силы базируются на клинических данных. Влечение к смерти базируется на предположении: раз все люди умирают и всякое поведение обосновано стремлением, то все они также должны стремиться к смерти. Последнее утверждение, по мнению Фенихеля, является плохим философским положением, на основании которого Фрейд пытается доказать, что из того, что инстинкты стремятся к удовлетворению и снижению напряжения, а смерть является состоянием окончательного снятия напряжения, следует, что она и должна быть их конечной целью, а из того, что агрессия может быть направлена против себя, следует, что агрессия и инстинкт смерти — это одно и то же.
Значительной критике подверг теорию влечения к смерти и В. Райх. Сначала в личных беседах, а затем и в своих публикациях он критиковал ее как с теоретических, так и с практических позиций. Критика эта, как и любая другая критика, справедлива всегда в той части, где разбирается противопоставление влечения к жизни и влечения к смерти, и полностью несправедлива в тех частях, где на основании противоречий, выявляемых при этом, влечение к смерти как таковое полностью отрицается.
Фенихель и Райх усматривали в концепции влечения к жизни и смерти не столько психологические, сколько биологические понятия. Аналогичным образом Гартман, Крис и Левенштейн полагают, что доказательство существования влечения к смерти — задача биологов. Правда, при этом Эрнст Джон полагает, что до настоящего времени «не было обнаружено ни одного биологического наблюдения, которое подтверждало бы идею инстинкта смерти, — идею, которая противоречит всем принципам биологии».
Интересно, что идея влечения к смерти, уходящая своими корнями в идеи российских ученых и философов, русскими аналитиками же и была хорошо принята. На базе концепции влечения к смерти основывал свои поздние статьи известный российский психиатр Николай Осипов. В мае 1926 года доктор Виноградов из Киева рассказывал на заседании Русского психоаналитического общества в Москве о девушке, покончившей с собой с помощью самосожжения, и трактовал этот случай как проявление изолированного действия деструктивного инстинкта. В ноябре 1927 года доктор Гольц докладывала о психических реакциях переживших землетрясение в Крыму людей. Среди них она выделяла тех, кто был безразличен к опасности. По словам Гольц, расспросы этих людей выявляли бессознательное влечение к смерти.
После запрета и прекращения психоанализа в России угас интерес и к теории влечения к смерти. До последнего времени эта теория рассматривалась как пример методологического тупика, связанного с противопоставлением человека культуре и обществу, как пессимистический вывод одинокого скептика.
Тенденция к жизни
Я принципиально постараюсь изложить здесь лишь необходимый минимум информации относительно проблемы возникновения и развития жизни. Я имею сложившееся впечатление и достаточно критически отношусь к вытекающим из этого последствиям. Сформировавшееся мнение всегда имеет тенденцию из большого объема информации выбирать все подтверждающие его факты и игнорировать все противоречащие. Психоаналитическая теория уже достаточное количество раз подвергалась критике именно с этой стороны. Карл Поппер считал, что психоанализ как хорошо верифицированная (подтвержденная многочисленными фактами), но непроверяемая теория не имеет права в этой связи претендовать на научный статус. Хотя это и не совсем так, не будем здесь с этим спорить и тем более сами претендовать на научный статус. Мы имеем дело с теорией (способом страстного и сочувственного созерцания мира) и способом терапии (повышением качества жизни пациентов), и вопрос, на который мы стараемся здесь ответить, заключается в следующем: качество чего страдает у пациентов и качество чего мы желаем повысить им в процессе тифоаналитической терапии? Что такое жизнь? И, более того, что такое качественная жизнь?
Мое представление о жизни, подробно обозначенное выше, сформировалось на основе знаний моих родителей, яслей, садика, зарослей треугольного скверика города Березники, школы и медицинского института, книг и дальнейших размышлений над феноменом влечения к смерти, с которым я столкнулся в клинической практике (спроецировав, разумеется, первично на пациентов свои проблемы). Часть информации получена из тех самых психоаналитических работ, которые, по мнению некоторых, к науке не имеют никакого отношения. Большой объем информации был получен, когда вместе с коллегой я рассматривал феномен самоубийства с эстетической точки зрения. Источники других представлений мне трудно отследить. Не могу вспомнить, где и когда я прочитал, что понятие «агрессия» изначально переводилось как «вбирание в себя». Все словари интерпретируют агрессию только как «нападение». Но я хорошо помню, что интерпретация агрессии как «вбирания в себя» была важным моментом для понимания ее роли в жизни.
Имея определенный запас информационных блоков, ни один из которых сам по себе не обеспечивал устойчивого положения при работе с пациентами, я неизбежно старался каким-то образом связать их между собой так, чтобы они не разъезжались под ногами в разные стороны. Теоретические основы советской психиатрии подходили для понимания внутреннего мира пациента не лучше, чем ноги слона – для вышивания крестиком. Теоретические основы гуманистической психологии были возвышенны и благодушно прекрасны, но совершенно бесполезны для практической работы. Устойчивее всего я почувствовал себя, когда попробовал встать на теоретические платформы психоанализа и аналитической психологии. Эти две опоры, в отличие от гуманистических миражей, не спешили растворяться в воздухе при столкновении со сложными случаями клинической реальности. Только эти две теории имели смелость в отношении многих феноменов клинической и психологической практики честно сказать: «Не знаем». И добавить: «Давайте посмотрим и подумаем».
Не исключаю, что многие мои проблемы связаны не с недостаточной устойчивостью этих платформ, а с моим нежеланием отдать предпочтение одной из них. Я всегда испытывал желание опереться сразу на обе, несмотря на их труднопреодолимую тенденцию разъезжаться в разные стороны. Очевидно, что это напряжение и явилось тем источником питания, который обеспечил энергией работу по созданию синтетической тифоаналитической теории. Даже своим названием она увязывает аналитическую теорию Фрейда и глубинную психологию Юнга. Имея теперь под ногами прочную опору, я могу заплывать в отдаленные онтогенетические и филогенетические области психики своих пациентов и осуществлять захватнические набеги на смежные с психотерапией области: психологию, биологию, этологию, палеонтологию, термодинамику, физику, химию и другие.
Разумеется, я имею тенденцию (и не собираюсь от нее отказываться) укреплять захваченными материалами имеющуюся у меня под ногами опору, поскольку она уже доказала мне свою надежность. В том, что незаметно для себя я могу извлекать из смежных областей знаний лишь то, что подтверждает мою точку зрения, и игнорировать все то, что ей не соответствует, я уже признался. Не вижу в этом ничего дурного, но и не переоцениваю доказательную силу подобной конгломерации. Сколь большой объем информации я ни привел бы в подтверждение своей точки зрения, она мало повлияет на человека, который на все смотрит с принципиально иной позиции.
Альберт Швейцер считал, что:
«Человека, начавшего думать о жизни и о мире, непрестанно и почти непреодолимо влечет к благоговению перед жизнью. Раздумья такого рода не могут привести к выводам, которые указывали бы иное направление».
И молния сбегает змеем,
И дали застилает дым.
Но мы, господь, благоговеем
Пред дивным промыслом твоим.
Мои раздумья о жизни привели меня к иным выводам и иным направлениям. Благоговения к жизни я в себе ни разу не обнаружил. Слова Мефистофеля из «Пролога на небе» мне всегда были ближе и понятнее:
Божок вселенной, человек таков,
Каким и был он испокон веков.
Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
Его ты божьей искрой изнутри.
Он эту искру разумом зовет
И с этой искрой скот скотом живет.
У меня есть смутное подозрение, что на самом деле человек живет много хуже скота, и в собственно скотской (животной) жизни я не вижу ничего плохого. Поэтому те искры разума, которые мешают человеку жить «чуть-чуть лучше» нужно гасить по мере сил и возможностей. Поэтому Швейцер и ему подобные должны воспринимать мою точку зрения как злонамеренность, глупость и бред, причем бред систематизированный. И Швейцер, собственно, так и пишет: если люди утверждают, что их размышление привело их к иным, нежели благоговение перед жизнью выводам, то это «не размышление, а безмыслие». То есть все мысли, которые не соответствуют мыслям Швейцера, — это не просто неправильные мысли, это вообще даже и не мысли. Замечательно.
И все же, если все то, о чем я говорю, поможет мне или кому-либо еще повысить качество своей жизни с помощью повышения качества жизни других людей, тифоаналитическая теория удобна, несмотря на всю ее «бессмысленность» и «безмысленность». Я подозреваю, что она удобна любому нормальному человеку, но могу и ошибаться: со слишком сильной негативной реакцией я сталкиваюсь в настоящее время.
Я понимаю, что вопрос о происхождении жизни, сущности жизни, смысле жизни, ценности жизни или цели жизни способен вызвать скептическую усмешку в любой хорошо образованной аудитории. Престижный журнал общей биологии Российской Академии наук не принимает к публикации статьи по проблемам происхождения жизни в принципе, подобно тому, как ни одно патентное бюро не принимает к рассмотрению заявки на изобретение вечного двигателя.
Мне вспоминается одна история про молодую революционерку, которая из-за идейных разногласий совершила суицидальную попытку, выстрелив в себя. Перед смертью друзья принесли ей спелые вишни. Она съела одну из них и заметила: «Вот вполне достаточное основание для того, чтобы жить». После чего умерла. С моей точки зрения, жизнь — как вишенка. Она вкусная, и её нужно есть. Самое главное в нашей жизни — это то разнообразное удовольствие, которое она доставляет нам. Наша жизнь с её многочисленными переживаниями — «цветная». Она переливается сотнями красок, мерцает, искрится всеми цветами радуги. Она бесконечно разнообразна, как цветные картинки детского калейдоскопа. Небо — синее, трава — зелёная, котлетка — вкусная; всё вокруг пропитано запахами, звуками, прикосновениями. И вся эта красота дана нам ни за что, просто так, и каждый день, и просто потому, что ты родился и живёшь. Живется — и живи, и радуйся жизни такой, какая она есть: во всех ее проявлениях, здесь и сейчас. Это основной лозунг психотерапии, под которым может подписаться и психоанализ, и тифоанализ. И поскольку психотерапия призвана нормализовать жизнь человека, очевидно, что психотерапевту необходимо иметь определенное представление о том, что и куда он, собственно нормализует.
У меня есть непреодолимое впечатление, что жизнь представляет собой закономерный процесс, и она неизбежно возникает при определенных условиях. Благоговение перед жизнью на этом основании испытывать сложно, потому что подобных закономерных и неизбежных процессов можно наблюдать вокруг во множестве. Так же неизбежно и закономерно возникают пузырьки газа в воде, нагретой до определенной температуры. Точно так же неизбежно они исчезают при понижении температуры. Удивляться возникновению жизни можно столь же долго и с тем же основанием, что и удивляться «чудесному» возникновению кристаллов, снежинок и других фрактальных систем. Должен ли я каждый раз благоговеть перед кастрюлей с кипящей водой? Допускаю. что только в одном случае: если я голоден, а в кастрюле помимо кипящей воды есть еще и пельмени. Перед такой кастрюлей я согласен минут пять благоговеть. Почему нужно благоговеть перед жизнью — мне непонятно. Я не собираюсь благоговеть перед живой курицей, но я согласен благоговеть перед курицей мертвой, если она при этом хорошо прожарена. До тех пор, пока человек будет переживать из-за гибели одного человеческого эмбриона, у которого разума не больше, чем у улитки, сильнее, чем из-за гибели взрослого разумного шимпанзе — говорить о биофилии в практическом применении не имеет смысла. Мне не известна ни одна характеристика жизни, которой бы не обладала какая-либо другая неживая форма материи, и нет ни одного перечня свойств, которые четко отделяли бы живую материю от неживой. Если мы начнем говорить о проблемах определения жизни, то рискуем забрести в такие теоретические дебри, из которых выберемся в лучшем случае через 500—600 страниц текста. Нужно ли нам это? Нет. Мы не должны забывать, что здесь нас, собственно, интересуют не фактические и теоретические аспекты возникновения жизни (сколь бы интересны они ни были), а их конкретное приложение к тифоаналитической практике.
Поэтому остановимся на максимально общем определении, которое нас вполне устраивает: жизнь — одна из форм существования бытия. Человек — одна из форм жизни. Относится ли вирус к этой форме, я не знаю. Поскольку в ближайшее время проблема психотерапии вирусов и повышения качества их жизни (или не-жизни) перед нами не стоит, позволим себе обойти эту проблему стороной. Теория, которая, с нашей точки зрения, на сегодняшний день позволяет непротиворечиво объяснить максимальное количество феноменов жизни, — это теория эволюционного абиогенетическогоее происхождения. Если бы мы попытались только обозреть (не говоря уже рассмотреть) всю фактическую коллекцию абиогенетической теории, у нас бы не хватило места даже на это. Поскольку эта информация легко доступна и мы не ставим себе здесь задачу убедить кого-либо в преимуществах той или иной теории, отсылаю заинтересованных к первоисточникам. Какое бы количество фактов сторонники абиогенетического происхождения жизни ни приводили в подтверждение своих взглядов, они никогда не достигнут своей цели, если эта цель – переубеждение креационистов. В конце концов, избыточная активность, направленная на убеждение кого-либо в чем-либо, всегда свидетельствует лишь о том, что переубеждающий сам до конца не уверен в том, в чем пытается убедить другого.
Поскольку мы наблюдаем, что существование материи в живой форме возможно только при определенных условиях, и поскольку предполагаем, что на Земле такие условия возникли в определенный момент (около 5 миллиардов лет назад), мы предполагаем, что, когда на Земле таких условий не было — не было и жизни. Когда эти условия появились — возникла жизнь. Скорее всего, возникла так же неизбежно, как неизбежно происходят любые превращения материи, и, скорее всего, так же неизбежно исчезнет при изменении некоторых условий. В возникновении жизни в буквальном смысле слова виноваты обстоятельства. Поскольку те же формы материи, что мы наблюдаем рядом с собой, мы наблюдаем в обозримых пределах Вселенной, то более чем вероятно, что при тех же обстоятельствах так же неизбежно, как и на Земле, жизнь возникает и в других участках Вселенной. И так же неизбежно исчезает. Если бы мы обладали большими, чем имеем, временными возможностями, при создании определенных условий некий бессмертный ученый мог бы бесконечное число раз наблюдать процесс возникновения и гибели жизни. Таксоны и цивилизации зарождались бы и исчезали на его глазах точно так же, как на наших глазах рождаются и умирают люди, со скоростью тех самых пузырьков в кипящей воде, о которых мы уже говорили. И каждый лопнувший пузырек уносил бы с собой и бесчисленные жизни его несчастных обитателей, обожженных «божьей искрой разума», наивно убежденных, что они есть средоточие интересов мироздания, и бесчисленные жизни его счастливых обитателей, живущих с разумом в дружбе. Последним в жизни было так хорошо, что они выходят из нее, как зрители после хорошего кино — счастливые и довольные. Полагаю, что только человек, который смотрит плохое кино, может мечтать, что после окончания сеанса ему покажут что-то лучшее, и только он может начать думать, как ему выйти из зала, не дожидаясь окончания сеанса. Если я смотрю захватывающее и интересное кино — мне совершенно все равно в момент просмотра, что будет после. Любая мысль, возникшая во время сеанса по поводу того, что я здесь делаю, свидетельствует о низком качестве фильма.
Любая мысль о смысле жизни — очевидный симптом ее низкого качества.
Достаточно давно существуют два принципиально различных взгляда на происхождение жизни. Антропоцентризм предполагает, что все мироздание и Вселенная существуют в интересах человека (так называемый антропный принцип). Интересно, что когда один отдельно взятый человек начинает утверждать, что все события, происходящие вокруг него, имеют к нему какое-то отношение, например, по телевизору показывают специально для него какие-то передачи, — это является основанием для того, чтобы заподозрить у него расстройство психической деятельности и рекомендовать помощь психиатра. Когда аналогичные вещи высказывают в отношении всего человечества люди, называющие себя учеными, это рассматривается как научная теория и вызывает всеобщее уважение.
Мне близок тот подход к проблеме жизни, который считает, что эволюция биосферы идет в направлении упорядочивания круговоротов вещества и энергии. Разумеется, не Вселенная развивается с целью порождения на определенном этапе жизни, а жизнь возникает на определенном этапе развития Вселенной. Известная концепция панспермии утверждает (помимо того, что жизнь могла быть занесена на Землю извне), что жизнь является одним из фундаментальных свойств материи, и вопрос о «происхождении жизни» стоит в том же ряду, что и вопрос о «происхождении гравитации». Жизнь как форма существования материи нужна ей. Для чего? С планетарной точки зрения жизнь может быть рассмотрена как «способ стабилизации существующих на планете геохимических циклов». Жизнь можно рассматривать и как частный случай процесса химической самоорганизации в неравновесных условиях. Знаменитый химический цикл Кребса (основа клеточного дыхания), катализирующий превращение молекулы уксусной кислоты в две молекулы углекислого газа и восемь атомов водорода, и ядерный углеродный цикл Бете-Вайцзекера, обеспечивающий светимость Солнца за счет превращения четырех атомов водорода в один атом гелия, обладают одним фундаментальным сходством: в обеих реакциях высокоэнергетическое вещество превращается в бедноэнергетическое. Жизнь, как и ядерная реакция, помогает материи избавиться от напряжения. Основатель квантовой механики Э. Шредингер в книге «Что такое жизнь с точки зрения физика?» определял жизнь как работу специальным образом организованной системы по понижению собственной энтропии за счет повышения энтропии окружающей среды. То есть жизнь — это система, которая понижает энергию окружающей среды за счет повышения своей энергии.
Исходя из антропного принципа, традиционно принято считать, что живая система использует окружающую среду для своего существования. Мало кто задумывается о возможности обратного: не мы используем окружающую среду, а окружающая среда использует нас как удобную форму своего существования. Н.Н. Моисеев обозначает этот энергетический принцип так: если в данных условиях возможны несколько типов организации материи, то реализуется тот, который позволяет утилизировать внешнюю энергию в наибольших масштабах и наиболее эффективно. Жизнь — это качественная самовоспроизводящаяся диссипативная система, позволяющая оптимальным образом переводить большое количество материи из высокоэнергетического состояния в низкоэнергетическое.
Первые экспериментальные подтверждения абиогенетической теории происхождения жизни появились в начале XX века. А. Опарин и Дж. Холдейн в 20-е годы экспериментально показали, что в растворах высокомолекулярных органических соединений могут возникать зоны с их повышенной концентрацией (коацерватные капли), которые ведут себя подобно живым объектам: самопроизвольно растут, делятся и обмениваются веществом с окружающей средой. В 1952 году Стэнли Миллер в лабораторных условиях смоделировал условия первобытной Земли. Он заполнил одну колбу природными газами (метаном, водородом и аммиаком), другую — водой и включил генератор электрических разрядов (молний). Вернувшись утром в лабораторию, Миллер обнаружил в колбе вместо воды бульон из аминокислот. Для возникновения жизни необходимо было всего лишь немного вещества, в избытке имевшегося на примитивной Земле, избыток свободной энергии и время. Причем не очень много.
Дальнейший процесс на реальной Земле разворачивался достаточно стремительно: аминокислоты комбинировались в цепочки, способные к удвоению и размножению (РНК и ДНК), эти цепочки образовывали колонии, колонии — клетки, а клетки — организмы. Одной из таких колоний являемся мы. Колонии клеток (организмы) образовали другие колонии, некоторые из которых (например, креационисты) полностью отрицают все то, что написано выше. На все это ушло около 4-х миллиардов лет из примерно пяти, которые вообще существует Земля, и пятнадцати, которые существует Вселенная. Некоторые колонии организмов, существующие на современной Земле, производят в качестве отходов жизнедеятельности такие продукты, которые потенциально способны изменить условия среды таким образом, что жизнь как форма существования материи временно прекратится. Имеются в виду симбиотические колонии организмов физиков-ядерщиков, военных и политиков, паразитирующих на колониях других организмов.
На определенном этапе абиогенетическая теория соединилась с новой термодинамикой, утверждающей неизбежность образования и усложнения структур в любой системе, где есть поток вещества и избыток свободной энергии. Такие структуры называют диссипативными, так как они возникают на границах сред с различным напряжением и рассеивают вещество и энергию. Диссипативной системой является воронка вытекающей из ванны воды. Эта воронка существует как форма материи, в ней идет постоянный обмен веществ, она имеет начало и конец существования. Поэтому для любителей благоговения перед жизнью ванна — хороший полигон для тренировки. Они могут, набирая и выпуская воду из ванны, бесконечно благоговеть перед таинством креации великого диссипативного процесса. Аналогично воронке в воде, диссипативная система живого организма осуществляет постоянный обмен веществ, непрерывно включая в себя нечто внешнее (агрессия) и выбрасывая нечто внутреннее (элиминация).
Многие ученые понимают, что неравновесная термодинамика сильно изменила картину мира. Процесс происхождения жизни потерял свою уникальность и стал обычной, хотя и сложной, научной проблемой. Илья Пригожин считает, что старая проблема происхождения жизни предстала перед нами в новом свете. Жизнь как изолированная система несовместима со вторым законом термодинамики и принципом порядка Больцмана, но не противоречит тому типу поведения, который устанавливается в неравновесных условиях. Жизнь перестает противостоять «обычным» законам физики.
Мы уже имели ранее и необходимость, и возможность обратиться к теориям развития жизни, когда занимались изучением онтогенетической персонологии. Существующие на сегодняшний день теории онтогенеза можно условно разделить на две группы: теории, объясняющие механизмы созревания живых систем, и теории, объясняющие механизмы старения живых систем.
Теории созревания можно условно разделить на две подгруппы: энтропийные — предполагающие, что половые клетки обладают потенциальным запасом энергии, которая при соединении гамет начинает высвобождаться, и негэнтропийные — предполагающие, что половые клетки при соединении не обладают достаточным количеством энергии для роста организма, но имеют некий специфический для всего живого механизм, позволяющий ассимилировать необходимую энергию извне, создавая «беспрецедентный» с термодинамической точки зрения процесс отрицательной энтропии (негэнтропии).
Энтропийные теории развития полагают, что организм приходит к своей зрелости и детородному периоду уже достаточно состарившимся и исчерпавшим свой энергетический потенциал. Развитие индивида отождествляется с процессом скатывания шарика по желобку вниз или раскручиванием часовой пружины, заведенной в момент оплодотворения.
Негэнтропийные теории полагают, что организм приходит к периоду половой зрелости максимально энергетически заряженным и с максимально возможным напряжением. При этом созревание отождествляется с процессом закручивания пружины, во время которого энергетические резервы развивающегося организма не растрачиваются, а приобретаются. И только после достижения зрелости происходит смена негэнтропийных тенденций на энтропийные.
К негэнтропийным теориям примыкают «теории паруса», или информационные модели онтогенеза, которые предполагают, что человеческий зародыш представляет собой компактную информационную матрицу, вроде туго свернутого паруса или парашюта с минимальным запасом эндогенной энергии, а онтогенез, по сути — это разворачивание информационной матрицы в потоке экзогенной энергии. Развитие организма представляется чем–то вроде надувания ветром скомканного бумажного пакета. К подобным моделям относится модель Алана Тьюринга, который попытался математически описать эмбриологический морфогенез с помощью концепции самоорганизации в пространственно распределенных биологических системах. Тьюринг не закончил свою работу, потому что из-за принудительного лечения от гомосексуальности впал в депрессию и покончил с собой. Поставленная им проблема самоорганизации морфогенетических структур концептуально близка к проблеме самосборки белков. В обеих системах наблюдается переход от гомогенного состояния к структурированному, в обоих случаях этот переход энергозависим. При наличии потока энергии через систему самособирающихся белков, мембран или тканей наблюдаются явления самоорганизации. Внешняя энергия расходуется на процессы структурирования живой системы.
Таким образом, в отношении энергообеспечения развития организма существует два различных подхода, один из которых постулирует автономное эндогенное энергетическое обеспечение процессов морфогенеза за счет энергии, аккумулированной в процессе гаметогенеза, другой — необходимость внешнего энергетического потока на протяжении всей жизни. Обе теории равно предполагают, что живая система существует за счет потребления внешней энергии — с той лишь разницей, что первая ставит акцент на период гаметогенеза, а вторая — на весь период созревания.
Теории старения живых систем можно разделить на три группы:
Теории изнашивания.
Теории засорения.
Теории истощения.
Теории изнашивания.
Полагают, что прекращение жизнедеятельности происходит исключительно потому, что структурные компоненты, особенно те из них, которые не обновляются, приходят в негодность. Организм – это механизм, а все механизмы ухудшаются и портятся вследствие самой деятельности. Теории изнашивания не только в принципе объясняют старение организма ухудшением функционирования тех или иных систем, но и практически пытаются выявить конкретные структуры, которые «ломаются» в первую очередь. Особое внимание обращается на изнашивание коллоидных структур (гистерезис). Считается, что с возрастом в молекулах коллагена нарастают межмолекулярные водородные и другие, более «рыхлые», связи, что приводит к уменьшению свободной энергии молекул и приближению всей коллоидной системы к наиболее вероятному термодинамическому состоянию. Обращалось внимание и на генетический материал. Ряд ученых полагает, что длительное пребывание ДНК в клетках организма, не сопровождаемое ее делением, приводит к утрате активности отдельных участков, нарушению репродукции РНК и белков в стареющих клетках. Широкое распространение имеет теория иммунологического старения организма, базирующаяся еще на идеях И.И. Мечникова. Предполагается, что у организма данного вида подавлена возможность синтеза иммунных тел на свои белки. С возрастом происходит ослабление этого «репрессирования», и иммунные тела начинают постепенно разрушать клетки собственного организма.
Исходя из теорий изнашивания, с целью увеличения продолжительности жизни нужно проявлять максимальную заботу о своем организме при его Эксплуатации, и, в принципе, эксплуатировать его как можно меньше и реже.
Известным сторонником этой точки зрения был Ганс Селье, который считал, что адаптационные ресурсы организма строго детерминированы, они только тратятся и не восстанавливаются. Равным образом когда-то считали, что каждый мужчина рассчитан на определенное количество половых актов, и многие мужчины имели специальную записную книжку, в которой скрупулезно отмечали каждую «растрату».
Теории засорения.
В отличие от вышеприведенной теории изнашивания, полагают, что части системы вполне могли бы еще функционировать, но сама система начинает «засоряться», и остановка происходит в связи с недостаточностью механизмов «очистки» и «смазки». Эти теории можно отнести к одним из самых ранних теорий старения и смерти. Еще И.И. Мечников считал, что причина смерти — самоотравление организма.
Исходя из того, что в процессе жизнедеятельности возникают токсические продукты конечного и промежуточного метаболизма (в особенности при гниении продуктов в толстом кишечнике), И.И. Мечников видел в аутоинтоксикации, длящейся в течение всей жизни, основную причину старения и смерти.
Разновидностями теории засорения являются очень интересные теории «дифференцировки» и «специализации». Эта группа теорий исходит из того, что при специализации и дифференциации тканей происходят перегрузка клеток цитоплазматическими специализированными образованиями и обеднение их первичной, высокожизнеспособной и саморепродуцирующейся протоплазмой. Сторонники этой точки зрения пропагандируют в целях удлинения жизни экологические и санационные процедуры, начиная от жизни на природе, употребления в пищу «Natur-Product» и кончая очистительными клизмами и периодическим голоданием с целью сожжения шлаков и выведения их из организма.
Теории истощения.
В отличие от теорий изнашивания и засорения, полагают, что все дело в ограниченности энергетического потенциала: живая система неизбежно прекращает свое функционирование, как только энергия кончается. Такие теории растраты жизненной материи и энергии предполагают, что в половых клетках изначально заложен максимальный энергетический потенциал, который при образовании зародыша начинает прогрессирующим образом убывать, приводя организм к постепенной энергетической смерти. Эта внутренняя энергетическая субстанция называлась по-разному: «жизненный фермент», «субстрат жизни», «запас жизненной энергии», но суть сводилась к одному — эта субстанция или энергия содержится в зародышевых клетках, и в процессе развития организма происходит ее уменьшение.
При этом утверждалось, что причиной смерти служит не изнашивание самих клеток, а прогрессивное ограничение способности клеток к созиданию ядерного вещества.
Число клеточных поколений, могущих развиваться в течение жизни из зародышевого яйца благодаря первоначальному запасу в нем созидающей энергии, определяет собой ту максимальную продолжительность жизни, которой могут достигать разнообразные организмы. Количество этой созидающей энергии представляется для каждого вида нормированным. В рамках этой теории Макс Рубнер в начале XX века выдвинул теорию старения, сводящуюся к тому, что каждый организм способен на один килограмм веса своего тела переработать в течение жизни строго определенное количество энергии. Все виды млекопитающих, за исключением человека, характеризуются неким постоянством потребляемой энергии. Представители всех видов млекопитающих, как полагал Рубнер, после завершения роста на один килограмм веса тела потребляют на протяжении жизни приблизительно одинаковое количество энергии, равное в среднем 191600 ккал. Каждый организм характеризуется предопределенным для него генетическим фондом. Время, в течение которого генетически предопределенный фонд будет затрачен, находится в обратно пропорциональной зависимости от интенсивности метаболизма, то есть от линейных размеров организма, или «закона поверхности». Продолжительность жизни представляет собой функцию интенсивности обмена веществ и энергии. Трата «энергетического фонда» начинается сразу же после первого деления оплодотворенной яйцеклетки, и тем самым каждый физиологический акт приближает живую систему к ее концу.
Указанные представления дали повод сравнивать онтогенез с заведенными часами, запускаемыми в ход посредством механизма оплодотворения. В заведенных часах постепенное раскручивание пружины продолжается до тех пор, пока не исчерпается потенциальная энергия, сообщенная ей заводом, то есть приложенной извне работой.
Концепцию о генетически предопределенном энергетическом фонде разделял и один из выдающихся теоретиков биологии Э.С. Бауэр. Он, в частности, ввел понятие «константа Рубнера» для характеристики указанного энергетического фонда. Как и Рубнер, Бауэр считал, что исходный потенциал половых клеток у различных видов млекопитающих одинаков. Отношение производимой в течение жизни работы организма к свободной энергии половой клетки Бауэр обозначил понятием «константа Рубнера». Общее количество калорий, которое может быть переработано организмом в течение всей его жизни, зависит исключительно от свободной энергии яйцевой клетки и пропорционально последней. Старение организма является необходимостью и предопределено величиной энергетического фонда. Человек отличается от других живых существ тем, что имеет исключительно высокую жизненную «прочность» протоплазмы, способной «пропустить через себя» в 3—4 раза больше энергии в течение взрослой жизни, чем все исследованные животные. То есть человек (с точки зрения эволюции) — очень качественная система утилизации свободной энергии.
Эта группа теорий представляется наиболее обоснованной и одновременно наиболее бесперспективной в смысле увеличения продолжительности человеческой жизни, поскольку «многочисленные исследования энергетического обмена организма неоспоримо свидетельствуют о последовательном понижении его интенсивности в процессе старения».
Как мы могли убедиться, любая теория онтогенеза (как роста, так и старения) опирается на энергетические факторы и вольно или невольно оперирует понятием «энергия». В середине XIX века Герман Гельмгольц открыл закон сохранения энергии. «Все мы — дети Солнца, — говорил он, — ибо живой организм, с позиции физика, — это система, в которой нет ничего, кроме преобразования различных видов энергии». К настоящему моменту практически всем ясно, что «поток энергии является ключевым моментом в существовании биологических структур и их динамике», но лишь сравнительно недавно предприняты попытки создать теории онтогенеза, опирающиеся на основные принципы термодинамики.
Термодинамике живых систем стали уделять особое внимание с середины ХХ века, в связи с работами Ильи Пригожина, который считал, что для описания процессов развития, роста и старения организмов можно и нужно использовать критерий эволюции термодинамики линейных необратимых процессов. Если система не находится в стационарном состоянии, она будет изменяться до тех пор, пока скорость продукции энтропии, или, иначе, диссипативная функция системы, не примет наименьшего значения. В живых системах можно приравнять диссипативную функцию к интенсивности теплопродукции (дыханию и гликолизу). Теорема Пригожина имеет очень простой биологический смысл, так как сводится к утверждению, что в процессе возрастных изменений организма происходит непрерывное снижение интенсивности этих процессов. Во время развития, роста и последующих возрастных изменений организма происходит непрерывный процесс старения системы, выражающийся в уменьшении удельной скорости продукции энтропии. Многочисленные экспериментальные данные, полученные в последнее время, достаточно хорошо подтверждают это положение.
Каждый новый организм начинает свою жизнь с высокого уровня удельной скорости продукции энтропии, которая с возрастом замедляется вплоть до полной остановки. Согласно данным, полученным еще Р. Гертвигом, энергия деления клеток является наибольшей тотчас же после оплодотворения, затем она все более уменьшается, сначала медленно, затем все более и более быстро. С точки зрения термодинамики необратимых процессов, невозможно, чтобы отдельно существующая живая система, какой является зародыш, растущий организм или взрослое животное, могла бы сама собой при неизменных внешних параметрах устойчиво уклоняться от стационарного состояния. Этот процесс возможен только в период возникновения половых клеток и, в частности, в оогенезе. С точки зрения термодинамической теории, только в оогенезе и сперматогенезе происходит процесс омоложения системы, только в этот момент заводится пружина на часах жизни. На всех остальных этапах происходит процесс старения.
Некоторые экспериментальные исследования процессов дыхания зародышей показывают, что в начальный период происходит значительное увеличение интенсивности дыхания и теплопродукции. Поэтому Пригожин признал, что на ранних стадиях развития его теория пока не согласуется с имеющимися экспериментальными данными. Эйнштейн в аналогичной ситуации сказал, что если мироздание не согласуется с его теорией, то это проблема Бога, а не его.
На фоне этих исследований и споров можно легко заметить, как остатки антропоцентризма и антропного принципа заставляют даже самых атеистичных и абиогенетичных исследователей при осмыслении процессов жизни ставить многое с ног на голову. Иногда даже самые самоотверженные сторонники эволюционной теории не в силах избегнуть этих тенденций в форме либо витацентризма (когда в центр мироздания становится уже не сам человек, а жизнь в целом) или геноцентризма, когда весь эволюционный процесс выводится из интересов гена. Иногда только это мешает пониманию некоторых процессов. Например, очень мало кто может заметить, что простая и избитая фраза: «обмен веществ необходим для существования живых организмов» — принципиально не верна. С точки зрения термодинамики живых систем, все наоборот: живой организм необходим для обеспечения обмена веществ. Утверждение, что обмен веществ необходим для существования жизни — незаметный, но опасный антропный витацентристский акцент, подразумевающий, что некие процессы необходимы для жизни, а не жизнь необходима для осуществления неких процессов.
Тот факт, что неорганическая материя «заинтересована» в образовании жизни, и то, что тенденцией к жизни обладает сама неорганическая материя, понимали уже мыслители древности. Тенденцию различных объектов при определенных условиях порождать нечто более сложное описывали в философии Гераклит, Гесиод и Эмпедокл с их принципами любви и вражды. Позднее эту тенденцию в химии как принцип сродства описал Роберт Бойль. Об этом говорил Бергсон, когда писал о «жизненном порыве». Горовиц в 50-х годах заявлял:
«Я считаю самовоспроизведение и обмен веществ важными, но недостаточными критериями наличия жизни; система должна быть наделена импульсом к развитию».
Многие из вышеперечисленных деталей этапов формирования жизни до конца не известны, но уже те открытые участки картины, которые на сегодняшний день мы имеем возможность лицезреть, позволяют отнести ее к кисти мастера, которого большинство ученых называют ныне «эволюционный абиогенез». Теория абиогенеза на основании имеющихся данных постулирует, что в определенных условиях определенная неорганическая материя неизбежно переходит в органическую форму и наоборот. Неорганическая материя имеет тенденцию к формированию жизни.
Здесь же нужно сказать пару слов о витализме, или теории «жизненного порыва», к представителям которой я себя отнести не могу, поскольку предполагаю наличие у материи не некоего жизненного порыва, а некоего жизненного позыва. С точки зрения виталистов, жизнь есть результат некоего акта. С моей точки зрения, жизнь есть результат некоей тенденции. Разница между этими двумя понятиями для меня столь же велика, как разница между гипотетической денежной премией, которую в результате «порыва» или «акта» со стороны начальства я могу получить, и устойчивой тенденцией медицинской академии как бюджетной организации платить мне зарплату.
Влечение к смерти
Итак, путь от зачатия до смерти мы традиционно называем жизнью, рассматривая жизнь как одну из форм существования материи, закономерно возникающую при определенных условиях в процессе трансформации материи. Определить differentia specifica, чем качественно отличается живая материя от неживой, на сегодняшний день мы точно не можем, но предполагаем, что живое и неживое — взаимно переходные состояния: живое возникает из неживого, чтобы затем в неживое и возвратиться. Возможно, здесь кроется некий труднопреодолимый дефект человеческой психики, поскольку нам всегда трудно мыслить о чем-либо в одно и то же время и дискретно, и константно. Аналогичным образом мы до сих пор не можем четко дифференцировать грань между человеком и животными, добром и злом. Не можем понять, как свет может быть одновременно и частицей, и волной. Большое количество взрослых людей бьется над вечным детским вопросом: куча — это сколько, или где именно находится то место, в котором пища, которую мы съели, из «Не-Я» превращается в «Я». И хотя гештальт-психологи давно уже показали, что мы не можем даже на простейшей картинке увидеть одновременно 6 и 7 кубиков, ученые упорно пытаются с помощью того же самого, не способного на такой пустяк, мозгового аппарата уловить момент, когда неживые процессы переходят в живые и наоборот.
Повторюсь здесь, что я всего лишь практикующий психотерапевт, зарабатывающий деньги на жизнь своей семье. Мне вполне достаточно, что я могу увидеть на знаменитой картинке Перлза сначала 6, а потом 7 квадратиков. Я знаю, что они там есть одновременно. Как прагматику мне вполне достаточно, что я могу легко отличить живого пациента от мертвого, и проблема смерти меня, может быть, вообще бы не волновала, если бы многие из моих живых пациентов не высказывали откровенного желания перейти в противоположное состояние. Мне это не нравится. Я люблю живых пациентов, поскольку подозреваю, что без радикальной смены профессии на мертвом пациенте я много не заработаю. А менять профессию в ближайшее время я не намерен.
Основная предпосылка современной научной теории происхождения жизни, как мы рассмотрели это в предыдущей части, — абиогенез, и в середине XX века экспериментально был осуществлен абиогенный синтез белковоподобных и других органических веществ в условиях, воспроизводящих условия первобытной Земли. Однако здесь не место повторно углубляться в теорию происхождения жизни, поэтому оставим Анаксагора, Эмпедокла, Вернадского, Опарина, Заварзина, Миллера, Фокса, Лавлока и других ученых вместе с их субвитальными единицами и зонами, эобионтами, биоценозами, рибозимами и рибосомами несколько в стороне, склонив низко голову перед ними в знак признательности. Скажем в целом: на поверхности Земли мы наблюдаем биосферу, частью которой является человек. Жизнь как форма существования материи отличается по многим параметрам от не-жизни. Есть все основания утверждать, что возможность и механизм самозарождения жизни на Земле постепенно обрастает все большей доказательной базой.
С тех пор как на Земле существует жизнь, мириады живых существ постепенно и последовательно сменили друг друга в эволюционной цепочке. Одни формы жизни возникали, другие исчезали; какие-то из них практически в неизменном виде сохранились на протяжении миллионов лет, какие-то в силу ряда причин претерпели существенные изменения. Мы каждую секунду наблюдаем на поверхности Земли необыкновенный процесс удивительной активности: неорганическая материя самоструктурируется по определённой программе, содержащейся в молекулах РНК и ДНК. На наших глазах в буквальном смысле из «праха земного» возникают структуры, которые мы называем живыми, само существование которых мы называем жизнью, структуры, которые живут и, исполнив своё предназначение (передать эстафетную палочку жизни следующему поколению), в конце своего существования в прах земной и возвращаются. Четыре миллиарда лет продолжается этот процесс на Земле, и неисчислимая армия живых существ бесконечно ведет борьбу за право наилучшим образом исполнить то своё предназначение, суть которого заключается в способности перевести как можно большее количество неорганической материи в органическую.
Современная широко распространенная психологическая парадигма витальной активности предполагает ее (витальную активность) имманентной живому существу как бы по определению. Все биологические единицы от простейших до человека наделяются первичным влечением к жизни. Жизнь рассматривается как высшая ценность. Человеческая жизнь бесценна по определению. Гласно и негласно подразумевается, что жизнь является вершиной развития материи, а человек — вершиной развития жизни. Варьируется лишь подход: часть исследователей считает, что это произошло случайно и нам «повезло», часть выдвигает «антропный принцип» и скромно утверждает, что смысл развития Вселенной заключается в создании человека.
На этом основании следует признать, что современная психология, а вслед за ней и психотерапия, в значительной степени поражена тем самым вирусом витализма, от которого биология долго и безуспешно пытается излечиться. Виталистический принцип «жизненного порыва» без какой-либо критики принят в современной психологии и единовластно господствует в ней. Не являются исключением в этом вопросе и глубинная психология и психоанализ. Витализм и «жизненный порыв» нашел свое выражение здесь сначала в теории либидо, а затем в теории влечения к жизни. Только в конце жизни Фрейд нашел в себе мужество противопоставить безраздельному господству виталистической идеи идею противоположно направленного влечения — влечения к смерти. Чем закончилось эта попытка, мы уже писали. Что выйдет из нашего утверждения, что на самом деле человек, равно как и любое другое живое существо, не обладает влечением к жизни, — можно только догадываться.
Не имею возможности сказать точно, когда, но, очевидно, достаточно давно и, скорее всего, намного раньше, чем в начале XX века, в сознании человека отразился тот факт, что в основе его собственного существования может лежать влечение к смерти.
Факт этот, по большому счету, настолько очевиден, что по сути своей даже банален. Ранее мы уже писали, что Фрейд в работе «По ту сторону…» был вынужден совершать головоломные и эквилибристические упражнения только для того, чтобы сказать все то, что было уже сказано им на первых же страницах работы: и про влечение к смерти, и про то, что принцип удовольствия находится в подчинении у влечения к смерти, и про то, что организм, ограниченный в своей деятельности системой хронификации жизни, вынужден искать окольные пути к смерти. Несмотря на это, Фрейд вынужден был в дальнейшем неоднократно извиняться за то, что у него эти акробатические сальто-мортале (в буквальном смысле — смертельные сальто) получились.
Я не уверен, что стоит ломиться сквозь бетонную стену в том случае, когда рядом есть открытая дверь, через которую может пройти не только ученый, обогащенный теоретическими знаниями и клиническим опытом, но и любой школьник.
Если мы с вами наблюдаем некий процесс и видим, что он имеет определенное направление движения из условной точки А в условную точку Б, и если мы предполагаем при этом присущую этому процессу определенную тенденцию, то, если мы назовем эту тенденцию влечением, спрашивается (задача для пятого класса общеобразовательной школы): влечением к чему будет определяться данный процесс? Дети ответят, что влечением к точке Б.
|
|
SHAPE * MERGEFORMAT
Если далее, не останавливаясь на этом, мы совершим с вами еще одно интеллектуальное усилие и рассмотрим с этих же позиций теперь уже другой определенный процесс, который мы с вами называем жизнью, то что мы увидим? Мы увидим все тот же вектор, определяющий направление некоторого движения, начальной точкой которого является, допустим, оплодотворение, а конечной — смерть.
|
SHAPE * MERGEFORMAT
Смерть |
Движение от точки А (зачатие) до точки Б (смерть) мы называем жизнью. Какая тенденция лежит в основе этого процесса? Или какое влечение, если мы будем использовать этот термин (хотя в зависимости от языковых, концептуальных и контекстуальных позиций эту тенденцию и влечение можно назвать по-разному: тягой, стремлением, склонностью, драйвом, волей, установкой или просто линией, направлением или курсом)? В данном случае использование того или иного понятия не играет существенной роли, поскольку вне зависимости от того, как мы назвали этот процесс, он всегда будет устремлен в одном направлении — к смерти. И, соответственно, всегда в основе жизни будет лежать тенденция к смерти, влечение к смерти, стремление к смерти и воля к смерти. Иного не дано.
Почему, спрашивается, если мы наблюдаем жизнь только как векторный процесс, всегда направленный из точки оплодотворения в точку смерти, и никогда по-иному, почему сама мысль о влечении к смерти, если она и высказывается, вызывает столь бурное сопротивление? Почему любые попытки решить эту, в общем-то простую, задачу воспринимаются как оскорбление общественного мнения, как вызов, если не как бунт?
Каким образом в основе жизни может лежать влечение к жизни?
Как в основе процесса может лежать влечение к процессу — непонятно.
По своей сути определение жизни через влечение к жизни есть классическое определение вечного двигателя, который якобы должен работать за счет внутренней тенденции к работе. Такого двигателя нет, равно как не существует и не может существовать никакого влечения к жизни у живой системы. С тем же успехом можно подозревать влечение к самому процессу качения у шарика, скатывающегося с горки по наклонной плоскости или влечение к самому процессу падения у того же шарика, если он падает с высоты. Единственное, чем они обладают — влечением к центру тяготения, а сам процесс движения возникает в силу его принципиальной возможности (определенные условия) и системы хронификации этого процесса — тех условий, которые препятствуют мгновенному достижению цели.
Процесс человеческой жизни ничем от этого не отличается. Жизнь — это закономерный флюктуирующий структурно-энергетический диссипативный процесс. Сама материя обладает тенденцией к жизни. Она постоянно порождает жизнь. Но, однажды порождённая, жизнь уже не обладает тенденцией к жизни, она имеет только одну тенденцию — рано или поздно остановиться в своём развитии и умереть. Обе эти тенденции равновелики. Ни одна из них не имеет преимуществ перед другой. На сегодняшний день энергетические условия на нашей планете в нашей системе таковы, что тенденция к жизни, возможно, относительно преобладает над тенденцией к смерти (масса биологической материи увеличивается, что, в принципе, не доказано). Завтра эти условия могут измениться. Жизнь постепенно замрёт и остановится.
Мы видим, что одна из структурно-энергетических форм витальной активности (человек), используя возможности центральной нервной системы, получила возможность искусственно регулировать уровень витальной активности, как повышая его, так и понижая (вплоть до полного прекращения). В естественных условиях в качестве мощного противодействия (foolproof) попыткам понижения витальной активности служит так называемый инстинкт самосохранения, который с помощью негативных эмоций (страха, тревоги, боли) отгоняет всё живое от возможности максимально быстро прекратить своё существование. Только человек в обход инстинкта самосохранения научился либо существенно понижать уровень своей витальной активности (психоактивные вещества), либо более или менее быстро прекращать её (суицидальная и парасуицидальная активность). Человека можно сравнить с «эволюционировавшим» электрическим чайником, который научился, по желанию, не выключаться сразу же после закипания и, соответственно, получил возможность самостоятельно решать вопрос: перегорать ему или нет.
Еще удобнее сравнить человека с часами-ходиками, хорошо понимая при этом, насколько повышается риск быть обвиненным в грубом механицизме
Что заставляет наш механизм-организм функционировать?
Во-первых, некто, кто нас изначально заводит – то есть тот, кто поднимает гирьку часов вверх. Только не нужно усматривать здесь новую теоретическую основу необходимости введения фигуры «Творца». Я полагаю, что двух фигур родителей вполне для этого достаточно, и Природа нас так устроила, что одним из самых лучших проявлений влечения к смерти, и, соответственно, одним из самых больших удовольствий, для нас является именно процесс завода часов, то есть наша сексуальность. Мы очень любим заводить детей. Процесс их заведения доставляет нам высшее наслаждение, и даже система самосохранения в этот момент не сильно мешает получать удовольствие, позволяя нам по такому достойному поводу в достаточной степени повредить себя, не испытывая при этом ни страха, ни боли. Отдельные представители человечества, заметив это упущение природы, не преминули воспользоваться им, замесив густой коктейль из собственной сексуальности, страха, боли и удовольствия.
Но вернемся к нашим часам.
Что заставляет их идти дальше, после того как они заведены?
Как это хорошо известно — лишь сила тяжести, которая постоянно притягивает гирьку к Земле. Гирька тянет цепь, цепь давит на шестеренки и так далее, и так далее, но даже самая маленькая и дальняя шестеренка в этих часах движется за счет все той же силы тяжести, которая действует на гирьку. В случае живого существа, коим является и человек, — это и есть влечение к смерти: то самое влечение к начальному состоянию, которое так верно сумел понять и описать Фрейд. Правда, при этом он же описал и обратное влечение — влечение к жизни, включив туда сексуальное влечение и влечение к самосохранению.
Задумаемся здесь: куда бы в наших часах мы с вами могли поместить влечение к жизни, и для каких целей оно могло бы нам там служить
Для чего в наших часах обязательно должна быть еще какая-то сила, которая как-то определяет их функционирование и при этом не имеет отношения к силе тяжести, действующей через гирьку? Более того, нам говорят, что эта сила должна каким-то образом препятствовать силе тяжести, и каким-то образом должна быть направленной на то, чтобы наши условные часы шли вечно. Есть ли в наших часах такая сила? Такой силы нет. В них есть механизмы, которые замедляют процесс движения, то есть хронифицируют его, но нет и в помине ни одной системы, которая бы обладала влечением к некоему подобию вечного тиканья или вечного самозавода. И якорно-маятниковая система, хронифицирующая процесс работы часов (именно за счет этой системы гирька не опускается с максимально возможной скоростью), и даже кукушка, которая каждый час оповещает нас о времени, — в основе своего функционирования имеют одну и ту же силу. Якорно-маятниковая система препятствует движению гирьки к Земле, но и она не представляет собой самостоятельной силы или самостоятельного влечения: она сама работает, как известно, за счет той силы, что влечет гирьку вниз.
Подобным образом устроен и человек. Его система хронификации жизни не обладает самостоятельным влечением, она работает за счет влечения к смерти и с помощью механизмов боли и страха, агрессии и элиминации не дает достигнуть желанного состояния максимально быстро. Обменные процессы в живой системе позволяют постепенно созреть ее механизму сексуальности, а механизм сохранения потомства позволяет созреть сексуальным механизмам потомства. После этого система хронификации жизни существенно повреждается и влечение к смерти получает возможность полноценного удовлетворения за счет саморазрушения в сексуальности и заботы о своих детях.
Я понимаю, как трудно неподготовленному читателю заподозрить даже в любви к своим детям и в удовольствии от любви к своим детям проявление влечения к смерти. Более привычна другая интерпретация: любовь к детям заставляет человека рисковать и жертвовать своей жизнью, а не наоборот. На самом же деле любовь к детям есть всего лишь одно из возможных проявлений влечения к смерти, способ, который позволяет нам эффективно и качественно умирать, получая от этого максимум удовольствия, так как родительский инстинкт позволяет намного легче обойти ту систему хронификации жизни, которая при других условиях с помощью боли и страха заставляет нас жить. Я могу здесь вспомнить в подтверждение этих слов свой сон.
Я плыву по морю. Рядом со мной плывут две мои дочери одиннадцати и семи лет. Берег еще очень далеко, и силы у девочек кончаются. Я вижу это и понимаю, что не смогу доплыть до берега с обеими. Я мгновенно принимаю для себя решение: старшая прожила на свете больше, чем младшая, и поэтому спасать нужно младшую. Я доплываю с ней до берега, оставляю ее там и возвращаюсь к тому месту, где оставил старшую. Ее не видно на поверхности воды, и я ныряю за ней. Погружаясь в воду, я смотрю по сторонам, но ничего кроме безграничного переливающегося зеленого марева не вижу. Я понимаю, что уже не смогу найти ее, но и сам не поплыву назад. Я продолжаю погружаться, испытывая при этом удивительное спокойствие и облегчение. Облегчение, сравнимое с удовольствием от исполненного долга.
Я полагаю, что в период своей жизни, соответствующий этому сну, внутри меня проснулось и подняло голову влечение к смерти, и оно очень хорошо понимало, что единственный вариант реализовать это желание, единственная структура и единственный путь, по которому оно могло бы проложить себе дорогу к цели – смерти, был родительский инстинкт. Как иначе можно было бы объяснить это сновидение? В реальной жизни мы, разумеется, не всегда можем определять и управлять обстоятельствами нашей жизни, но в сновидении в соответствии с принципом удовольствия ничто не мешает нашей голове создавать сюжеты, компенсирующие неудовлетворенные в реальности влечения. Если существует любовь к своим детям в общепринятом смысле этого слова, то что помешало моей голове нарисовать идиллическую картину загорания втроем на пляже, «придвинуть» берег ближе, чтобы можно было доплыть всем втроем, «дать» найти и спасти старшую дочь? Но нет: бессознательные глубины моей психики отвергли младшую дочь, выкинув ее на берег (спася ее) и поспешили уничтожить сознание, инцестуозно связав и растворив его в глубинах бессознательного. Именно этот процесс самоуничтожения доставил моей голове самое большое удовольствие, а спасение дочери выполняло всего лишь роль благовидного предлога для системы хронификации жизни. С моей точки зрения, тот же самый механизм лежит в основе немеркнущей популярности простого, как сама жизнь, сюжета, в котором родители сначала теряют своего ребенка (как правило, его берут в заложники некие злые силы), потом, рискуя своей жизнью, прилагают все возможные усилия, чтобы спасти его, и затем спасают. Утрата ребенка и возможность пожертвовать своей жизнью ради его спасения — бессознательная основа удовольствия от просмотра таких фильмов. Спасение ребенка и почти всегда сохранение жизни родителей — формальная уступка механизму хронификации жизни, которая требует сохранения не только жизни своего потомства, но и своей собственной.
Агрессивность
В основе жизни человека лежит возникающее в момент оплодотворения напряжение, которое всегда стремится к разрядке, процесс чего для отдельного индивида означает в буквальном смысле жизнь, а конечный результат – смерть. Разрядка эта возможна для всех живых структур двумя способами — через последовательное функционирование различных структур, имеющих отношение к хронификации жизни или их случайного или намеренного необратимого повреждения.
Мы говорим здесь о человеке, но даже рост и размножение простейшей амебы подчиняется этому закону. С увеличением размера амебы напряжение на ее поверхности увеличивается, что приводит к ее дальнейшему разрыву — делению на две части, после чего напряжение падает и неорганические вещества из окружающей среды за счет разницы потенциалов начинают поступать внутрь вновь образовавшихся амеб — и так до тех пор, пока их размер не увеличится настолько, что напряжение на поверхности вновь не приведет к делению.
Человек в этом отношении эволюционно выгоднее амебы лишь потому, что амеба обладает способностью только удвоить свой собственный вес после размножения: каждая амеба может перевести из неорганического состояния в органическое количество вещества, равное собственному весу. Человек эволюционировал намного дальше. Две половые человеческие клетки после соединения могут переработать из неорганической материи в органическую несопоставимо большее количество вещества. И поскольку любой живой организм представляет собой самовоспроизводящуюся систему по переработке неорганической материи в органическую, то человек в этом отношении — эволюционно достаточно качественная система, за одним исключением: его центральная нервная система, задача которой заключается в обеспечении удовлетворения влечения к смерти в рамках системы хронификации жизни, разработала достаточное количество вариантов, как в обход системы хронификации жизни либо существенно ускорить умирание (психоактивные вещества), либо путем короткого замыкания практически мгновенно прекратить ее (самоубийство).
Изучать все те когнитивные схемы, которые центральная нервная система разрабатывает с целью преодолеть систему хронификации жизни, страх и боль — изысканное наслаждение, но это — тема отдельного разговора. Здесь нам хотелось подробнее рассмотреть, каким образом функционирует эта система.
Напряжение, имеющееся в основе живой системы, нуждается в разрядке, что по своей сути и является основой того, что мы называем на языке психологии потребностью. Потребность вызывает неудовольствие. Неудовольствие – влечение. Влечение запускает все те структуры и механизмы, которые могут способствовать удовлетворению потребности. Деятельность этих структур приводит к удовлетворению потребности, снижению напряжения и удовольствию.
Схема этого процесса такова:
напряжение
↓
потребность
↓
неудовольствие
↓
влечение
↓
функционирование структуры
↓
удовлетворение
потребности
↓
снижение напряжения
↓
удовольствие
Этой схеме подчиняется любое поведение любой живой структуры, за тем исключением, что категории «удовольствие» и «неудовольствие» появляются, очевидно, лишь на том этапе развития живых систем, когда можно говорить о развитой центральной нервной системе. Вопрос, на каком именно, я думаю, относится к разряду спекулятивных. Скорее всего, вирус не испытывает удовольствия или неудовольствия в нашем понимании, что не мешает ему постоянно действовать в направлении снижения собственного напряжения и избегать ситуаций, вызывающих его повышение.
С момента зачатия при наличии определенных условий происходит последовательная структуризация живой системы человеческой зиготы: сначала автономно, а затем, после имплантации в оболочку матки, в системе плод — материнский организм. Еще внутри матки начинают функционировать важнейшие системы хронификации жизни плода: сердечно-сосудистая, пищеварительная и мышечная системы.
После рождения возникающее локально напряжение в дыхательном центре запускает маятникообразный процесс дыхания. Здесь совершенно непонятно, по какой причине Фрейд и психоаналитики, придерживающиеся теории стадийного развития либидо, полностью проигнорировали дыхательную систему. По какой причине либидо, не обойдя своим царским вниманием пищеварительную и выделительную систему, полностью проигнорировало систему дыхания, которая, между прочим, начинает функционировать самой первой — непонятно (при том, что в клинике психических расстройств проблемы дыхания встречаются повсеместно, а во многих философских системах дыханию (пране) уделяется самое важное место в дуальной паре жизнь — смерть). Жизнь, важнейшей частью которой считают либидо, принято определять от первого вздоха до последнего, а не от первого питания до последнего, или от первого акта дефекации до последнего, или, тем более, от первого полового акта до последнего.
С первых лет жизни начинает постепенно созревать система сексуальности, о завершении этого процесса у женщин свидетельствует начало месячного цикла, а у мужчин — способность к эякуляции. Все эти системы, как и многие другие, о которых мы не упомянули, развиваются и функционируют за счет того самого напряжения, которое изначально имеется в двух соединившихся половых клетках, и функционируют все они лишь для того, чтобы это напряжение уменьшить. Все эти системы подчиняются принципу удовольствия, координатором которого является центральная нервная система.
Центральная нервная система, подчиняясь влечению к смерти (принципу удовольствия) и системе хронификации жизни (принципу неудовольствия), в конечном итоге разрабатывает, усваивает и использует в течение жизни огромное количество моделей поведения, которые позволяют получать максимум удовольствия при минимуме неудовольствия (принцип реальности). Для этого живая система должна постоянно агрессивно ассимилировать необходимые для удовлетворения различных потребностей вещества и элиминировать (выводить) вещества, которые раздражают систему хронификации жизни не нужны или вредны для дальнейшей жизнедеятельности.
Здесь мы близко подходим к одному интересному феномену, о который было разбито много копий, и мимо которого и мы не можем так легко пройти. Речь идет о наблюдающемся в психологической и клинической практике феномене самопроизвольного спонтанного, автономного функционирования самых различных физиологических систем. В принципе, мы имеем право говорить о возможности к самопроизвольному функционированию любой физиологической системы, но наибольший интерес традиционно привлекает к себе система пищеварения, а именно акт сосания и так называемая немотивированная агрессивность.
Немотивированный акт сосания интересует нас не в последнюю очередь потому, что на нем строится по большому счету вся теория либидо Фрейда. Фрейд, соглашаясь с тем, что главный интерес ребенка направлен на прием пищи, обращает наше внимание на то, что когда ребенок, насытившись, засыпает, у него на лице появляется «выражение блаженного удовлетворения, которое позднее повторится после переживания полового оргазма». Я не знаю, конечно, сколько времени нужно не кормить ребенка или каким отвратительным по качеству должен быть оргазм, чтобы выражение лица при этом было примерно одинаковым, но Фрейд и сам считает, что это недостаточное основание для заключения о сексуальной природе акта сосания.
Более веским основанием для этого он считает акт сосания без приема пищи, который также сопровождается «блаженным выражением» и «показывает нам, что акт сосания сам по себе доставил удовольствие». Он ссылается при этом на мнение всем известного старого доктора Линдера из Будапешта, который настаивал на том, что акт сосания у ребенка имеет сексуальную природу. Отталкиваясь от него Фрейд сообщает нам о своем открытии: «Таким образом, мы узнаем, что грудной младенец выполняет действия, не имеющие иной цели, кроме получения удовольствия». Понятно, что никто и сам Фрейд в том числе, в этом не сомневался. Если вся психическая деятельность подчинена принципу удовольствия, о чем мы уже узнали раньше в тех же «Лекциях», то почему для того, чтобы в этом убедиться, нам так необходимо наблюдать за актом сосания ребенка?
Удовольствие, получаемое ребенком от акта сосания, говорит нам лишь о том, что он получает удовольствие от самого акта сосания — ровно так же, как и от любой другой своей деятельности. Точно так же можно получить удовольствие и от акта жевания или мастурбации. Но для этого необходимо, чтобы эти системы еще созрели. У ребенка они еще не созрели и он учится получать удовольствие от всех тех систем, которые имеются в его распоряжении: пищеварительная, выделительная, мышечная, вестибулярная.
Такое впечатление, что само функционирование любой структуры, служащей удовлетворению той или иной потребности (если мы вернемся к схеме, изображенной выше), обладает способностью вызывать удовольствие даже в том случае, если это функционирование в данный момент и не приводит к удовлетворению потребности. Этот феномен имеет отношение к особенностям структурно-динамического устройства нашего организма в целом и психики в частности, но никак не является доказательством пансексуальности нашего организма.
Аналогичное заблуждение возникает и в отношении феномена агрессивности. Агрессивность как процесс включения в себя необходимых веществ из окружающей среды имеет достаточно много самостоятельных этапов: поиск объектов в окружающей среде (объектный интерес; именно через агрессию влечение к смерти проявляется в виде объектного интереса, и то, что мы называем любовью, есть один из агрессивных дериватов), захват объектов, частичное их разрушение — деструкция, инкорпорация.
Не совсем понятные сомнения возникают тогда, когда начинают разбирать один из нормальных компонентов нормальной агрессивности — деструктивность. Способность человека получать удовольствие от деструктивности в чистом виде (от самого процесса деструкции) рассматривается как злокачественная деструктивность, и отграничивается от доброкачественной. Если я убил курицу, чтобы ее съесть — это доброкачественная деструктивность, если же я убил две курицы, одну съел, а другую выбросил — это злокачественная деструктивность.
Тот факт, что влечение к смерти в дальнейшем самим Фрейдом и в особенности его последователями было рассмотрено как эквивалент влечения к агрессивности, привело в дальнейшем к такому огромному количеству проблем, что психоанализ, судя по всему, уже отчаялся в них разобраться. Острее чем кто-либо это чувствовала дочь Фрейда — Анна Фрейд. Психоаналитический конгресс 1971 года был полностью посвящен этой проблеме. Выступая на этом конгрессе, Анна Фрейд недвусмысленно подытожила, что «каким бы ни был результат предыдущих попыток» понять феномен агрессии, они все продемонстрировали лишь «некоторые пределы подобных усилий». Так до сих пор и не удалось добиться прояснения неопределенности статуса агрессии в теории влечений.
Очень честное признание — с учетом того, что психоаналитики, придерживающиеся дуалистической теории, должны попытаться найти связь между агрессией (механизмом) которую они при этом считают влечением, влечением к смерти, в которое большинство из них не верит, сексуальностью (механизмом), которую они опять-таки рассматривают как влечение, и системой хронификации жизни, из которой во внимание принимается лишь мышечная система. Для агрессии, рассмотренной как первичное влечение, при этом необходимо найти источник, цель и объект.
Ученик Балинта Айке, понимая агрессию как влечение, считает, что объект либидинозных и агрессивных влечений может быть одним и тем же, но цель в соответствии с дуалистической теорией Фрейда совершенно противоположная. Якобы при агрессивных стремлениях преследуется цель отделения и независимости от объекта. С этим Айке связывает развитие самостоятельности, независимости, индивидуальности. Источником агрессии является напряженность в социальных отношениях и агрессия как влечение удовлетворяет не телесные, а социальные потребности.
Айке предпринял попытку описать развитие агрессивного влечения соответственно фрейдовским стадиям развития либидо. Согласно Айке в оральной фазе развивается говорение «нет» и происходит занятие собственной территории, которая символизируется через откусывание. В анальной фазе происходит отделение собственного продукта и формируется воля, в фаллическо-генитальной фазе формируется соперничество, совершенствуется самосознание.
Только в последнее время стали появляться исследования психики, рассматривающие агрессию как способ поведения, а не влечение. При этом Тэхкэ допускает возможность появления агрессии как психической структуры лишь после дифференциации воспринимаемого мира, что с нашей точки зрения не отрицает существование агрессии как физиологического процесса еще до того как она появится в качестве психического репрезентата.
С тифоаналитической точки зрения, агрессия не является ни первичным, ни вторичным влечением.
Агрессия — это механизм, обеспечивающий поступление в организм всего того, что необходимо для нормального функционирования всех систем хронификации жизни и системы сексуальности.
Элиминация — аналогичный механизм выделения нежелательных веществ и избегания нежелательных ситуаций.
Эти механизмы включены в систему хронификации жизни, и функционируют за счет влечения к смерти. На этих механизмах по сути основана как жизнедеятельность, так и наша терапия. Платон писал, что «врачевание – это, по сути, наука о вожделениях тела к наполнению и к опорожнению», а Гиппократ – что «медицина есть прибавление и отнятие: отнятие всего того, что излишне, прибавление же недостающего».
Поскольку данной теме я предполагаю посвятить далее отдельное исследование, позволю себе здесь остановиться на констатации этих положений. Тема агрессивности в психоаналитической и психологической литературе имеет очень широкое распространение, но до тех пор, пока исследователи будут рассматривать агрессию как самостоятельное или компонентное влечение, они обречены искать известную черную кошку в темной комнате, в которой ее нет.
Система хронификации жизни
Инстинкт самосохранения — вообще один из самых неудачных терминов в современной биологии и психологии. Исходя из всех имеющихся определений, самым лучшим инстинктом самосохранения должна обладать египетская мумия или консервная банка.
На самом деле то, что подразумевается под инстинктом или, тем более, влечением к самосохранению, не стремится к сохранению некоего статичного состояния, оно стремится к сохранению некоей динамики, процесса, некоей континуальности. Оно нисколько не препятствует поглощению новой материи или информации, постоянно обновляют живой организм и не препятствуют его постоянным изменениям. Поскольку основной функцией этой системы мы считаем не сохранение, а хронификацию жизни, то, соответственно, считаем, что и называть эту систему следует адекватно — системой хронификации жизни.
Однако нас больше интересует в данной ситуации другой вопрос: имеет ли система хронификации жизни стремление к ее хронификации? Обладает ли она и управляется ли ее деятельность самостоятельным влечением? Имеется ли качественное различие между влечением к смерти и влечением к самосохранению? То есть: правомерно ли использовать одну и ту же категорию (пока неважно, какую) для обозначения этих двух феноменов? Если мы говорим о влечении к смерти, можем ли мы говорить тогда и о влечении к самосохранению, или если мы говорим об инстинкте самосохранения, можем ли мы тогда говорить и об инстинкте смерти? Акцент здесь, повторимся, не на том, что мы понимаем под влечением, инстинктом, тенденцией и т.д. Акцент на том, имеют ли эти два феномена настолько одинаковую природу, чтобы мы могли объединить их некоей общей категорией, чтобы затем уже внутри нее уметь отличить их друг от друга. Противопоставлены ли тенденция к смерти и тенденция к хронификации жизни? Должны ли мы с вами говорить о новой дуалистической теории влечений, определяющей жизнь человека и других живых существ и оставляющей за скобками влечение к жизни как свойство неорганической материи? Или мы должны говорить о монистической теории? Или органика обладает лишь тенденцией к смерти, а то, что мы привычно называем инстинктом самосохранения, есть иная категория? На этот вопрос я долго не готов был ответить, но, как уже можно было понять из всего вышесказанного, в настоящий момент убежден в справедливости монистической теории. В основе человеческой жизни лежит лишь одно влечение.
Система хронификации жизни, включающая в себя различные подсистемы и механизмы (страх, боль, агрессию, элиминацию), не обладает самостоятельной побуждающей силой. Она ограничивает жизнь — подобно тому, как берега реки ограничивают ее течение, или подобно тому, как якорь ограничивает движение маятника в часах, но у этой системы нет ни влечения, ни даже тенденции к ограничению. Ограничение влечения к смерти и хронификация жизни есть следствие ее структурной, а не динамической организации. Динамизм связан с иным влечением, и в случае живой системы он связан с влечением к смерти. Именно влечение к смерти организует деятельность тех систем и структур, которые придают этому движению определенную направленность, скорость и качество.
Я допускаю, что внутри системы хронификации жизни существуют силы, направленные на сохранение целостности ее собственной структуры, но эти силы ни в коей мере не имеют прямого отношения к тем процессам жизни, которые происходят при ее участии.
Таким образом, как это ни парадоксально, мы наблюдаем жизнь, но мы не наблюдаем ни влечения к жизни, ни влечения к сохранению жизни. Мы можем наблюдать поднимающегося вверх и парящего в облаках воздушного змея, но это не дает нам оснований приписывать ему влечение к полету. При определенных условиях он поднимается в небо и парит. Этими условиями для него являются сила ветра, сила удерживающей его нити и определенная структура как точка приложения этих сил. Стихает ветер, обрывается нить, и полет змея заканчивается сам собой. Мы знаем, что змей может летать, но может — еще не значит хочет. Нет никакой необходимости вводить категорию влечения к полету. Если есть змей, способный к полету, есть условия для полета, нужен только тот, кто будет заинтересован в полете. Такая необходимость на самом деле есть. Возникает вопрос: кто? или что? или кто/что? Тысячелетиями ответ на этот вопрос был один и тот же: Бог. Бог создал жизнь. Но кто/что такое Бог?
Мы знаем, что жизнь рождается из неорганической материи на Земле при определенных условиях. Если мы создадим аналогичные условия, то не мы (мы лишь создадим условия), а сама неорганическая материя неизбежно породит органическую. Жизнь порождает неорганика, поэтому она и есть тот максимально видимый нам Бог, который реально создал нас, который всегда рядом и всегда в нас. Бог, с нашей точки зрения, злой, Бог эгоистичный, Бог, изгнавший нас из рая неорганического состояния, в который мы всю жизнь стремимся вернуться.
Мы, очевидно, со своей жизнью очень нужны материи (Богу), потому что она (он), очевидно, термодинамически заинтересована в превращении неорганической материи в органическую. Но эта заинтересованность в жизни — не есть наша заинтересованность. Это нелегко понять, а поняв — принять, но в жизни заинтересована не жизнь, и проблема жизни — не наша проблема. В жизни заинтересована неорганическая материя. Тот факт, что мы живем, отнюдь не означает, что мы хотим жить.
Если мне правильно удалось распутать то, что напряла Клото, то самая привлекательная для нас из всех сестер-мойр – не Лахесис, распределяющая наши судьбы, а Атропос, обрезающая нить нашей жизни. Лишь она одна дарует нам то, к чему мы стремимся всю жизнь. Мы хотим умереть. И чтобы мы не сбежали из концентрационных лагерей жизнетворчества и жизнесозидания домой, к каждому из нас приставлены надежные стражи: боль и страх. Не архангел Гавриил стоит у врат рая, а никогда не спящий злобный пес, глаза которого внушают ужас, а дыхание опаляет плоть. И этот зверь, которого мы ласково называем инстинктом самосохранения, охраняет, увы, не нас от смерти, а смерть от нас.
Как и большинство животных, мы практически не имеем возможности прекратить жизнь путём сознательной остановки деятельности основных систем хронификации жизни. Например, мы не можем покончить с собой, сознательно прекратив дышать, или приказав своему сердцу остановиться, но при этом мы можем создать различные ситуации для того, чтобы воздух перестал поступать в наши лёгкие (утопившись или повесившись) или чтобы сердце не могло нормально функционировать (прострелив его). Но даже при этом нам нужно позаботиться о том, чтобы система хронификации жизни не разрушила наши самоубийственные планы. Поэтому когда мы идем топиться, мы заботливо привязываем себе на шею тяжёлый камень, чтобы, обманутая в своих лучших ожиданиях, система хронификации жизни в последний момент не испортила нам запланированное мероприятие. Дыхательному центру через пару минут отсутствия кислорода нет ровным счетом никакого дела до того, что какая-то часть коркового отдела мозга считает, будто факт измены мужа является достаточным основанием для прекращения жизни, — и он использует все имеющиеся в его распоряжении возможности, чтобы заставить организм всплыть.
Но центральная нервная система исключительно умна и коварна. Когда мы наконец перестанем ею только восхищаться и начнем нормально относиться и к смерти, и к самоубийству, ученым еще предстоит изучить и описать те многочисленные когнитивные варианты, которые разработала центральная нервная система за последние столетия для того, чтобы так или иначе обмануть систему хронификации жизни.
Чего стóит одно лишь самоудавление: не мешая явно организму поглощать кислород, незаметно для него прекратить поступление насыщенной кислородом крови в мозг, передавив сонные артерии. Древний мозг, не заметив коварства, но почувствовав недостаток кислорода, заботливо временно отключает сознание и «засыпает» для уменьшения потребления кислорода — чтобы не включиться уже никогда.
Система хронификации жизни настолько хорошо устроена, что не нуждается в нашем сознательном регулировании. Мы можем, конечно, произвольно регулировать частоту дыхания, процессы поглощения воды и пищи и другие гомеостатические функции, но права решающего голоса сознание, к счастью для нашей жизни, лишено. Мы не можем мгновенно остановить жизнь просто усилием воли. Большое количество моих пациентов сообщало о своей готовности прекратить существование в том случае, если бы вопрос решался простым нажатием кнопки. «Была бы кнопка, которую можно было бы нажать, чтобы меня сразу же не стало, — я бы нажал», — говорили они. А один очень неглупый пациент, который, видимо, подозревал, что даже нажать кнопку ему может помешать инстинкт самосохранения, сказал: «Хорошо бы, чтобы эту кнопку нажал случайно кто-нибудь другой и чтобы ни я, ни он об этом не знали».
Таким образом, мы видим, что система хронификации жизни твёрдо стоит на страже входа на тот путь, который максимально быстро может привести нас к смерти. Боль и страх — те хлысты, с помощью которых природа отгоняет всех живых существ от преждевременной смерти и блаженного состояния неорганического бытия до тех пор, пока они не исполнят своего предназначения.
Человек в этом отношении отличается от остальных живых существ лишь тем, что ему удалось, используя возможности коры больших полушарий, разработать модели поведения, против которых инстинкт самосохранения бессилен что-либо предпринять. Коре головного мозга удалось победить природу, обманув её стражей.
Только благодаря этой победе влечение к смерти получило возможность вырваться на свободу и беспрепятственно вести человека максимально быстрым путём к конечной точке его существования, минуя или легко перешагивая не только через половой и родительский инстинкт, но и через мощнейшую систему хронификации жизни. Только человек получил возможность замедлить и даже остановить процесс своего размножения. Не имея больших возможностей преодолеть рамки полового инстинкта, человек прилагает значительные усилия для предотвращения оплодотворения и прерывания беременности. Только кора больших полушарий была способна придумать целибат, презерватив, аборт и гормональную контрацепцию.
Только человек получил возможность самостоятельно воздействовать на свои центры удовольствия, производя и потребляя алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, чтобы обойти те самые негативные эмоциональные состояния (страх, страдание, тревогу и боль), которые запускают в нормальном состоянии витальные инстинкты, не дающие человеку максимально быстро приблизиться к состоянию небытия. Только человек может сам убить себя или побудить других сделать это.
Даже подросток, начинающий испытывать сексуальную потребность и половое влечение, уже не разрабатывает модели поведения, направленные на завоевание объекта. Он не учится поло-ролевому поведению, он не стремится к внешней и внутренней привлекательности для завоевания «девушки своей мечты», которая могла бы удовлетворить его сексуальную потребность. Он в свои 13—14 лет в зависимости от доступности тех или иных психотропных веществ использует либо летучие органические углеводороды (бензин, бытовые растворители, клей), либо более дорогие психоактивные вещества, включает порнографическую кассету — и весь мир перед ним, весь мир его. Когда подростку надоедает или его перестаёт удовлетворять такая медленная смерть, он легко может поправить ситуацию, всего лишь увеличив дозу принимаемого вещества. Не случайно одно из самых распространённых названий героина — «белая смерть».
Таким образом, «коварная» кора больших полушарий (являясь энергетически и мотивационно крайне слабым образованием, которое по большому счёту паразитирует на более простом и надёжном древнем мозге) за счёт своих уникальных когнитивных способностей оказывается в силах усыпить, обмануть и победить могучего, но простодушного «огнедышащего дракона» системы хронификации жизни, скрывающегося в недрах нашего мозга.
Наш мозг — с его стремительной эволюцией, начиная с первых млекопитающих и заканчивая человеком — вообще большая загадка. Известно, что уже мозг первых рептилий вполне обеспечивал их адаптацию к внешнему миру. Но какой резкий толчок и с какой целью направил эволюцию мозга в сторону быстрого увеличения его объёма?
Проблема головного мозга всегда ставится во главу угла лишь потому, что человек считается вершиной эволюционного процесса. Подобные безапелляционные заявления о человеке как высшем звене эволюции (лишь на том основании, что у него имеется самая высокоразвитая центральная нервная система) слышать всегда несколько странно. Подобный предрассудок есть всего лишь одна из многочисленных разновидностей остающегося в мировосприятии антропоцентризма.
Если проследить за эволюционным процессом непредвзято, то можно без труда заметить, что общим принципом развития живой материи является увеличение и усложнение функциональных систем, совершенствующих адаптационные способности организма к условиям окружающей среды.
Центральная нервная система является лишь одной из тысяч подобных функциональных систем среди различных морфо-функциональных образований, таких как ноги, шея, кожа, глаза, кишечный тракт, ядовитые железы и т.д.
В процессе эволюции живое существо становится, как писал Тейяр де Шарден, «неодолимым очагом разнообразия, направленного прибавления, бесконечного разветвления живой массы, изменяющей биосферу и условия жизни любых будущих организмов в любой среде обитания».
У кого хватит смелости сказать, что человек лучше адаптирован к условиям окружающей среды, чем те многочисленные виды, которые настолько совершенны в этом плане, что существуют практически в неизменном виде на протяжении миллионов лет (например, насекомые).
Природа любит экспериментировать, часто доводя до абсурда свои изобретения, например как с шеей у жирафа или массой у динозавров. Жирафы живут — динозавры вымерли. Эволюция продолжается.
Никто не может сказать, что центральная нервная система является вершиной адаптационных способностей живых существ. Более того, есть основания подозревать, что развитие центральной нервной системы давно уже идёт по патологическому пути, не имеющему большой перспективы в будущем. Усложнение центральной нервной системы, за счёт которого обеспечивается прижизненное формирование гибких функциональных систем для адаптации к быстро меняющимся условиям окружающей среды, привело к необходимости передачи большого количества информации после рождения индивида и необходимости создания знаковой системы и понятийного аппарата. Это в свою очередь резко исказило непосредственность восприятия человеком реальности. Мы перестали видеть мир таким, каким он является. Мы можем видеть мир лишь настолько, насколько богата система понятий, усвоенная нами в детстве. Всё, что остаётся за рамками понятийной системы, просто выпадает из поля зрения, не учитывается и игнорируется. Того, чего нет в понятии,— нет вообще. Как писал Мераб Мамардашвили:
«Знание того, что мы видим, несомненно, мешает нам видеть видимое».
Знаковая система, язык, в определённом смысле ослепляет нас, предлагая взамен феноменальных сущностей номинальные ярлычки. Я подозреваю, что обменяв наглядно-действенное и конкретно-образное мышление на абстрактно-логическое, мы уподобились дикарям, которые с радостью обменивают золото и жемчуг на дешёвые цветные бусы и копеечные зеркальца. Мудрость всегда боится понятий. Так было и в религии, и в философии. Не должно изрекаться имя Бога, неизречённо Дао, неизречённо Просветление, неизречён и путь к нему. Феномен, вложенный в Номен, может быть только трупом Феномена.
На рисунке 1 большинство нормальных людей увидят не два кружочка, соединённые палочкой (А), а очки (В) или гантельку (Б), и через час, если их попросить нарисовать то, что они видели, они будут рисовать или гантельку, или очки и утверждать, что это именно то, что они видели.
А
Б В
Рис.1. Зависимость восприятия от имеющихся представлений.
Этот первый тупик, связанный с формированием второй сигнальной системы, был известен восточным философам ещё несколько тысяч лет тому назад. Вся система йоги построена на постепенном и систематическом разрушении понятийного мышления и переводе его на непосредственный анализ воспринимаемого потока информации. Вспомним знаменитые системы коанов: «Как звучит хлопок одной ладони?» и т.п.
В произведении Феликса Розинера «Некто Финкельмайер» мне встретилось описание спонтанного «просветления» героя в период болезни, когда его «восприятие вернулось вспять — к началу, к истокам, когда всё вокруг предстаёт лишь разрозненными осколками простых ощущений. Мы не знаем себя в наши первые месяцы жизни. Обращаясь к памяти, мы застаём себя среди мира, уже сложившегося в сознании во что-то определённое,— пусть мы и не можем в этом мире понять и назвать. Но в свои два-три года, глядя на дерево, мы знаем, что это — дерево; мы знаем, что собака — это собака, солнышко — это солнышко, а больно — это больно, и от этого кричишь… Я же тогда, после болезни, вернулся ко временам ещё более ранним. Я увидел падающий лист, и это было огромным, потрясшим меня событием, которое не облекалось в моих мыслях словами. Оно стало чудом само по себе, необъяснимым жёлтым волнением… трепещущей желтизной… колыханием круга… Столько падает жёлтых волнений, столько медленных жёлтых кругов!.. Облако над крышей — не облако, нет: расширение света; исчезновение белизны, синее заполняет… холодное, острое там растекается и плывёт далеко и приближается и входит в грудь…».
Я хорошо помню себя в детстве, когда окружающая действительность воспринималась мною как в тумане, мир был бесконечен. Но это не было ощущение бесконечности, свойственное взрослому человеку, для которого эта бесконечность кажется часто чужой, ненужной и неинтересной,— это была живая бесконечность, она была частью меня и я был в неё погружён. Может быть, так понимали одухотворённый космос древние греки. С возрастом это ощущение сказки проходит. По улице едет трамвай, спешат люди, дует ветер. И трамвай — это трамвай, которого долго нет, в котором не закрывается окно и поэтому холодно. Это никак не звенящий и не дребезжащий на всех поворотах праздник, и люди, сидящие у окон, не спешат приложить свои ладони к замёрзшим стеклам, чтобы совершить чудо, и они по-своему счастливы в своей слепоте. Понятия — это та смирительная рубашка, в которую мы облекаем окружающую действительность и свой мозг, даже не замечая этого.
Я говорю об этом ещё и потому, что слишком часто мне приходится слышать от подростков, злоупотребляющих психоактивными веществами или находящихся в состоянии депрессии с суицидальными мыслями, что они разучились «радоваться жизни такой, какая она есть…».
Если я понимаю что-то или кого-то – я символически убиваю, умерщвляю, упрощаю, вкладываю в прокрустово ложе понятия живой и никогда не уловимый полностью феномен. Замечательный мыслитель Риккерт писал, что «понятия наших объяснений умерщвляют всякую жизнь, как только они принуждают ее входить в свои рамки. Они однообразят вещи, вечно разнообразные. Они изготовляют только готовое платье, а не работают на заказ реальной действительности, в которой все изначально ново… Высчитано и измерено может быть только твердое, косное, мертвое. Истинное бытие, сплошность его течения, постоянная волнистость становления раскрываются только интуицией и притом не в пассивной, но в активной воззрительности».
Одна из моих больных цель своей госпитализации сформулировала на первый взгляд несколько странно и даже претенциозно как “желание понять себя”. Попытки выявить более существенное основание для госпитализации не дали быстрого успеха. Она соглашалась, что у нее есть проблемы во взаимоотношениях с мужем, но сформулировать эти проблемы затруднялась, прикрываясь общими фразами об «отсутствии взаимопонимания и различиях в характерах». Трудно было понять – что такое особенное случилось с пациенткой, что заставило ее согласиться на лечение в не самых лучших условиях психотерапевтического стационара. Просьба помочь ей «понять себя», постоянно звучащая своеобразным лейтмотивом во время беседы, в итоге начинала даже несколько раздражать, потому что про себя думалось: если все желающие понять себя начнут поступать в психотерапевтические отделения – никаких отделений не хватит. В конце концов пациентка признается, что ее утомляют собственные дети (2-х и 7-ми лет), и возможно одна из причин ее госпитализации – желание на какое-то время избавиться от необходимости заботы о них. В дальнейшем нашу точку зрения подтверждает психолог, который пришел к тому же выводу. Многое во время беседы наводит на мысль об истерическом расстройстве личности – и манера поведения и речь, и анамнестические сведения. Исследование профиля защитных механизмов выявляет значительное повышение напряженности защитных механизмов регресии и смещения, которые, как мы знаем, имеют непосредственное отношение к суицидальной активности. Анализ результатов проективного теста Сонди позволяет предположить выраженную тенденцию к «Я»-деструкции. Описания Сонди, практически повторяют сведения, рассказанные девушкой: «притязая на любовь и принятие себя значимым другим личность отвергается, но при этом пытается включить этих значимых других в себя, ощущая их как жестоких и переоценивая их значимость, затем в результате утраты доверия происходит разрушение всех ценностей, сперва внешних – аллодеструкция, затем внутренних – аутодеструкция».
Сонди считает, в отличие от Фрейда, что это два генетически самостоятельных процесса: один (аллодеструкция) в пространстве сексаульных влечений, другой (аутодеструкция) – в сфере «Я»-негативизма. По мнению Сонди таков негативизм при кататонии, при саморазрушающем поведении у алкоголиков и наркоманов, суицидальных тенденциях.
Что если мы допустим, что наша больная, пришедшая в отделение со словами: «Я хочу понять себя», на самом деле сказала очень простую вещь - она сказала: «Я хочу убить себя»?
Другая пациентка, которая приходила на сеансы для того, чтобы я «лучше разобрался в ней» и «понял ее», однажды сказала мне во время сеанса, что было бы хорошо, если бы я сидел без очков. Ей кажется, что без очков я хуже буду видеть и понимать ее! Получается, что на самом деле она не хочет, чтобы я понимал ее. Она не хочет, чтобы я понял, то есть убил ее. Другой пациент мечтал о том, что он будет «самым непонятным в моей практике пациентом».
Во всем этом есть несомненно очень глубокий смысл. Нельзя стремиться к тому, чтобы полностью понять близкого человека, иначе ты рискуешь убить его. Если я кого-то или что-то пойму – это станет мне неинтересным и я забуду это. Я думаю, что нужно стараться просто чувствовать близкого человека, сопереживать ему, эмоционально относиться. Эту связь великий еврейский философ Мартин Бубер в свое время обозначил как Я-Ты в противовес связи Я-Оно.
Сумасшедшие широко известны тем, что их поведение и речь невозможно понять – они стремятся сохранить себя живыми для других людей. Они не хотят, чтобы их убивали и предпочитают быть живыми в стенах сумасшедшего дома, чем понятыми и мертвыми вне его стен.
То же самое я могу сказать и в отношении наркоманов и алкоголиков. Близким абсолютно не понятно их поведение. Оно полностью выпадает из рамок здравой логики, но что, если это непонимание и есть та цель, которой они добиваются. Никогда окружающие не стали бы проявлять столько эмоционального сопереживания и участия тому же алкоголику и наркоману, если бы он вдруг решил жить нормальной жизнью, прекратив пить или принимать наркотики. «Разве он не понимает», «как он не может понять», «я не могу его понять» – наиболее типичные фразы, которые я слышу от близких и родственников алкоголиков и наркоманов. Находясь в безвыходном положении, лишившись возможности понимания, они вынужденно переживают, жалеют и ненавидят, страдают, злятся, и пытаться сочувствовать своим близким. Но ведь тем только того и нужно.
«Буть что будет» или «все в руках Бога» – вот та нехитрая жизненная мудрость, которую, пройдя все круги ада, постигают в конце концов родственники моих больных. Они соглашаются с жизнью, они принимают жизнь такой, какая она есть. Они признают, что жизнь просто есть и она непонимаема и непостигаема как сам Бог или идея Бога.
Второй тупик, возникший в процессе развития центральной нервной системы, связан с возникновением сознания и самосознания. Этот процесс идёт буквально на наших глазах в пределах летописного исторического периода. Центральная нервная система развивалась изначально в целях гибкого реагирования на изменяющиеся параметры окружающей среды. Но парадокс в том, что сама по себе центральная нервная система на определённом этапе становится настолько сложной, что требуется новое функциональное образование, выполняющее функцию контроля над деятельностью самой центральной нервной системы,— сознание.
Столь сложная система на базе не поддающихся регенерации клеток головного мозга — затея, изначально обречённая на провал. Такая система не может работать без сбоев. Усложнение функционирования центральной нервной системы за счёт сознания приводит к лавинообразному нарастанию психических расстройств и, как следствие, увеличению количества психиатров. Ещё Дейл Карнеги писал, что в Соединённых Штатах более 50 процентов коек заняты пациентами с психическими и эмоциональными расстройствами. В нашей стране это звучит пока ещё непривычно, но в более развитых странах большинство населения так же не мыслит себе жизни без психиатра, психоаналитика, психолога, как мы не мыслим её без врача.
Если ещё 300 лет тому назад врач для подавляющего большинства населения был явлением настолько редким, что многие жили и умирали, ни разу не столкнувшись с ним, то сейчас, особенно в развитых государствах, мало людей, способных прожить без врача.
Но самое страшное, что сознание как контролирующая функция над гибкими психическими процессами продолжает делиться и усложняться. Мы уже не способны жить одним лишь коллективным бессознательным, как гомеровские герои, а имеем Суперэго-сознание и Эго-сознание, мы имеем мультипликационное сознание, как его понимал Эрик Берн («Я»-Родитель, «Я»-Ребёнок, «Я»-Взрослый), и мультипликационное ситуационное сознание Ассаджоли («Я» на работе, «Я» дома, «Я» в гостях). Чехов в рассказе «Именины» описывает парадоксальное преображение главного героя Петра Дмитрича, когда он занимает председательское кресло на съезде: «На председательском кресле, в мундире и с цепью на груди, он совершенно менялся… Всё обыкновенное человеческое, своё собственное… исчезало в величии, и на кресле сидел не Пётр Дмитрич, а какой-то другой человек, которого все звали господином председателем… Откуда брались близорукость и глухота… С высоты величия он плохо различал лица и звуки, так что если бы, кажется, в эти минуты подошла к нему сама Ольга Михайловна (жена), то он и ей бы крикнул: «Как ваша фамилия?».
Если подходить к высшей нервной деятельности, к центральной нервной системе с таких позиций, то окажется, что человек — это если и не ошибка Природы, то в лучшем случае — попытка Природы. Нужно очень любить себя, чтобы заявлять, что человек является вершиной и конечным этапом эволюционного процесса — это смешно! Это даже ещё более смешно, чем претенциозные заявления на божественное происхождение человека.
Страх
Если в основе тифоаналитической теории и можно усмотреть некое подобие краеугольного камня, то этот камень имеет самое непосредственное отношение к страху. Можно сказать, что тифоаналитическая теория в буквальном смысле слова базируется на страхе. Этот камень был с трудом добыт в каменоломнях клинического опыта, и теперь ежедневная опора на него на протяжении вот уже нескольких лет позволяет развивать тифоаналитическую теорию и разрешать c ее помощью многие до этого запутанные и малопонятные теоретические и практические проблемы. Одной из таких проблем был когда-то сам страх.
Привычка по ходу чтения записывать возникающие вопросы на полях книги дает мне теперь возможность проследить ход своих размышлений. Перечитывая посвященный смерти раздел «Экзистенциальной психотерапии» Ирвина Ялома, я обнаружил на полях свои записи четырехлетней давности: «Почему страх?», «Почему смерть вызывает страх?». Я помню, что эти вопросы мучили меня, и ни экзистенциальная теория, ни психоанализ, ни когнитивно-поведенческая психотерапия, ни я сам не могли тогда вразумительно ответить на них. Теперь можно сказать, что ответы на эти вопросы получены. Я не убежден, что они окончательны, но уверен, что теперь лучше могу объяснить, почему возникает страх вообще и страх смерти в частности. Правда, эти ответы таковы, что сами могут вызвать страх у человека, не привыкшего к анализу глубинного устройства психики. Такая опасность есть, но здесь я могу лишь повториться, что не считаю, будто каждому человеку необходимо знать внутреннее устройство своей психики, равно как и внутреннее устройство своего тела, изнанка которого может вызвать у неподготовленного человека и страх, и шок, и отвращение.
Что мы знаем о страхе?
По существу не так уж много. Что он включен в основу человеческого существования, что он естественен, что он имеет непосредственное отношение к так называемому инстинкту самосохранения, что он позволяет нам избегать опасностей, угрожающих жизни и, таким образом, полезен нам. Что, вместе с тем, разрастаясь, страх может существенно понизить качество жизни и даже повредить ей. Что борьба со страхом ставится в ряд основных задач психофармакологии и психотерапии. Что над проблемой страха размышляли выдающиеся умы человечества, и, тем не менее, до настоящего момента мы не можем сказать, что имеем окончательный ответ о природе страха. Экзистенциальный психотерапевт Антон Кемпински писал, что, несмотря на широту распространения страха, до сих пор трудно решиться не только на попытку его объяснения, но даже на попытку его рациональной классификации
В период учебы в институте в свободное время я иногда приходил в областную библиотеку и наугад открывал один из нескольких тысяч каталожных ящичков и выбирал в нем одну из нескольких сотен карточек. После этого я заказывал то, что мне попадалось, и читал вне зависимости от того, что это было. Благодаря этому занятию я не только понял, насколько разнообразен мир и сколько людей в нем отдает значительную часть своей жизни разработке оптимальных вариантов строительства свинокомплексов. Иногда мне попадались любопытные вещи. Однажды «методом тыка» я обнаружил неизвестного мне тогда автора по имени Мишель Монтень. Сейчас мне, разумеется, смешно, потому что я хорошо понимаю, что при подобном подходе к самообразованию вероятность наткнуться на что-либо аналогичное даже при ежедневных усилиях близка к нулю — я мог бы «тыкать» всю оставшуюся жизнь. Но тогда, «проглотив» Монтеня и заучив особо понравившиеся мне латинские изречения, я очень плотоядно смотрел на оставшиеся каталожные стойки, наивно полагая, что каждая из них скрывает от меня еще тысячу Монтеней.
Убедившись в обратном, я с тех пор всегда обращаюсь к Монтеню за впечатлениями и историями, накопленными человечеством по тому или иному вопросу за много сотен лет. Монтень похож на диспетчера, который занимается регулировкой основных потоков человеческой мысли, и он неповторим в совокупности своей энциклопедичности, здравого смысла и юмора. Замечательно, что отдельная, хотя и не очень большая, глава его «Опытов» посвящена страхам, и он ссылается в ней в первую очередь на врачей, которые говорят, что нет другой такой страсти, которая выбивала бы наш рассудок из положенной ему колеи в большей мере. Монтень склонен с ними согласиться и считает, что «страх ощущается нами с большею остротой, нежели остальные напасти».
Разумеется, до Монтеня не только врачи обращали внимание на страх. О нем много и хорошо писал Сенека: его «Письма к Луциллию» от начала до конца проникнуты убежденностью в суетности страха, в бессмысленности страха перед смертью, в необходимости избавления от страха для человека, который хочет получать настоящее удовольствие от жизни. Живи здесь и сейчас, не печалься о прошлом, не тревожься о будущем, надежда порождает страх, а страх отравляет нашу жизнь, и ни одно реальное событие не может соперничать в этом с ним — вот основные мысли Сенеки по поводу страха, актуальные и сейчас.
В середине XIX века датский философ Серен Кьеркегор придал страху статус настоящей философской категории. Более полутора столетий тому назад вышли две его работы: «Страх и трепет» в 1843 году и «Понятие страха» год спустя. Не углубляясь в анализ этих произведений, заметим лишь, что Кьеркегор, как позже и Фрейд, счел необходимым достаточно четко дифференцировать реальную, привязанную к внешним опасностям боязнь и более общий экзистенциальный страх.
«Почти никогда не случается, — пишет Кьеркегор, — чтобы понятие страха рассматривалось в психологии, а потому мне приходится обратить внимание на то, что оно совершенно отлично от боязни и подобных понятий, которые вступают в отношение с чем-то определенным: в противоположность этому страх является действительностью свободы».
Страх-тоску как «действительность свободы» Кьеркегор отделил от страха-боязни на основании своих взглядов на динамику человеческой экзистенции. Выдвинув тему человеческой личности и ее судьбы после столетий теоцентрической философии на первый план, он сделал центральной проблемой человеческую субъективность и проблему выбора в процессе жизни. С религиозной точки зрения жизнь человека рассматривалась в динамическом аспекте — как некий подготовительный этап для последующей вечной жизни, которая по смыслу и есть конечная цель земного бытия, когда смерть, как писал Бальмонт:
… начало жизни,
Того существованья неземного,
Перед которым наша жизнь темна,
Как миг тоски — пред радостью беспечной,
Как черный грех — пред детской чистотой…
На этом фоне Кьеркегора больше интересовала динамика именно земного бытия человека, проблемы, связанные с этой динамикой, и даже те вопросы, которые только в последние десятилетия нашли свое отражение в психологии и психопатологии жизненных кризисов. Глубина прозрения Кьеркегора и точность описаний действительной динамики личностного бытия удивительны. Кьеркегора смело можно считать основоположником не только экзистенциальной философии, но и динамической персонологии — столь значительный пласт проблем, касающихся динамики бытия человеческой личности, затронул в своих работах этот удивительный человек, в которого при жизни мальчишки бросали камни, когда он шел по улицам Копенгагена.
В работе «Понятие страха» Кьеркегор задолго до Шпильрейн и Фрейда заподозрил тесную связь между экзистенциальным страхом и человеческой сексуальностью (первородным грехом), и, что еще интереснее, он один из первых, кто обратил внимание на некую «сладостность», некую притягательность страха, и определил эту загадочную амбивалентность страха как «симпатическую антипатию и антипатическую симпатию». В своем дневнике тогда же Кьеркегор пишет:
«Страх — это желание того, чего страшатся, это симпатическая антипатия; страх — это чуждая сила, которая захватывает индивида, и все же он не может освободиться от нее, — да и не хочет, ибо человек страшится, но страшится он того, что желает».
Именно так: человек страшится того, чего он желает. И в этом та самая суть любого страха, на которую никто ранее не обратил должного внимания. Кьеркегор пишет далее: «В страхе содержится эгоистическая бесконечность возможного, которая не искушает, подобно выбору, но настойчиво страшит (ængster) своим сладким устрашением (Beængstelse)». Даже наблюдая за детьми, которые жадно стремятся к приключениям, всему ужасному и загадочному, Кьеркегор замечает в этом проявления притягательности страха:
«Такой страх столь сущностно свойственен ребенку, что тот вовсе не хочет его лишиться; даже если он и страшит ребенка, он тут же опутывает его своим сладким устрашением».
Я не знаком хорошо с исследованиями в этой области, но знаю, что в современной детской психологии есть отдельное направление, которое исследует культуру детских страшных историй. И я точно знаю, что такая культура существует: когда мы ложились спать летом в пионерском лагере, у нас в комнате устраивались соревнования — кто лучше расскажет страшную историю. Были признанные специалисты в этой области. Истории эти всегда касались совершенно ужасных тем: бабушек и мам, которые готовили из своих детей котлеты, а потом люди находили в них маленькие детские ноготки; черных рук, которые летали по ночам и душили детей; различных монстров и изуверов. Истории эти всегда касались тем смерти, разрушения, мучений и вызывали у всех нас, слушателей, удивительно приятное ощущение страха. Насколько более примитивными в этом плане выглядят взгляды тех современных исследователей, которые, замечая притягательность страха, и даже будучи знакомы (судя по ссылкам) с трудами Кьеркегора, считают страх лишь случайным сопровождением интереса и все удовольствие выводят из интереса, а не из страха.
К парадоксальной мысли о том, что страх может прикрывать собой желание, пришел позднее и Фрейд. Пришел, правда, вне рамок своей теории страха и даже не включил эти наблюдение ни в первую, ни во вторую теорию страха. Если бы это произошло, если бы Фрейд понял, что в основе любого страха всегда лежит желание, которое, собственно, и прикрывает собой страх, у него никогда не было бы повода переживать о том, что клиническая практика предоставляет мало примеров внешних проявлений влечения к смерти. Страх смерти – лучший пример и лучшее доказательство существования влечения к смерти. И здесь не нужна клиническая практика – для наблюдения этого страха и влечения, скрытого за ним, достаточно выйти на улицу. Когда я читаю в трудах не только гуманистических психологов, но и в работах современных «психоаналитиков» о том, что клиническая реальность предоставляет мало доказательств существования влечения к смерти, мне всегда смешно. С тем же успехом человек, который едет на поезде, может заявлять, что у него есть мало оснований полагать, что он куда-либо едет, скорее наоборот – это все вокруг мчится навстречу ему. Со своей точки зрения он, может быть, и прав, и нет большой необходимости уверять его в обратном, пока он при остановке поезда не станет выходить наружу и толкать назад остановившуюся действительность.
На связь между страхом и удовольствием Фрейд обращает внимание в четырнадцатой лекции «Введения в психоанализ». В связи с темой исполнения желания Фрейд пишет следующее: если мы предполагаем, что психическая деятельность подчиняется принципу удовольствия, а сновидение всегда есть исполнение желания, то как быть с теми многочисленными сновидениями, которые вызывают неприятные чувства, и в том числе «гнетущий страх»? На самом деле, если мы не всегда можем управлять окружающей реальностью, которая не спешит заботиться об удовлетворении наших желаний, то что может помешать нашей психике, если она подчиняется принципу удовольствия, во время сна, когда мы практически не зависим от этой внешней реальности, воспроизводить в своих сновидениях только самые приятные и доставляющие только наслаждение картины? Почему не работает та компенсаторная функция сновидений, которая так наглядно проявляется в детских сновидениях? Я помню одно из своих первых детских сновидений, великолепно иллюстрирующее его компенсаторную функцию. В яслях нам часто давали глазунью — каждому ребенку по одному яйцу. Нам всегда ее не хватало и хотелось еще. Однажды ночью мне приснился сон, что я нахожусь в своей детской комнате, и она на две трети заполнена глазуньями, а я сижу посреди комнаты по пояс в них. Это понятное сновидение: то, что не может предоставить реальность, сновидение компенсирует тысячекратно. Но посмотрим дальше. Как можно понять сновидение, в котором я нахожусь на крыше общежития, поскальзываюсь и стремительно качусь к краю, четко ощущая спиной сначала крышу, затем край, затем пустоту — и проваливаюсь в нее, понимая, что это конец? Это тоже понятное сновидение. И оно не менее понятно, чем сновидение о глазуньях. Какое желание может удовлетворять это сновидение, кроме желания смерти? Для меня это несомненно. Фрейда эти сомнения мучили не один год.
Читая ту же четырнадцатую лекцию, можно убедиться, что еще задолго до начала работы над «По ту сторону принципа удовольствия» у Фрейда возникла потребность «найти объяснение тому, что есть много мучительных и, в частности, страшных сновидений». Для объяснения этого он выдвигает несколько предположений. Первое является несомненной данью его убежденности в охранительной функции сновидений — в том, что они являются устранением нарушающих сон психических раздражителей путем галлюцинаторного удовлетворения. В соответствии с этим страшные сновидения есть следствие недостаточной успешности этой функции. Охранительная функция сновидения не справилась с поставленной задачей, и часть «мучительного аффекта мыслей» осталась в сновидении. Но при этом, полагает Фрейд, первичная реальность была, очевидно, еще кошмарнее, чем сновидение, которое, как могло, пыталось ее улучшить, но не добилось полностью своей цели.
Здесь можно, конечно, возразить: клинический опыт учит нас, что нет такой ужасной и беспросветной реальности, которую человеческий мозг не мог бы полностью отрицать и вытеснять, причем не только во сне, но и наяву. Однако Фрейд и сам не слишком серьезно относится к своему первому предположению, поскольку считает другое предположение «более важным и глубоким». Оно заключается в том, что исполнение желания во сне должно было бы, конечно, доставлять удовольствие, но, спрашивается: кому? Тому, кто имеет желание? Но как относится иногда к своим желаниям тот, кто видит сон? Не он ли подвергает их цензуре, всячески вытесняет и подавляет? Нужно ли удивляться тогда, что исполнение подобного вытесненного и подавленного желания в сновидении будет сопровождаться неприятными аффектами и в том числе страхом. Фрейд пишет здесь:
«Страшные сновидения часто имеют содержание, совершенно свободное от искажения, так сказать избежавшие цензуры. Страшное сновидение часто является неприкрытым исполнением желания, естественно не приятного, а отвергаемого желания. Вместо цензуры появляется страх. Если о детском сновидении можно сказать, что оно является исполнением дозволенного желания, об обыкновенном искаженном сновидении — что оно замаскированное исполнение вытесненного желания, то для страшного сновидения подходит только формула, что оно представляет собой неприкрытое исполнение вытесненного желания. Страх является признаком того, что вытесненное желание оказалось сильнее цензуры, что, несмотря на нее, оно все-таки пробилось к исполнению или было готово пробиться».
Фрейд считает, что мы мучительно воспринимаем бессознательное желание, реализованное во сне, только потому, что наше «Я» находится на стороне цензуры, и мы даем ему отпор вплоть до пробуждения. «Появляющийся при этом в сновидении страх, — пишет далее Фрейд, — есть страх перед силой этих обычно сдерживаемых желаний». То, что страшные и неприятные сновидения не подчиняются, казалось бы, принципу удовольствия, Фрейд объясняет еще и тем, что в структуру сновидения вместе со страхом вмешивается наказующая инстанция нашей психики, которой приятно доставлять нам страдания за недозволительные с ее (инстанции) точки зрения желания.
Итак, страшное сновидение — неприкрытое исполнение ранее вытесненного желания. Вернее было бы сказать, что страх и есть то самое прикрытие, которое защищает нас от собственных желаний во сне. Уберем страх — и мы увидим наше самое глубокое, самое сокровенное желание в чистом виде. Для того чтобы понять «обыкновенное искаженное сновидение», о котором пишет Фрейд, нужны ассоциации, нужно овладеть искусством толкования, нужно время, но даже в этом случае врач никогда не может быть полностью уверен в том, что он правильно интерпретировал материал сновидения. Для того же, чтобы понять страшное сновидение, искусства толкования не нужно: оно, как пишет сам Фрейд, «представляет собой неприкрытое исполнение вытесненного желания». Более того — знание того, что прикрывает собой страх, позволяет нам черпать информацию не только из ночных страшных сновидений, но и из многочисленных дневных страхов, каждый из которых также прикрывает собой вытесненное и неосознаваемое желание.
В шестнадцатой лекции, обсуждая отношения между психоанализом и психиатрией, Фрейд для примера приводит клинический случай 53-летней женщины, у которой развился бред ревности, после того как она в разговоре с горничной призналась, что для нее было бы самым ужасным, если бы она узнала, что ее муж имеет связь на стороне. Сразу же после этого разговора женщина получила анонимное письмо, в котором ее муж обвинялся в измене. Все говорило о том, что безосновательное письмо отправила завистливая горничная. Сама женщина это хорошо понимала, но это не помешало развитию стойких бредовых идей ревности, по поводу которых по настоянию зятя она обратилась за медицинской помощью. Разбор клинического случая привел Фрейда к заключению, что за страхом измены со стороны мужа, как это ни парадоксально, скрывалось несомненное желание этой самой измены. Эта немолодая женщина была влюблена в своего зятя, и измена со стороны мужа, как это совершенно правильно понимает Фрейд, облегчила бы ее тяжелое моральное состояние. На фоне реальной измены мужа ее желания и фантазии смотрелись бы уже не так ужасно и, возможно, она получила бы даже моральное право и преимущество реализовать их в действии — из принципа «если это позволено моему мужу, то почему это не позволено мне». Таким образом, не только за страшными сновидениями, но и за патологическими страхами Фрейд усматривает существование противоположно направленных желаний.
Заметить эту наблюдательность Фрейда можно лишь постфактум, лишь после того как нам уже стала хорошо понятна сущность самого страха. Ни одно из этих наблюдений не вошло ни в психоаналитическую теорию страха, ни в теорию влечения к смерти, и взаимосвязь влечения к смерти со страхом смерти Фрейдом никогда не рассматривалась. Причиной тому являлась его непоколебимая привязанность к своей ошибочной теории либидо. Именно либидо как сексуальное влечение и сексуальность в более широком смысле легли в дальнейшем в основу психоаналитической теории страха. Аналогичным образом, со страхов и их тесной связи с сексуальностью, начинает свою работу «Деструктивность как причина становления» и Сабина Шпильрейн, лишь вторично увязывая затем сексуальность с деструктивностью.
Оригинальная теория страха (первый вариант) изложена Фрейдом в двадцать пятой лекции «Введения в психоанализ» и переработана далее (второй вариант) в тридцать второй лекции «Продолжения введения». Остановимся на этих теориях подробнее и в силу их значимости, и в силу того, что в современном психоанализе страхам уделяется намного меньше внимания, чем они того заслуживают. Это суждение может казаться субъективным, пока мы не откроем два наиболее известных в России словаря по психоанализу — Лапланша-Понталиса и Райкрофта. В первом словаре отдельная статья, посвященная страху, отсутствует вообще: есть только две небольшие второстепенные статьи «Страх автоматический» и «Страх перед реальностью», написанные, по признанию самих авторов, «без углубления во фрейдовскую теорию страхов». А в словаре Ч. Райкрофта в небольшой статье, посвященной страху, мы можем обнаружить и вовсе удивительное высказывание: «Несмотря на то, что страх является одним из основных человеческих переживаний, а бегство, несомненно, — одна из основных биологических реакций, психоанализ мало что может сказать о страхе». Вот такое интересное суждение, неожиданное для тех, кто хоть раз открывал «Введение в психоанализ» и знает, что две его лекции специально посвящены страху, причем последняя уже в связке с основой психоанализа — теорией влечений.
Сам Фрейд в двадцать пятой лекции пишет, что, поскольку страх занимает значительное место в жалобах большинства больных, то, по крайней мере, в этом вопросе он не хотел бы быть краток. Он называет проблему страха «узловым пунктом, в котором сходятся самые различные и самые важные вопросы» и «тайной, решение которой должно пролить яркий свет на всю нашу душевную жизнь». Он делит все страхи на две группы: реальный, рациональный и понятный страх, возникающий в ответ на внешнюю опасность, связанный с реакцией бегства и инстинктом самосохранения, и невротический страх, иррациональный и непонятный. Настаивать на четких дефинициях страха (Angst), боязни (Furcht) и испуга (Schreck) Фрейд здесь не решается, равно как и не пытается классифицировать страхи по объектам и ситуациям, которые их вызывают (в современной психопатологии их выделяют уже более 500 и это еще далеко не все).
Заметим здесь, что, как многие авторы до него и не меньшее количество авторов после него, говоря о реальных страхах, Фрейд совершает существенную ошибку. Он пишет, что реальный страх «является для нас чем-то вполне рациональным и понятным… он представляет собой реакцию на восприятие внешней опасности, то есть ожидаемого, предполагаемого повреждения, связан с рефлексом бегства, и его можно рассматривать как выражение инстинкта самосохранения». Подобная мнимая понятность уже не раз сыграла злую шутку в истории науки. В данном случае именно мнимая понятность так называемого реального страха привела к тому, что его сущность до сих пор так и не была по-настоящему никем понята.
Мало того, что мы пугаемся всего лишь тени, так мы еще и пытаемся объяснить себе свой испуг характеристиками этой тени — вместо того, чтобы набраться смелости и понять, что то, что нас по настоящему пугает, — это не тень, это то, что всегда стоит у нас за спиной, и, хуже того, это то, что в буквальном смысле всегда внутри нас. Отражение нашей внутренней сущности мы видим перед собой, и только она, а не отражение нас так пугает. Страх всегда защищает нас от нашего собственного внутреннего желания умереть, и лишь вторичным проявлением этого желания является так называемый «реальный» страх, имеющий отношение ко всему тому, что так или иначе может поспособствовать реализации нашего основного и единственного влечения. Страх, таким образом, стоит между влечением к смерти и всем тем, что может содействовать реализации этого влечения. Страх есть как бы двойная функция, он всегда зависит от интенсивности желания умереть и «смертоносных» характеристик внешней ситуации. Если желание умереть, которое в свою очередь зависит от качества жизни, невелико, то человека мало что может испугать. Если качество жизни невелико и компенсаторно увеличивается желание умереть, то человек может начать бояться самых безобидных предметов, которые в нормальном состоянии никакого страха не вызывают.
Какое желание может скрываться за поведением одной моей пожилой пациентки, которая боялась, что ночью она может, не проснувшись полностью, выброситься в окно? Поэтому на ночь она привязывала к окну стул, чтобы, если она вдруг начнет открывать окно, помешать себе это сделать и повысить вероятность пробуждения. Реализации какого желания она боялась при этом? Пробуждения чего — в те часы, когда ее собственное «Я» вместе с цензурой отправлялось на покой? В другой раз, когда она же резала дома ножом баклажаны, она неожиданно взглянула на нож, потом на свою руку, после чего испытала такой панический страх, что успокоилась только тогда, когда собрала дома все ножи и отнесла их к соседям. Между каким желанием и какой мыслью в данном случае вклинился страх, прикрыв в тот же момент их собой? Какому желанию, спрашивается, в тот момент так приглянулся этот нож и ее рука? Имеет ли смысл классифицировать эти страхи в рамках страха самоубийства или страха острых предметов? Что нам даст навешивание на них наукообразных ярлычков вроде «суицидофобии» и «aichmophobia», если мы при этом не понимаем ни их значения, ни их смысла, ни механизма формирования? Ничего.
Фрейд пишет в двадцать пятой лекции, что широко распространенное мнение о разумности и рациональности реального страха нуждается, конечно, в основательной проверке, но он так считает лишь потому, что единственно целесообразным поведением при опасности ему видится спокойная оценка собственных сил, величины угрозы и принятие решения о бегстве или защите. Сенека по этому же поводу сетовал, что лишь «звери бегут только при виде опасностей, а убежав от них, больше не испытывают страха». В таком случае, по мнению (явно ошибочному) Фрейда, для страха вообще не остается места, поскольку все, что происходит, произошло бы так же хорошо и, вероятно, еще лучше, если бы страха не было. Это могло бы быть так, но при одном условии (!) – нужно, чтобы еще не было и влечения к смерти. А это практически невозможно, потому что влечение к смерти лежит в основе нашей жизни. Это легко понять на примере человека, зависимого от алкоголя или наркотиков. Опасность для здоровья и жизни в данном случае налицо. Тогда, по логике Фрейда, далее должна последовать «спокойная оценка» величины угрозы и принятие решения. Человек должен как можно дальше держаться от алкоголя и наркотиков. Происходит ли так на самом деле? Разумеется, нет. Психоактивные вещества, которые в первую очередь подавляют функцию страха, вместо того чтобы дать человеку возможность спокойно взвесить всю ситуацию и реализовать возможные пути защиты, прямой и кратчайшей дорогой ведут этого самого человека прямо к смерти — мимо рациональных когнитивных стратегий родственников, друзей, психологов и врачей. «Поговорите с ним, доктор», — просят совсем наивные родственники. «Попугайте его, доктор», — просят родственники менее наивные. «Лучше бы он умер», — говорят родственники, лишенные наивности.
Не зная, что на самом деле представляет собой и от чего нас защищает реальный страх, но все же имея желание каким-либо образом прояснить ситуацию, в качестве общей теории происхождения страха Фрейд выдвигает гипотезу, основанную на теории Ранка о травме рождения. «Нам кажется, что мы знаем, какое раннее впечатление повторяется при аффекте страха», — пишет Фрейд. При аффекте страха, считает он, повторяется более раннее впечатление, возникшее от соматических ощущений при акте рождения. Правда, здесь же он указывает на то, что этот первичный страх переживался уже столько раз, что стал фактически унаследованным, поэтому страх знаком и детям, рожденным с помощью кесарева сечения. По поводу животных Фрейд ничего не решается сказать, очевидно, понимая, что любое рассуждение, основанное на теории страха рождения, в этом направлении неминуемо приведет его в тупик.
Переходя к невротическим страхам, Фрейд выделяет здесь две независимые формы, напоминающие те, о которых говорил Кьеркегор: общую боязливость (так называемый страх ожидания, или невроз страха) и фобии, всегда соединенные с определенными объектами. Количество этих объектов и ситуаций велико, и Фрейд разделяет их лишь по степени понятности: от хорошо понятных, но преувеличенных у конкретного человека (например, страх змей) до полностью непонятных (страх кошек, мышей, улиц). Последние Фрейд именует истерией страха и рассматривает как заболевание, родственное конверсионной истерии.
Фрейд совершенно определенно считает, что эти две формы страхов (свободный страх ожидания и страх, связанный с фобиями) независимы друг от друга, равно как и не являются переходными формами, и вообще, по его мнению, редко встречаются вместе. С нашей точки зрения, в такой жесткой дифференциации смысла не больше, чем в принципиальном разделении чувства голода вообще (желания есть) и желания съесть что-либо конкретное, например сосиску.
Если говорить о каузальности, то общую боязливость, или невроз страха, Фрейд целиком и полностью выводит из неудовлетворительной половой жизни и сексуального воздержания, а истерию страха — из вытесненных и конвертированных в страх других аффектов (стыда, смущения, ярости или досады). Невротический страх, по Фрейду, это ненормально использованное либидо. Если реальный страх — это бегство от внешних опасностей, то невротический страх — это бегство от внутренней опасности, от требований своего либидо. Это положение касается страхов у взрослых и инфантильных страхов у детей. Основанием для подобных суждений для Фрейда является клиническая практика, но он хорошо понимает, что все, «что мы знаем о возникновении невротического страха, звучит еще достаточно неопределенно» и не видит пока пути, который вел бы его дальше. Область топической динамики развития страха для него «темная»: «неизвестно, какие при этом расходуются энергии и из каких психических систем».
В тридцать второй лекции, продолжая размышлять о проблеме страха, Фрейд признается, что пока еще и здесь «ничего из этого нового не претендует на окончательное решение стоящих перед нами проблем». Повторив все, что уже было сказано ранее, он акцентирует внимание на том, что попытки ликвидировать симптом навязчивости практически всегда приводят к возникновению страха. Уже и раньше он высказывал предположение, что развитие страха — более раннее событие, а развитие симптома — более позднее, и что невротический симптом как таковой возникает для защиты от страха. Но почему тогда возникает страх? Здесь же Фрейд еще раз подчеркивает значение либидо для формирования страха: «то, чего боятся, является, очевидно, собственным либидо». Схема достаточно сложная: например, агорафобия, по Фрейду, возникает потому, что агорафоб боится своего либидо, затем он боится соблазнов, которые пробуждаются встречами на улице, а уже затем он боится улицы. Экономическая выгода от невротической симптоматики здесь заключается в том, что от внешней опасности спастись бегством легче, чем от опасности внутренней.
Таким образом, мы видим, что вся теоретическая конструкция страха основывается у Фрейда на либидо. Фрейд ставит себе в заслугу тот факт, что он сумел усмотреть за невротическими, иррациональными, направленными часто вовне страхами страх внутренний – страх перед собственным либидо, защитой от которого и служит невротическая симптоматика. Если мы уберем отсюда либидо, казалось бы, должна рухнуть вся конструкция. Что же нам делать, если мы глубоко убеждены, что либидо как побуждающая и мотивирующая сила, как влечение — не более чем мифический конструкт, в реальности не существующий? Либидо не может вызывать страх просто потому, что его, либидо — нет. Но страх-то есть. Что же его тогда порождает, если не либидо?
Я уже ранее упоминал, что теория либидо — это то, что явно мешало Фрейду правильно рассмотреть феномен страха, но при этом он все же смотрел в верном направлении. Неважно, что Колумб, открыв Америку, считал, что открыл новый путь в Индию, — важно то, что он в результате своего путешествия достиг реальной земли. Неважно и то, что Фрейд, рассматривая в качестве каузальной причины страха свое знаменитое либидо как сексуальное влечение (не существующее в этом качестве вообще), ошибся. Поскольку мы теперь понимаем, что либидо Фрейда есть всего лишь неправильно обозначенное, но реально существующее влечение к смерти в одной из возможных форм своего проявления — сексуальности, то понятно: говоря о страхе собственного либидо, Фрейд говорил тем самым о том, что мы боимся собственного влечения к смерти (если опять же понимать, что либидо — это всего лишь вариант влечения к смерти, проявленный структурно в сексуальности). Фрейд не видел этого, но мучительно чувствовал, что явно не хватает чего-то, что могло бы соединить фрагменты в целое.
Ему казалось, что топическое деление психической личности на Сверх-«Я», «Я» и «Оно» поможет лучше сориентироваться в проблеме страха, поскольку, если страх локализовать в «Я» (а Фрейд отрицал возможность существования страха в «Оно» или в Супер-Эго), то тогда реальный страх можно вывести из зависимости «Я» от внешнего мира, невротический страх — из зависимости «Я» от «Оно» и страх совести — из зависимости «Я» от Сверх-«Я». Основной функцией страха становится сигнальная, а проблема источника и происхождения страха теряет свой интерес и актуальность (для Фрейда).
Тем не менее, Фрейд обсуждает здесь лишь взаимосвязь между страхом и вытеснением с точки зрения первичности, подчеркивает роль страха кастрации в этиологии других страхов, но не отказывается при этом полностью от первоначальной теории страха рождения. Для большинства психоаналитиков, судя по всему, введенное им понятие сигнального страха так до сих пор и сохранило свое основное значение для понимания феномена страха.
Судя по публикациям, какого-либо существенного прорыва в понимании феномена страха за десятилетия в психоанализе не произошло. В обзорной статье Дитера Айке «Страх. Концепция фрейдистского психоаналитического направления», вышедшей в 1977 году, еще подчеркивается вклад Фрейда в понимание собственных влечений как внутренней опасности, но нужно заметить, что это исключение. Акцентируются психосоматические аспекты страха. Уделяется внимание тем страхам, которым, с точки зрения автора, «уделяется недостаточное внимание» — страху перед чужим и неизвестным, страху отделения от матери, страху утраты собственного «Я». Обсуждается вклад Мелани Кляйн, Карла Абрахама, Адлера, Фенихеля, Эриксона в теорию страхов, но какого-либо существенного прорыва или принципиально новых направлений не наблюдается.
Психо- и социодинамика страхов и фобий по-прежнему определяется через агрессию и либидо — «приступ страха может быть эквивалентом приступа ярости, эрзацем сексуального акта» — и травму рождения как «выражение элементарного страха отторжения, соответствующего страху смерти при оставлении матерью беспомощного ребенка».
Без труда можно заметить, как в осмыслении феномена страха на протяжении последних десятилетий происходит плавное, но неуклонное смещение акцента с внутренних детерминант страха на внешние. «Страх вызывается беспомощностью», «страх вызывается неизвестным» и т.д. — подобные высказывания, авторы которых полагают, что страх переживается человеком только в случаях, когда в окружающей среде происходят нежелательные изменения, чрезвычайно распространены в современной психологии и психотерапии. Если я сейчас сижу, пишу эти строки и, например, при этом совершенно не знаю, что происходит в соседней комнате (может быть, там заговор против меня готовят) и совершенно беспомощен на это повлиять (вдруг там силы мистические) — то я самым образцовым образом «не знаю» и абсолютно «беспомощен». Получается, я должен испытывать страх, но ведь я его не испытываю! На этот парадокс, всегда возникающий в случае акцента на внешних детерминантах страха, уже обращал внимание Фрейд, когда рассматривал точку зрения Адлера на страх. Если отрицать возникновение страха из либидо и проследить условия возникновения реального страха, пишет Фрейд, то можно прийти к мнению, что сознание собственной слабости и беспомощности (неполноценности, по терминологии Адлера) является конечной причиной невроза. Это звучит просто и подкупающе, но только после этого в еще большем объяснении, чем сам страх, будет нуждаться то, каким образом при чувстве неполноценности и вечных поводах для страха «хотя бы в виде исключения, может иметь место все то, что мы называем здоровьем». Всегда есть что-либо, что не известно, и всегда есть что-либо, против чего мы беспомощны — значит ли это, что мы всегда обречены испытывать страх?
Предостережение это было благополучно забыто, и уже в 60-х годах психоаналитик Д. Рапапорт, излагая теорию Фрейда, предостерегает читателей от чрезмерных обобщений и призывает не преувеличивать роль инстинктивных влечений в мотивации и поведении. По мнению Рапапорта, только одна теория, объясняющая механизм эмоций, не противоречит практике: «воспринятый извне перцептивный образ служит инициатором бессознательного процесса, в ходе которого происходит мобилизация неосознаваемой индивидом инстинктивной энергии». Именно так: перцептивный образ первичен, а бессознательные процессы и мобилизация инстинктивной энергии вторичны. Гордая птица еж: пока не пнешь — не полетит.
Еще откровеннее эта тенденция проявилась у Холта, который, отвергнув теорию инстинктивных влечений, утверждает значимость только внешней стимуляции. В теориях Кляйна, Арнольда, Лазаруса, Прибрама и других эмоции определяются несколько мягче — через когнитивный диссонанс или степень рассогласования между внутренним желанием и внешней стимуляцией.
Та же тенденция проявляется и в отношении к страху. Кэрролл Изард в монографии «Психология эмоций» в разделе «Причины страха» ссылается на Томкинса, Боулби и других исследователей, которые, говоря о причинах страха, лишь выделяют внешние «специфические события и ситуации». Боулби выделяет таких причин четыре: боль, одиночество, внезапное изменение стимуляции и стремительное приближение объекта. Изард добавляет к ним еще две: необычность и высоту. Каждый может продолжить этот ряд до бесконечности. На сегодняшний день описано, как мы уже говорили, более 500 разновидностей фобий. «Более чем достаточно», — так, кажется, говорил Фрейд в отношении огромного разнообразия известных и описанных в психологии влечений, всю жизнь стремясь вычленить именно глубинные, базовые влечения, определяющие собой все другие.
Не целесообразно ли было бы предпринять подобную попытку и в отношении страха?
Не пора ли нам перейти от проблемы страхов к проблеме страха?
Любой страх всегда прикрывает собой желание, чтобы произошло именно то, чего ты боишься. То есть любой страх всегда прикрывает собой влечение к тому, что он собой прикрывает. Этот факт, стократно получаемый из клинических наблюдений, позволяет ответить на очень многие как теоретические, так и практические вопросы. И мы должны здесь отдавать себе отчет в том, что именно это знание, бесценное для нас, является для большинства нормальных людей самым нелицеприятным, самым отвратительным и, может быть, самым неприемлемым — неприемлемым, возможно, в большей степени, чем знание о том, что жизнь есть процесс хронического умирания, что в основе жизни лежит влечение к смерти и что человек не обладает влечением к жизни.
Встречные вопросы легко прогнозируемы. Желает ли мать, которая боится, что с ее ребенком что-то может произойти, того, чтобы с ним на самом деле что-то произошло? Да. Она этого желает. Желает ли больной, который боится сойти с ума, сойти с ума? Да. Он этого желает. Желает ли студент, который боится, что он не сдаст экзамен, не сдать его? Да. Он желает этого. Желает ли девушка, которая боится, что у нее не сложится личная жизнь, того, чтобы ее личная жизнь не сложилась? Да. Она желает, чтобы ее личная жизнь не сложилась. Желает ли человек, который боится смерти, умереть? Конечно – да. Он желает умереть. Как и любой нормальный человек. Как и любое живое существо. Страх смерти, по большому счету, и есть самое лучшее доказательство влечения к смерти. И совсем уже понятно, что чем больше страх – тем большее желание он собой прикрывает. Иначе и не может быть. Только с этих позиций становятся понятны и страх смерти, об умозрительной нелепости которого размышлял перед смертью еще Сократ, и бесчисленные «нелепые» навязчивые страхи, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в клинической практике. Они бессмысленны и нелепы лишь до тех пор, пока мы смотрим только на них, пока мы не догадаемся заглянуть за них и пока мы не увидим, что все они являются лишь плотиной, которая прикрывает собой и укрощает напор тенденций, направленных противоположно страху. И самой мощной из всех имеющихся тенденций будет являться тенденция и влечение к смерти. И самой мощной плотиной, ее перекрывающей, будет являться страх смерти.
Страх смерти
Свои рассуждения на эту тему мне бы хотелось начать с описания одного феномена, с которым я случайно столкнулся, изучая авитальную активность пациентов в городском психотерапевтическом центре. То, что сначала воспринималось мной как помеха, постепенно стало обращать на себя внимание и привлекать мой интерес.
Очень быстро я убедился, что вопрос о влечении к смерти вызывает у подавляющего большинства людей, с которыми мне пришлось общаться на данную тему, негативное отношение. Это негативное отношение варьирует в значительных пределах от упорного непонимания сути моих вопросов до страха и бурного возмущения, проявляющегося в том, что некоторые пациенты, с которыми я разговаривал, могли затем длительное время высказывать претензии своим лечащим врачам и соседям по палате на то, что я «посмел заподозрить у них столь неприемлемые мысли». Должен признаться, что в какой-то степени беседы на темы авитальной активности приводили у них к временному психологическому ухудшению.
Первое время у меня было подозрение, что страх признать у себя наличие авитальных переживаний связан с тем, что в России на протяжении многих десятилетий крайние формы авитальной активности, такие, как самоубийство, рассматривались как несомненный признак серьёзной психической патологии и как прямое основание для принудительной госпитализации в закрытое психиатрическое отделение.
Поэтому я мог предполагать, что пациенты сознательно скрывают информацию, касающуюся собственных авитальных переживаний по двум причинам: во-первых, узнав об их нежелании жить или суицидальных мыслях, я как ортодоксальный российский психиатр мог подумать о наличии серьёзной психической патологии, во-вторых, на основании этой информации применить к ним принудительные санкции медицинского характера.
Однако в дальнейшем это объяснение перестало меня удовлетворять, и вот почему.
Во-первых:
В результате многочисленных бесед у меня сложилось впечатление, что по крайней мере у некоторых пациентов с негативной реакцией на тему авитальной активности сознательные авитальные переживания на самом деле отсутствуют (даже в форме пресуицидальной активности). То есть реально им нечего было скрывать и нечего бояться. Отрицая наличие пресуицидальных и суицидальных мыслей, не говоря уже о большем, они не обманывали меня.
Во-вторых:
Ситуация в стране за последнее время в отношении психиатрической помощи настолько изменилась, что эта информация тем или иным образом не могла не быть получена пациентами. Подтверждением тому является реально изменившееся отношение к психотерапевтической помощи в целом и к факту госпитализации в психотерапевтическое отделение в частности. Я помню, как ещё несколько лет назад приходившие к нам пациенты удивлялись отсутствию на окнах решёток, санитаров, свободному входу и выходу. В настоящее время страх, если не перед психиатрами, то перед психотерапевтами, почти исчез.
В-третьих:
Во время проведения бесед или использования систематизированных опросников реакция пациентов никоим образом не менялась от моих предварительных объяснений и заверений (с учётом вышеизложенных соображений) в том, что подобные переживания и мысли могут быть у любого нормального человека и совершенно не обязательно связаны с серьёзным психическим расстройством.
Эмоциональное отторжение данной темы происходило и происходит до настоящего времени — и иногда мне кажется, что пациенту легче признать в себе бессознательный латентный гомосексуализм или инцестуозные влечения, чем авитальную активность.
Слишком много эмоций — вот тот клинический вывод, который я мог сделать в результате своих наблюдений, и не удивительно, что этот факт привлёк моё внимание. С этого момента когда-то начался мой интерес к страху смерти.
Если мы с вами встанем в импровизированную очередь, в которой каждый человек будет символизировать одно поколение (приблизительно 25 лет), то где-то недалеко перед нами — всего человек через 180 — будет стоять легендарный Гильгамеш, правитель Урука, герой первого клинописного эпоса человечества, история жизни которого дошла до нас через четыре с лишним тысячи лет. Мы знаем его жизнь настолько хорошо, что можем позволить себе интерпретировать ее с позиций современной глубинной психологии, вслед за Юнгом и Нойманном.
Для нас Гильгамеш — прообраз человека, который, подавляя свою сексуальность из-за ее направленности на мать, настолько понизил качество своей жизни, что в конце концов решил избавиться от собственной сексуальности и кастрировал сам себя. Его желание умереть при этом возросло настолько, что только страх смерти и надежда найти бессмертие стали единственным содержанием его жизни.
Для Юнга Гильгамеш — прообраз невротика, чье сознание заполнено лишь честолюбивыми планами возвеличивания своего «Я». Гильгамеш, как и невротик, пренебрегает своим телом и, как чуть позже выясняется, страшится женщин и своей сексуальности. Женщины жалуются на него богам, и боги создают из глины звероподобного, дикого, покрытого волосами и живущего со зверями Энкиду. Юнг справедливо рассматривает Энкиду как констелляцию телесной сущности Гильгамеша. Сам по себе Энкиду сначала опасен для людей: все, что они делают, он разрушает. Поэтому Гильгамеш, узнав о существовании Энкиду (то есть узнав о существовании своего бессознательного), сам предлагает привести к нему блудницу, которая должна соблазнить и укротить его. Это происходит. Женщина, обученная Гильгамешем, соблазняет и покоряет Энкиду. Энкиду на вершине блаженства.
Вскочил Энкиду, — ослабели мышцы,
Остановились ноги,— и ушли его звери.
Смирился Энкиду, — ему, как прежде, не бегать!
Но стал он умней, разуменьем глубже, —
Вернулся и сел у ног блудницы,
Блуднице в лицо он смотрит,
И что скажет блудница, — его слушают уши.
Энкиду одновременно ослабел, поумнел — и тем самым удалился от животного царства. Связь с женщиной сделала звероподобного Энкиду ближе к людям, и теперь он желает стать ближе к Гильгамешу. Энкиду идет в Урук, чтобы встретиться с Гильгамешем. Бессознательное-Энкиду идет в Урук, чтобы встретиться с Сознанием-Гильгамешем. Гильгамеш вызывает его на бой, и Энкиду легко побеждает Гильгамеша, после чего тот ведет его к своей матери. Интересно, для чего?
Гильгамеш или совершил ошибку, или, как полагает Юнг, ловко обманул Энкиду, прикинувшись его другом. Он направляет познавшее женщину, ослабевшее, но все еще мощное (сильнее самого Гильгамеша) сексуальное животное (Бессознательное-Энкиду) прямо к собственной матери (на собственную мать), чтобы «познакомить» их. Что происходит дальше, неизвестно (эта часть эпоса утеряна), но в итоге мы видим Энкиду опечаленным. Что произошло между Энкиду и матерью Гильгамеша — неизвестно, но эта встреча их явно не обрадовала. Зато Гильгамеш, судя по всему, остался доволен. Он как бы наивно спрашивает Энкиду:
Почему твои очи наполнились слезами,
Опечалилось сердце, вздыхаешь ты горько?
Можно предположить, что Энкиду потерпел какое-то поражение от матери Гильгамеша. Скорее всего, он не смог ею овладеть, и был, таким образом, побежден. Направленная на мать сексуальность терпит поражение, невроз усугубляется, личность регрессирует и возвращается к начальной асексуальной героической стадии. Подобные метаморфозы можно бессчетное количество раз наблюдать в клинической практике. Женщины в этом отношении мало чем отличаются от мужчин. Женщины с поврежденной сексуальностью под патронажем (отцовством) психотерапевта реализуют свою сексуальность по отношению к другим (часто очень качественным) мужчинам. Как только их собственная сексуальность начинает их побеждать (они перестают контролировать ее), эти женщины быстро переключают свою сексуальность на отца-мужчину-психотерапевта и неминуемо терпят поражение. Пока их бессознательная сексуальность (точно так же, как и Энкиду) грустит (поскольку не совсем понимает, в чем дело: ей так хорошо было с другими, более качественными мужчинами; зачем ей этот — менее качественный и более недоступный), их сознание празднует гильгамешеву победу. Поражение, полученное их сексуальностью от отца-мужчины-психотерапевта, наполняет их яростью по отношению ко всем мужчинам вообще и возвращает на прежний невротический асексуальный круг.
Точно так же и Гильгамеш вновь принимает на себя руководство и побуждает Энкиду предпринять опасный поход на Хумбабу — страшное смертоносное чудовище, охраняющее лес вечнозеленых кедров. Перед походом Гильгамеш снова приходит к своей матери и просит ее благословения. По сути дела, он и в поход собирается ради нее. Ради нее он готов совершить любые подвиги без какого-либо страха (герой, побуждаемый на подвиг сексуальностью, никогда не испытывает страха перед смертью). Гильгамеш ведет себя и свою сексуальность на верную гибель — так он хочет умереть. Он осознает это, он идет на это сознательно — и не испытывает страха. Бессознательное-Энкиду опасается смерти, поскольку ему, знакомому с малой оргастической смертью секса, уже ведомы другие пути достижения блаженства, но не Гильгамеш, готовый умереть в сексуальном единении только со своей матерью, а если это невозможно — просто умереть ради нее.
При нормальном развитии сексуальности она (сексуальность), отвернувшись от матери, переносится на других женщин. Появляется фигура принцессы, ради завоевания которой герой совершает подвиги, но в случае Гильгамеша все происходит не так. Подвиги совершаются ради матери, а появившаяся все же после совершения подвигов принцесса с презрением отвергается, и Гильгамеш в символической форме самокастрирует себя. Энкиду умирает.
Происходит это так: после возвращения из победного похода великая богиня Иштар, восхищенная Гильгамешем, предлагает взять ее в жены, обещая ему за это неземное величие и богатство. Но Гильгамеш, однажды уже испуганный и побежденный своей сексуальностью (Энкиду), которая у него (как и любого невротика) в конечном счете направлена к матери, не может или не решается ею овладеть, грубо отвергает Иштар, обвиняя ее в коварстве и уничтожении всех своих любовников. Гильгамеш, как и миллионы невротиков, боится женщины. Его сексуальность (Энкиду) может принадлежать им, но не он — своей сексуальности.
Получив в грубой и оскорбительной форме отказ, разгневанная Иштар посылает гигантского быка, который вступает в бой с Гильгамешем-Энкиду. Энкиду, находящийся теперь полностью под властью Гильгамеша, побеждает Быка-Иштар, а затем кастрирует его (а вместе с ним и себя) и бросает член в лицо Иштар и всех женщин. Сексуальность Гильгамеша (Энкиду) уничтожила сама себя. Ей суждено умереть. Гильгамеш-Нарцисс любуется собой:
Кто же красив среди героев,
Кто же горд среди мужей?
Гильгамеш красив среди героев,
Энкиду горд среди мужей!
«Гордый» Энкиду в это время отвергает всех женщин и злобно проклинает и поносит весь женский род, в том числе несчастную Шамхат, которую еще недавно любил семь дней и ночей. Теперь он неблагодарно желает ей:
Пусть заливают пивом твое прекрасное лоно,
Пусть пьяный заблюет твое платье в праздник,
Пусть он отберет твои красивые бусы,
Пусть горшечник вдогонку тебе глину швыряет…
Он слышит голос бога, который обвиняет его в неблагодарности и предрекает близкую и неминуемую смерть. Только перед лицом смерти Энкиду изменяет свое мнение и завещает будущим царям и владыкам (нам) любить Шамхат. Энкиду (кастрированное бессознательное Гильгамеша) погиб, и только тогда наконец Гильгамеша обуял самый страшный страх — страх смерти:
И я не так ли умру, как Энкиду?
Тоска в утробу мою проникла,
Смерти страшусь…
…Энкиду, друг мой, которого так любил я,
С которым мы все труды делили, —
Его постигла судьба человека!
Шесть дней миновало, семь ночей миновало,
Пока в его нос не проникли черви.
Устрашился я смерти, не найти мне жизни:
Мысль о герое не дает мне покоя!
Дальней дорогой бегу в пустыне:
Мысль об Энкиду, герое, не дает мне покоя —
Дальним путем скитаюсь в пустыне!
Как же смолчу я, как успокоюсь?
Друг мой любимый стал землею!
Энкиду, друг мой любимый, стал землею!
Так же, как он, и я не лягу ль,
Чтоб не встать во веки веков?
Мы видели здесь, как человек, подавивший свою сексуальность, познал вслед за этим страх смерти. Мы теперь лучше понимаем, почему гений Фрейда увязал невротический страх не с какими-либо внешними опасностями (Гильгамеш, пока был жив Энкиду, нисколько не боялся ужасного и смертельно опасного Хумбабу), а с внутренними проблемами подавленной сексуальности.
Повредив один из своих основных механизмов, обеспечивающих качественный процесс умирания – сексуальность, Гильгамеш резко понизил качество своей жизни, повысил влечение к смерти и желание умереть. Он вызвал к жизни два основных невротических симптома, которые всегда сопровождают эти состояние: гипертрофированный страх смерти и желание любым путем продлить жизнь, в идеале — достигнуть бессмертия.
Гильгамеш-невротик четыре с лишним тысячи лет тому назад отправился в путешествие в поисках бессмертия, совершенно не понимая, как и те десятки невротиков, которые лежат сегодня в отделении за стенами моего кабинета, что, потеряв качество жизни, он ничего не изменит любым прибавлением ее количества.
Другой достойный упоминания герой в этой импровизированной очереди располагается чуть ближе к нам (всего человек через 100). Это молодой царевич Сиддхартха из рода Гуатама племени Шакьев, который, достигнув юности, вышел из дворца, чтобы совершить путешествие по городу в колеснице. В этот момент Бог-Дэва является на его пути в облике умершего, тело которого несут четверо людей. «Что несут они?» — спрашивает царевич, и его возница отвечает:
Это мертвый человек.
Жизнь ушла, и силы тела
Истощились у него,
Ум — без мысли, сердце камень,
Дух ушел, и он чурбан.
Нить семейная порвалась,
В белом трауре друзья,
Уж его — не радость видеть,
В яме скрыть его несут».
В тот же миг, как пишет Ашвагхоша в «Жизни Будды»:
Имя смерти услыхавши,
Был царевич угнетен,
Сердце сжалось мыслью трудной,
И печально он спросил:
«Он один ли, этот мертвый,
Или в мире есть еще?»
Узнав, что смерть — удел всех людей, царевич, утратив какой-либо интерес к дальнейшему путешествию (жизни), просит возницу повернуть колесницу назад:
Чтоб не тратить больше время,
Не блуждать среди садов.
Как бы мог он с этим страхом
Смерти, ждущей каждый миг,
С легким сердцем веселиться,
Уезжая вдоль пути!
Далее царевич Сиддхартха становится Буддой — основателем одной из трех мировых религий, суть которой сводится к целенаправленному и поэтапному изживанию жизни из жизни. Жизнь — страдание. В основе страдания — желания. Откажись от желаний — избавишься от страданий.
Буддизм — уникальное по откровенности философско-религиозное учение, которое учит человека правильно умирать. Если человек умирает и умер правильно, то, с точки зрения буддизма, он может рассчитывать на высшую награду — он никогда больше не родится: «пресекая поток существования, откажись от прошлого, откажись от будущего, откажись от того, что между ними. Если ум освобожден, то, что бы ни случилось, ты не придешь снова к рождению и старости… Он достиг совершенства, он бесстрашен, у него нет желаний; безупречный, он уничтожил тернии существования: это тело – его последнее».
Путешествие вдоль этой очереди приводит нас к однозначному заключению, что для того, чтобы испытать страх смерти, необходимо только одно условие — нужно очень желать умереть, и чем больше это желание умереть — тем больше страх смерти. Желание смерти непосредственно связано с качеством умирания или качеством жизни. Чем более качественно человек умирает, чем лучше удовлетворяет свое влечение к смерти, тем меньше его влечение к смерти и тем меньше страх смерти, который это влечение к смерти прикрывает.
Даже не понимающий взаимосвязи между влечением к смерти и страхом смерти экзистенциальный психотерапевт Ирвин Ялом совершенно справедливо рекомендует всем клиницистам для практической деятельности простое уравнение:
«Тревога смерти обратно пропорциональна удовлетворению жизнью».
Он относит страх смерти к одному из базовых постулатов при исследовании значения смерти в психопатологии и психотерапии, и характерно, что, говоря о значении страха смерти в нашем внутреннем опыте, Ялом использует настолько откровенно нуминозные и хтонические эпитеты («подземный грохот», «дремлющий вулкан»), что возникает ощущение, что ты читаешь руководство по аналитической психологии, а не по экзистенциальной психотерапии.
Ожидать беспристрастности в исследовании смерти от экзистенциалиста Ялома, который заведомо рассматривает смерть как «сокрушительницу всех надежд», разумеется, сложно. Почему смерть вдруг становится сокрушительницей всех надежд – не совсем понятно. Если я, как фрейдовский еврей, живу с мыслью, что до ста лет мне осталось лет шестьдесят, то тогда, конечно, смерть рано или поздно грубо поглумится над моими надеждами. Но если я хоть немного дружу если не с теорией вероятности, то со здравым смыслом, и хорошо знаю, что вероятность того, что я умру через пять минут всегда равна пятидесяти процентам (или умру, или не умру), то ни о каком крушении надежд речи идти не может. Жизнь от этого знания только приобретает двойную ценность и обостренный вкус.
Остановимся на том, что Природа (Бог, Бытие) предусмотрительно «вложила» в нас страх и то отвращение к смерти,
Что угнетает людей и, глубоко их жизнь возмущая,
Тьмою кромешною все омрачает и смертною мглою
И не дает наслаждаться нам радостью светлой и чистой.
Эта песня в вариациях исполнялась уже такое бесчисленное количество раз, что редко кто задает равно простой и наивный вопрос: зачем?
Зачем природа поместила между жизнью и смертью двух грозных недремлющих стражей: страх и боль?
Почему каждый из нас вынужден более или менее долго идти по тому жизненному пути, справа и слева от которого зияют бездонные пропасти смерти, понукаемый с двух сторон страхом и болью, великолепно зная при этом, что пропасть смерти и впереди?
Влечение к жизни?
То есть влечение собственно пройти по этому пути?
Так просто?
Тогда скажите мне — зачем охрана?
Гуляли бы себе сами по этой дорожке. Если я хочу гулять, я иду и гуляю. Мне не нужна охрана. Но в нашей жизни она, как известно, есть. Она всегда внутри нас, и освободиться от нее очень трудно. И эта охрана не наша — не мы ее нанимали, чтобы охранять себя от внешних и внутренних опасностей, угрожающих нашей жизни. Эта охрана заложена, встроена в нас изначально, и охраняет она жизнь не только от внешней опасности, но и от нас самих, мало считаясь с нашими соображениями и, как справедливо сказано Лукрецием, «глубоко нашу жизнь возмущая».
Задумайтесь: если положить доску шириной в ладонь на пол, то мы сможем сколько угодно долго стоять на ней. Но стоять на той же доске, перекинутой через пропасть, сможет далеко не каждый. Почему? Ведь интеллект, величием которого мы так привыкли гордиться, с очевидностью подсказывает нам, что ситуация в целом одна и та же и, если вероятность упасть с доски, лежащей на полу, близка к нулю, то она не меняется в зависимости от высоты, на которой находится эта доска. Или меняется? Или в ситуации, когда доска на достаточно большой высоте и когда любой шаг в сторону может легко привести к смерти, внутри нас просыпается некая тенденция, некое влечение, некое желание, возможность реализации которого и прикрывает надежно так называемый инстинкт самосохранения? Вопрос только: что он охраняет? Нас от смерти или смерть от нас?
В начале XX века Фрейд написал небольшую работу «Мы и смерть», с которой традиционно принято отсчитывать начало пробуждения его интереса к теме смерти, и в ней есть хорошая метафора. Представим, пишет Фрейд, что мы с вами находимся в прекрасном винограднике. В нем живут толстые черные и вполне безобидные так называемые змеи Эскулапа. В винограднике развешаны таблички, на которых написано: «Отдыхающим строго запрещается брать в рот голову или хвост змеи Эскулапа». «В высшей степени бессмысленный и излишний запрет. И без него такое никому в голову не придет», — справедливо пишет Фрейд. И далее он указывает на еще одну табличку, предупреждающую, что срывать виноград также запрещается. Этот запрет кажется Фрейду уже оправданным.
Оправданным он кажется и нам, потому что виноград нам желателен. Некоторым настолько, что одной таблички, может быть, будет даже мало, и будет совсем нелишним поставить пару-тройку стражей вокруг виноградника. Только давайте зададим себе простой вопрос: что будут охранять эти стражи: виноград или змей? Виноград. Тогда давайте зададим себе и другой простой вопрос: будут ли охранять эти стражи виноград от нас или нас от винограда? Виноград от нас. И опять же здесь возникает тот же вопрос: что и от кого охраняют в нас страх и боль? Нас от смерти или смерть от нас?
Библиография
Айке Д. Страх. Концепции фрейдистского психоаналитического направления. В кн.: Энциклопедия глубинной психологии. Т. 1.– М., 1998.
Анцыферова Л.И. Некоторые теоретические проблемы психологии личности. – Вопросы психологии, 1978. – № 1.
Анцыферова Л.И. Психология личности как «открытой системы» (О концепции Гордона В. Олпорта)//Вопр. психологии. – 1970. – N. 5.
Аршавский И.А. Основы негэнтропийной теории биологии индивидуального развития, значение в анализе и решении проблемы здоровья. В кн.: Валеология: Диагностика, средства и практика обеспечения здоровья.– СПб., 1993.
Ашвагхоша. Жизнь Будды.– М., 1990.
Бердяев Н.А. Философская истина и интеллигентская правда //Вехи. Интеллигенция в России: Сб. ст. 1909—1910.— М., 1991.
Биология старения (Руководство по физиологии). – Л.: Наука, 1982.
Браун Дж. Психология Фрейда и постфрейдисты. – М., 1997.
Бродский И. Стихотворения, эссе, пьесы: В 2 Т.– М., 1992.
Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия.— СПб., 1997.
Вагин Ю. Р. Психодинамические аспекты посттравматического стрессового расстройства //Материалы VI Всероссийской открытой научно-практической конференции «Травматический и поствоенный стресс…».— Пермь, 2001.
Вагин Ю.Р. Креативные и примитивные. Основы онтогенетической персонологии и психопатологии.– Пермь, 1996.
Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека.– М., 1990.
Виттельс Ф. Фрейд, его личность, учение и школа. – Л., 1991.
Вогралик В.Г. и др. О биоэнергетике стареющего организма и основных путях ее обеспечения. – Терапевтический архив.– 1980. – N.1.
Гаддини Е. По ту сторону инстинкта смерти. Проблемы психоаналитического исследования агрессии/В кн.: Психоанализ в развитии: Сб. переводов.–Екатеринбург, 1998.
Гете И.Ф. Фауст.– М., 1960.
Гиппократ О ветрах 1. Избранные книги.– М.,1936.
Гоббс Т. Основ философии. Сочинения в 2 т. Т.1/Пер. с лат. и англ.– М., 1989.
Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т. Т. 1.– М., 1992.[1]
Горовиц Возникновение жизни на Земле – М., 1959. – С. 109.
Грановская Р.М., Крижанская Ю.С. Творчество и преодоление стереотипов.— СПб., 1994.
Гротьян М. Переписка З.Фрейда. В кн.: Энциклопедия глубинной психологии. Т.1.–М., 1998.
Гумилев Н. Стихотворения и поэмы.– М., 1989.
Дадун Р. Фрейд— М., 1994.
Джеймс У. Психология. – М., 1991.
Докинз Р. Эгоистичный ген: Пер. с англ. – М., 1993.
Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд.– СПб.,– 1998.
Елисеев О.П. Конструктивная типология и психодиагностика личности. – Псков, 1994.
Еськов К.Ю. История Земли и жизни на ней: Экспериментальное учебное пособие для старших классов. – М., 1999.
Зинченко В.П., Смирнов С.Д. Методологические вопросы психологии. М., 1983.
Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. Очерки российской психологии. – М., 1994.
Зотин А.И. Термодинамический подход к проблемам развития, роста и старения. – М., 1974.
Изард К.Э. Психология эмоций.– СПб., 2000.
Калшэд Д. Внутренний мир травмы: Архетипические защиты личностного духа.– М., 2001.
Камю А. Миф о Сизифе. В кн.: Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство/Пер. с фр.– М., 1990.
Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. В 2 т. Т. 1.
Кемпински А. Экзистенциальная психиатрия.– М., 1998.
Клиническая психиатрия /Под ред. проф. Н. Е. Бачерикова.— Киев, 1989.
Ковалев Г.А. Три стратегии психологического воздействия. – Вопр. психологии. – 1987. – N 3.
Краткий тест творческого мышления. Фигурная форма. – М., 1995.
Кроль Л. Специи жизни и смерти в психотерапии //Ялом И. Экзистенциальная психотерапия /Предисл. Л. Кроля.— М., 1999.
Кузнецов В. Е. Истоки междисциплинарного подхода в отечественной суицидологии//Комплексные исследования в суицидологии. Сб. науч. тр.– М., 1996.
Кьеркегор С. Понятие страха. В кн.: Страх и трепет.– М.,1993.
Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. – М., 1996.
Левандовский А. Максимилиан Робеспьер.— М., 1959.
Лейбин В.М. Фрейд, психоанализ и современная западная философия.– М., 1990.
Лоренц К. Так называемое зло //Оборотная сторона зеркала /Пер. с нем.— М., 1998.
Лосев А.Ф. Диалектика мифа //Миф—Число—Сущность.— М., 1994.
Лоуэн А. Любовь и оргазм.– Ростов-на-Дону, 1998.
Лукреций К. О природе вещей/пер. с лат. – М., 1937.
Мамардашвили М. Как я понимаю философию.— М., 1992.
Меннингер К. Война с самим собой.— М., 2000.
Моисеев Н.Н. Стратегия разума/Знание — сила.– 1986.– № 10.
Монтень М. Опыты. В 3 кн. Кн. 1. – М., 1991.
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Сочинения в 2 т. Т.1.– М., 1996.
Нойманн Э. Происхождение и развитие сознания.– М., 1998.
Осорина М.В. Черная простыня летит по городу, или зачем дети рассказывают страшные истории. В кн.: Популярная психология: Хрестоматия.– М., 1990.
Перлз Ф. Внутри и вне помойного ведра.– СПб., 1995.
Платон Пир. Собр. соч. в 4 т. Т. 2/Пер с древнегр. – М., 1993.
Попов Ю.В. Концепция саморазрушающего поведения как проявления дисфункционального состояния личности. – Обозр. психиатр. и мед.психол. – 1994. – № 1.
Психиатрия, психосоматика, психотерапия/К.П.Кискер и др.– М., 1999.
Психология. Словарь.– М., 1990.
Пурич-Пейакович Й., Дуньич-Душан Й. Самоубийства подростков.– М., 2000.
Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа. Введение.– СПб., 1995.
Райх В. Функции оргазма.– СПб., М., 1997.
Райх В. Характероанализ: Техника и основные положения для обучающихся и практикующих аналитиков.– М., 1999.
Рассел Б. История западной философии: В 3 кн.– СПб., 2001.
Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. – М., 1998.
Роджерс К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека.– М., 1994.
Розинер Ф. Некто Финкельмайер.— М., 1990.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. II.– М., 1989.
Руководство по психиатрии/Под. ред. А.В.Снежневского.– Т.1.– М., 1983.
Руткевич А.М. Психоанализ. Истоки и первые этапы развития: Курс лекций.– М., 1997.
Сенека Л.-А. Письма к Луциллию.
Сент-Экзюпери А. Планета людей //Сб.— М., 1970.
Словарь практического психолога.– Минск, 1997.
Степанов С. Психология в лицах.– М., 2001.
Тих Н.А. Ранний онтогенез поведения приматов. – Изд–во ЛГУ. – 1966.
Тихоненко В.А. Классификация суицидальных проявлений //Актуальные проблемы суицидологии.— М., 1978.
Томэ Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. Т.1. Теория: Пер. с англ.– М., 1996.
Тэхкэ В. Психика и ее лечение: психоаналитический подход/Пер. с англ.– М., 2001.
Уилсон Р.А. Квантовая психология.— М., 1999.
Феррис П. Зигмунд Фрейд. – Мн., 2001.
Фокс Р. Энергия и эволюция жизни на земле: Пер. с англ. – М.: Мир, 1992.
Франкл В. Психотерапия на практике.– СПб., 2001.
Франкл В. Психотерапия на практике: Пер. с нем.– СПб., 2001.
Фрейд А. Толкование агрессии. В кн.: Теория и практика детского психоанализа.– М., 1999.
Фрейд З. Анализ фобии пятилетнего мальчика. В кн.: Психология бессознательного: Сб произведений – М., 1990.
Фрейд З. Будущее одной иллюзии. В кн.: По ту сторону принципа удовольствия.– Харьков, М., 2001.
Фрейд З. Будущее одной иллюзии. В кн.: По ту сторону принципа удовольствия.– Харьков, М., 2001.
Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. – М., 1989.
Фрейд З. Влечения и их судьба. В кн.: Влечения и их судьба.– М., 1999.
Фрейд З. Неудовлетворенность культурой. В кн.: Основной инстинкт — М., 1997.
Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия //Психология бессознательного.— М., 1990.
Фрейд З. Продолжение лекций по введению в психоанализ.— М., 1989.
Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я». В кн.: По ту сторону принципа удовольствия.– Харьков, М., 2001.
Фрейд З. Страх и жизнь влечений. В кн.: Влечения и их судьба.– М., 1999.
Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности. В кн.: Психология бессознательного: Сб. произведений.– М., 1990.
Фрейд З. Я и Оно. В кн.: По ту сторону принципа удовольствия.– Харьков, М., 2001.
Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности.— М., 1994.
Хензелер Х. Вклад психоанализа в понимание суицида. В кн.: Энциклопедия глубинной психологии. Т.2.– М., 2001.
Хорни К. Самоанализ. Психология женщины. Новые пути в психоанализе.– СПб., 2002.
Цизе П. Психоаналитическая теория влечений. В кн.: Энциклопедия глубинной психологии. Т.1.– М., 1998.
Александер Ф., Селесник Ш. Человек и его душа: познание и врачевание от древности и до наших дней: пер. с англ. – М., 1995.
Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (Основы палеопсихологии).– М., 1974.
Чехов А.П. Именины //Собр. соч.: В 12 т.— М., 1985.— Т. 7.
Швейцер А. Жизнь и мысли.– М., 1996.
Шир Е. Суицидальное поведение у подростков //Журн. невропатол. и психиатрии им. Корсакова.— 1984.— № 10.
Шледерер Ф. Критика Фрейдом общества, культуры и религии. В кн.: Энциклопедия глубинной психологии. Т.2./Пер. с нем.– М., 2001.
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление: Собр. соч.– Т.1.
Шпильрейн С.Н. Деструкция как причина становления. В кн. Антология российского психоанализа: В 2 т. Т.1.– М., 1999.
Шпиц Р. Психоанализ раннего детского возраста.– М., СПб, 2001
Эткинд А. Эрос невозможного. История психоанализа в России.– СПб., 1993.
Юнг К.Г. Конфликты детской души: Собр. соч.— М., 1994.
Юнг К.Г. Либидо, его метаморфозы и символы.– СПб., 1994.
Юнг К.Г. Тэвистокские лекции. Аналитическая психология: ее теория и практика.– Киев, 1995.
Ялом И. Экзистенциальная психотерапия.– М., 1999.
Ясперс К. Общая психопатология.– М., 1997.
Яффе А. Символизм в изобразительном искусстве //Человек и его символы.— СПб., 1996.
Allport G.W. The functional autonomy of motives. – American journal of psychology. – 1937.
Allport G.W. The nature of personality: selected papers. – Cambridge, Massachussets, 1950.
Burless C., De Leo D. Methodological Issues in Community Surveys of Suicide Ideators and Attempters.–Crisis.– 2001.– Vol. 22.– № 3.
Carotenuto A. A Secret Symmetry. Sabina Spielrein between Freud and Jung. London: Routledge, 1980.
Cremerius J. Sabina Spielrein – ein frhes Opfer der psychoanalytischen Berufspolitik. «Forum der Psychoanalyse», 1987. – B. 3.
Federn P. Review of: Spielrein. Die Destruction als Ursache des Werdens. Zeitschrift.– 1913.–№ 1.
Fenichel O. Zur Kritik des Todestriebes – Imago.– 1935.– № 21.
Freud A. Commons on aggression.– Internat. J. of Psychoanalysis.– 1972.– 53.
Freud S. Civilization and Discontent //Standard Edition of the Complete Psychological Works of S. Freud, 1961.– v. 21.
Freud S. Thoughts for the times on war and death //Standard Edition of the Complete Psychological Works of S. Freud, 1961.– v. 14.
Freud-Jung Letters. W. McGuire, ed. London: Hogard, 1974.
Hartmann H., Kris E., Loewenstein R.M. Notes on theory of aggression.–Psychoanal. Study Child.– 1949.–3/4.
Holt R.R. Drive or wish? A reconsideration of the psychoanalytic theory of motivation//Psychological issues.–Vol. 9.–№ 4.
Jones E. Sigmund Freud, Life and Work. Vol. 3. The Last Phase, 1919–1939.–London, 1957.
Minutes of the Vienna Psychoanalytic Society. Vol. 4: 1912–1918. – N.Y., 1975.
Nunberg H. Allgemeine Neurosenlehre. Bern, Stuttgart, Wien: Huber 1971.
Rapaport D. On the psychoanalytic theory of motivation.– In: Nebraska Symposium on Motivation. – Lincoln, 1960.
Spielrein S. Die Destruction als Ursache des Werdens //Jarbuch fur psychanalytische und psychopatologische Forschungen.—1912.— № 4.
Tabachnick N. Interpersonal relations in suicidal attempts//Arch. Gen. Psychiat.– 1961.– № 4.
Welch S. S. A Review of the Literature on the Epidemiology of Parasuicide in the General Population//Psychiatric Service – 2001.– 52.