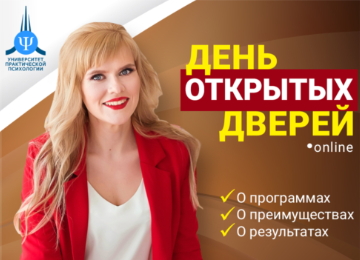- Книги
- О'Генри. Позвольте-ка ваш пульс
О'Генри. Позвольте-ка ваш пульс
Тогда я пошел к доктору.
— Как давно вы вводили вовнутрь алкоголь? — спросил он.
Я отвернулся и ответил:
— Да уж и не припомню.
Доктор был молодой, лет двадцать, не то сорок. Носки нежно-фиалковые, а сам как Наполеон. Мне он страшно понравился.
— Так вот,— сказал он,— сейчас вы своими глазами убедитесь, как алкоголь влияет на ваше состояние.
Вроде он сказал «на состояние», а может, и «на финансы».
Засучил он мне рукав, достал бутылку виски и угостил. И стал совсем как Наполеон. Тут он мне еще больше понравился.
Перетянул он мне руку у плеча, сдавил пульс и нажал резиновую грушу, приделанную к какому-то градуснику на подставке. Ртуть так и запрыгала вверх-вниз, и доктор сказал, что у меня двести тридцать семь, или, не помню, сто шестьдесят пять, или еще сколько-то.
— Вот видите,— сказал он,— какое у вас стало давление от алкоголя.
— Да, дела,— сказал я,— только надо бы еще разок проверить. Давайте лучше пропустим еще стаканчик за мой счет и попробуем с другого плеча.
Но куда там!
Хвать он меня за руку. Ну, думаю, не жилец я, сейчас он со мной попрощается — и все. А он просто всадил мне иглу в палец, выдавил каплю крови и стал се сличать с полдолларовыми покерными фишками, зачем-то наколотыми на карту.
— Проверяю на гемоглобин,—объяснил он.— Плохой у вас цвет крови.
— Это да,— говорю,— должна быть голубая, да разве это страна — кругом полукровки. Как мои благородные предки пошли путаться с нантукетской шушерой, так только…
— То есть я хочу сказать,— сказал доктор,— что красноты в ней недостает.
— А-а,— сказал я,— значит, дело не в смешанных браках, а в бракованной смеси.
Тогда доктор начал колотить меня под ребра. Я уж даже перестал понимать, на кого он больше похож, то ли на того же Наполеона, то ли, может, на лорда Нельсона. А он насупился и отсчитал с десяток разных плотских немощей с окончанием на «ит». Я ему тут же выплатил пятнадцать долларов.
— А что,— спросил я,— от каких-нибудь из них вообще можно умереть?
Я все ж таки в этом деле человек не последний, имею право поинтересоваться.
— Все до одной смертельные,— бодро сказал он.— Однако их можно приостановить. При надлежащем уходе и непрерывном лечении вам, пожалуй, удастся прожить лет до восьмидесяти пяти—девяноста.
Я прикинул, сколько же он за такое запросит.
— Хватит восьмидесяти пяти, надо и меру знать,— заметил я.
И заплатил ему еще десять долларов.
— Прежде всего,— оживился он,— вам нужно хорошенько отдохнуть и привести в порядок нервы. Я сам поеду с вами, подыщу подходящую лечебницу.
И повез он меня в желтый дом на Кэтскильских горах. Кругом валуны и каменья, кое-где горстка снега да несколько сосен. Молодой главврач был очень приятный человек. Он поднес мне укрепляющего, а руку перетягивать не стал. Было время завтрака, и нас пригласили откушать. Человек двадцать больных сидели за столиками. Молодой главврач подошел к нашему столу и сказал:
— У нас так заведено, что гости наши как бы и не пациенты, а просто переутомившиеся леди и джентльмены на отдыхе. Может быть, кое-кто кое-чем и болен, но говорить об этом у нас не принято.
Мой доктор громко велел подавальщице принести порцию глицерофосфата из негашеной извести, собачий бисквит, содовые блинчики с бромом и рвотум-чаю из целибухи, чтобы утолить мой голод. Все кругом зашумели, как сосны от порыва ветра. Раздавался звучный шепот: «Неврастения!», и только один носатый, слышу, проговорил: «Хронический алкоголизм». Повидаться бы с ним еще.
Главврач повернулся и удалился.
Через час-другой после завтрака он повел нас в мастерские, ярдов так за пятьдесят от главного корпуса. Все уже там собрались, их привел заместитель и подручный главврача, такой ногастый малый в синем свитере. Длинный он был жутко, лица и не видать, может, его и не было; зато руки его Бронезаковочная Компания откупила бы на корню.
— Здесь,— сказал главврач,— отдыхающие у нас отключаются от всяческой психоозабоченности путем физического труда, то есть отдыха как такового.
Там были токарные станки, плотницкий инструмент, глиномесильные снаряды, самопрялки, турецкие барабаны, мольберты для пастельной живописи, кузнечные горны — вообще все, что может понадобиться умалишенному с деньгами в первоклассной лечебнице.
— Вон дама в углу лепит пирожки из грязи,— прошептал главврач,— так она, вы думаете, кто? Это Лулу Лулингтон, та самая, автор романа «Зачем любви любовь». Создала свое произведение и теперь отдыхает от умственного труда.
Книга мне попадалась.
— Нет бы ей написать еще что-нибудь в том же роде, чем не отдых? — спросил я.
Как видите, они зря думали, что я совсем свихнулся.
— А вон джентльмен льет воду из банки в воронку,— продолжал главврач,— так это делец с Уолл-стрита, отдыхает от банковских дел.
Я застегнул пальто.
Еще он показал архитекторов за игрой в Ноевы кораблики, священников за чтением дарвиновской «Теории эволюции». Юристы пилили дрова, томные светские дамы толковали об Ибсене с громилой в синем свитере, нервный миллионер спал на полу, а знаменитый художник катал по полу красную колясочку.
— Сложение у вас крепковато,— сказал мне главврач.— Вам, пожалуй, для душевного отдыха лучше всего кидать булыжники с горы, а потом заносить их обратно.
Не пробежал я и ста ярдов, как мой доктор меня догнал.
— В чем дело? — спросил он.
— Дело в том,— сказал я,— что у меня под рукой нет ни одного аэроплана. Так что я бодро-весело поскачу по этой вот тропочке вон на ту станцию и вернусь в город первым же недогруженным угольным составом.
— Что ж,— сказал доктор,— может быть, вы и правы. Похоже, что эта лечебница не для вас. И тем не менее вам прежде всего нужен покой, абсолютный покой и непрестанная разминка.
К вечеру я добрел до местной гостиницы и сказал дежурному:
— Мне нужен абсолютный покой и непрестанная разминка. Не могли бы вы сдать мне номер с такой, знаете, высокой складной кроватью и заодно смену-другую коридорных; пусть они ее складывают и раскладывают, а я на ней буду покоиться.
Дежурный стер пятнышко с ногтя и мигнул верзиле в белой шляпе, торчавшему в вестибюле. Тот подошел ко мне и учтиво осведомился, обратил ли я внимание на скверик у запасного выхода. Я не обратил, и он мне его показал, а потом оглядел меня с ног до головы.
— Я думал, ты перебрал,— сказал он не без сочувствия,— да нет, вижу, в норме. Сходил бы ты, малый, к доктору.
Через неделю мой доктор смерил мне давление всухую, без угощения. Как-то он мне показался не таким уж Наполеоном. И носки у него были загарного, что ли, оттенка, не в моем вкусе.
— Прежде всего,— решил он,— вам нужен морской воздух и тесное общение.
— Русалки, они, конечно,— начал я, но он тут же перешел от слов к делу.
— Я сам,— сказал он,— поеду с вами в отель «Бонэр» на побережье Лонг-Айленда и пригляжу за вашим выздоровлением. Эго тихий, уютный курорт, там вы сразу пойдете на поправку.
Отель «Бонэр» оказался шикарной островной гостиницей на девятьсот номеров. Кто не переодевался к обеду, тех там загоняли в отдельные кабинеты и насильно потчевали черепаховым супом с шампанским. По заливу фланировали богатые яхтсмены. В день нашего прибытия там бросил якорь «Корсар». Я видел, как мистер Пирпойнт Морган стоял на палубе, жевал бутерброд с сыром и тоскливо поглядывал на отель. А ведь все было недорого. Платить по счету все равно бы никаких денег не хватило. Кому надо было уезжать, тот просто оставлял пожитки, крал ялик и ночью добирался до материка на веслах.
Побыл я там один день, взял с конторки дежурного пачку бланков с монограммами и стал телеграфировать друзьям, чтоб прислали на отъезд, кто сколько может. Мы с доктором сыграли разок в крокет на поле для гольфа, там же и поспали.
Вернулись мы в город, и тут его вдруг словно осенило.
— А кстати,— спрашивает,— как ваше самочувствие?
— Сильно полегчало в карманах,— отозвался я.
Одно дело — врач, другое — консультант. Он ведь не совсем точно знает, заплатят ему или нет, и от такого сомнения либо очень старается, либо совсем не старается. Мой доктор повел меня консультироваться. Выбрал он наобум и невзначай напал на старательного. Мне консультант страшно понравился. Он мне устроил проверочные упражнения.
— Голова в задней части болит? — спросил он. Я сказал, что не болит.
— Закройте глаза,— велел он,— сдвиньте ступни и прыгните назад как можно дальше.
Я всегда любил прыгать назад с закрытыми глазами и артачиться не стал. Я стукнулся головой об угол раскрытой двери ванной: она была фута за три. Доктор очень расстроился. Раскрытая дверь — это был его недосмотр. Он закрыл ее.
— Теперь притроньтесь к носу указательным пальцем правой руки,— сказал он.
— А где он? — сказал я.
— У вас на лице,— сказал он.
— Я про указательный палец правой руки,— пояснил я.
— Ах, прошу прошения,— сказал он. Он снова приоткрыл дверь ванной, и я вынул палец из щели. Потом я на удивление лихо произвел пальценосовое притрагивание и сказал:
— Не хочу вас обманывать насчет симптомов, доктор, у меня и правда как-то побаливает голова в задней части.
Но он не придал симптому значения и прослушал мое сердце через граммофонный рупор, какие торчат из автоматов: кинь монетку — заиграет. Мне показалось, что я народная песня.
— А теперь,— сказал он,— пройдитесь по комнате галопом минут пять.
Я, как умел, изобразил ломовика с задышкой, которого выдворяют с Мэдисон-сквера. Потом он снова приложился рупором к моей груди, а монетки так и не бросил.
— Сапа у нас в роду не было, доктор,— сказал я.
Консультант выставил указательный палец дюйма за три от моего носа.
— Посмотрите на мой палец,— велел он.
— Скипидар — он любую грязь,— начал я, но он повел дело на скорую руку.
— Теперь на залив. На мой палец. На залив. На мой палец. На мой палец. На залив. На залив. На мой палец. На залив.— И так минуты три.
Он объяснил, что это проверка на сообразительность. Тоже мне проверка. Я ни разу не принял залив за палец.
Спорить могу, что если б он говорил так: «Поглядите, так сказать, неозабоченно, экстравертированно или, вернее, скользящим взором в направлении горизонта, окаймленного, попросту говоря, смежным влагообразованием» и «А теперь, возвлекая или, иначе говоря, отвращая ваше внимание, сосредоточьте его на моем воздетом пальце», я говорю, спорить могу, что тут бы и сам великий стилист Г. Джеймс не оплошал.
Меня спросили, не было ли у меня двоюродного деда с искривлением позвоночника или троюродного брата с распуханием щиколоток, и оба доктора удалились в ванную комнату, сели на край ванны и стали совещаться. Я ел яблоко и смотрел на свой палец, а потом на залив.
Доктора вышли мрачнее мрачного. Мало сказать: сущие надгробья, настоящая проверка документов в штате Теннесси. Они посадили меня на строжайшую диету. Чего-чего в этой диете только не было, все было, кроме улиток. А что мне улитки: я их я в рот не возьму, разве что сами первые кусаться начнут.
— От этой диеты ни на шаг,— сказали доктора.
— То есть ни на миллиметр, пока денег хватит,— подтвердил я.
— Это первое; второе,— продолжали они,— это свежий воздух и непрестанная разминка. Вот вам рецепт: принимайте, очень поможет.
Потом мы все взялись за свое. Они взялись за шляпы, я — за лечение.
Я пошел к аптекарю и предъявил ему рецепт.
— 2.87 за унцию: в пузырьке будет,— сказал он.
— А у вас нет лишнего кусочка шпагата? — спросил я.
Я сделал в рецепте дырочку, продернул в нее шпагат, повесил это дело себе на шею и схоронил рецепт на груди. Мало ли у кого какие предрассудки: я, например, верю в амулеты.
Здоровья мне, конечно, было не занимать стать, но болезнь меня не отпускала. Я не мог ни работать, ни спать, ни есть, ни в крокет. А чтобы хоть кто-нибудь посочувствовал, надо было не бриться четыре дня. И то замечали: «Ну, старик, ядреный ты, как сосновая шишка. В мэнские леса, поди, съездил отдохнул?»
Потом я вдруг припомнил, что мне же нужен свежий воздух и непрестанная разминка. Тогда я поехал на юг к Джону. Джон мне более или менее родственник: за это ручался один проповедник, обставленный хризантемами и обчитывавший сто тысяч человек из маленькой книжечки. У Джона своя усадьба за семь миль от Пайнвилля. Стоит она там высоко на склоне Синего Хребта в таком достопочтенном штате, что не здесь бы о нем говорить. А Джон все равно как слюдяной пласт — прозрачный и огнеупорный, куда почище золота.
Встретил он меня в Пайнвилле, и мы поехали к нему в подвесном вагончике. Домище у него стоит на взгорье один-одинешенек, а кругом сто горных вершин. Мы слезли рядом с домом на особой остановке, и нас там встречала и привечала Джонова семья вместе с Амариллис. Амариллис как-то беспокойно поглядела на меня.
Откуда-то выскочил кролик и запрыгал по холму нам наперерез. Я бросил чемодан и во всю прыть пустился вдогонку. Пробежал я за ним ярдов сто, проводил его глазами, сел на траву и горько заплакал.
— Уж и кролика догнать не могу,— рыдал я.— Какой от меня вообще на земле толк? Только и осталось, что умереть.
— Ой, что это, что это он, братец Джон? — донесся до меня голос Амариллис.
— Нервы разболтались,— спокойненько сказал Джон.— Пустяки. Вставай, ты, гроза кроликов, пойдем в дом, а то пирожки остынут.
Начало смеркаться, и горы не посрамили бы своего описания у миссис Мерфри.
Пообедали, и я объявил, что, пожалуй, сосну годик-другой, и по праздникам тоже не будить. Меня провели в комнату, большую и прохладную, как цветник, и там стояла постель шириной с клумбу. Вскорости домочадцы улеглись все до единого, и кругом настала непробудная тишь.
Чего-чего, а тишины я уж сколько лет не слышал. Нигде ни звука. Я поднялся на локте и прислушался. Какое там спать! Вот заслышать бы хоть что-нибудь: как звездочка мигает или как травинка растет — тут бы я, может, и заснул. Мне и то показалось, словно бы невесть где на лодчонке ветерком шевельнуло парус, но потом я решил, что это, небось, кнопка в ковре открепилась. И стал слушать дальше.
Вдруг какая-то птичка села на подоконник и сонным голосом заметила в переводе на человеческий: «Чик-чирик».
Я так и подскочил.
— Эй! Кто там шумит внизу? — отозвался Джон сверху.
— Ничего особенного,— отвечал я,— просто я тут нечаянно стукнулся головой о потолок.
Утром я вышел на крыльцо и поглядел на горы. Виднелось сорок семь вершин. Меня передернуло, я вернулся в необъятную гостиную, отыскал на полке «Пэнкостовский семейный самоучитель медицины» и стал читать. Пришел Джон, отобрал у меня книгу и повел прогуляться. У него было три сотни акров, а на них вдосталь сараев, мулов, пахарей и борон с подвыбитыми передними зубьями. Я такое видывал в детстве, и сердце у меня опустилось.
Потом Джон завел речь про люцерну, и я сразу встряхнулся.
— Ну да,— сказал я,— та самая, из кордебалета этого, как его…
— Знаешь, такая курчавая, тоненькая,— сказал Джон,— сезон покрасовалась, а там и в землю зароют.
— Знаю,— сказал, я,— она в земле, а сверху трава растет.
— Вот-вот,— сказал Джон.— Да ты, я вижу, смыслишь в хозяйстве.
— Еще бы я не смыслил в их хозяйстве,— сказал я.— В один прекрасный день они дохозяйничаются.
Тропинку к дому пересекло прекрасное и загадочное существо. Я встал как вкопанный и глядел во все глаза. Джон терпеливо курил сигарету. Он из фермеров нового закала. Минут через десять он сказал:
— Ну ты как, целый день будешь пялиться на цыпленка? Так ведь и завтрак проморгаешь.
— На цыпленка? — сказал я.
— Ну на белую орпингтонскую курицу, раз уж ты такой дотошный.
— На белую орпингтонскую курицу? — повторил я с сугубым интересом. Курица неспешно удалялась, не теряя достоинства и грации, а я брел за ней, как дитя за Гаммельнским крысоловом. Джон потерпел еще пять минут, потом взял меня за рукав и повел завтракать.
Побыл я у них с неделю и встревожился. Я спал и ел на славу и начал прямо-таки радоваться жизни. Мне в моем отчаянном положении это уж никак не пристало. Я улизнул на станцию подвесной дороги, добрался вагончиком до Пайнвилля и пошел там к лучшему городскому врачу. На этот раз я твердо знал, что делать, когда требуется медицинская помощь. Я повесил шляпу на спинку стула и выпалил:
— Доктор, у меня цирроз сердца, затвердение артерий, неврастения, неврит, острое несварение желудка и синдром выздоровления. Я ни на шаг не отступлю от строжайшей диеты. По вечерам буду принимать теплые, а по утрам холодные ванны. Постараюсь рассеяться и думать о чем-нибудь исключительно приятном. Из лекарств намерен принимать три раза в день, желательно после еды, фосфорную таблетку и пить настой горечавки на хинной коре с хинной солью, замешанной на кардамоне. В каждую ложку смеси я буду подбавлять тинктуру целибухи, наращивая дозу по капле в день от одной до максимума. Капать буду пипеткой, а пипетку ничего не стоит купить в любой аптеке. Счастливо оставаться.
Я снял шляпу со стула и вышел. Я затворил за собой дверь и припомнил, что сказал не все. Я снова отворил дверь. Доктор сидел где и прежде, словно врытый, но, увидев, что это опять я, подскочил на месте.
— Вот еще что,— сказал я.— Я буду соблюдать абсолютный покой и всячески разминаться.
После консультации мне сразу полегчало. Я толком припомнил, до чего безнадежно я болен, и так ублаготворился, что чуть снова не впал во мрак. А то ведь если неврастенику хорошо живется и легко дышится, то пиши пропало.
Джон улаживал за мной по-родственному. С тех пор, как я пошел хвостом за его белой орпингтонской курицей, он меня развлекал изо всех сил и обязательно запирал курятник на ночь. Постепенно живительный горный воздух, здоровая пища и ежедневные прогулки вверх-вниз так облегчили мои страдания, что я вконец отчаялся и опустился. Я прослышал о деревенском лекаре, который жил неподалеку в горах. Я пошел к нему и рассказал все с начала до конца. У него была седая борода, ясные синие, облученные морщинками глаза и серая домотканая хламида.
Чтоб не тратить времени попусту, я поставил себе диагноз, потрогал нос указательным пальцем правой руки, съездил ребром ладони себе под колено и брыкнул ногой, простукал легкие, высунул язык и спросил его, почем нынче участки на пайнвилльском кладбище.
Он закурил трубку и минуты с три разглядывал меня.
— Да, брат,— сказал он по размышлении,— дело твое, надо сказать, дрянь. Есть у тебя, правда, кой-какая надежда выкарабкаться, но самая, надо сказать, пустяковая.
— Что за надежда? — жадно спросил я.— Я пробовал мышьяк и золото, фосфор, разминку, целибуху, гидротерапевгические ванны, покой, волнение, кодеин и ароматические пары нашатыря. Неужели есть еще хоть что-нибудь лекарственное?
— Где-то здесь в горах,— сказал доктор,— растет одна травка, такой цветочек, только он тебе и поможет, а больше ничего не поможет. Придется нам с тобой попотеть-поискать. Я сейчас никого особо не лечу, года не те, а за тебя, пожалуй, возьмусь. Приходи каждый день часа в два-три попо лудни, пособишь мне искать эту травку, авось, на пару найдем. Городские доктора, они, конечно, в науке своей здорово смыслят, а чего природа таскает в седельных сумках, разные всякие снадобья,— это не по их части.
И так изо дня в день мы со стариком доктором обрыскивали в поисках целительной травки горы и долы Синего Хребта. Мы вдвоем, цепляясь за каждый росточек и веточку, карабкались на скользкие кручи, эблепленные осенними листьями. Мы слезали в провалы и ущелья, по грудь утопая в лаврах и папоротниках, милю за милей пробирались вдоль горных потоков, не хуже индейцев ползком одолевали хвойные чащобы, обочины и пригорки, побережья и нагорья прочесывали мы в поисках чудодейственной травки.
Верно сказал старик доктор, что ее не больно-то сыщешь, почитай что перевелась. Но мы не падали духом. День за днем мы спускались в долины, взбирались на откосы и бродили по уступам в поисках чудодейственной травки. Он-то вырос в горах, ему все это было нипочем. А я иной раз так выбивался из сил, что дома просто валился на кровать и спал до утра. Мы проискали с месяц.
Как-то вечером я вернулся от старика доктора после шестимильной вылазки, и мы с Амариллис пошли погулять в придорожную рощицу. Мы смотрели как горы запахиваются на ночь в свои царственные пурпуры.
— Я так рада, что вы выздоровели,— сказала она.— А то когда вы приехали, я даже испугалась. Вот, думаю, болен, так уж болен.
— Выздоровел! — Я едва не сорвался на крик.— Да вы знаете, что жизнь моя висит на волоске?
Амариллис удивленно поглядела на меня.
— То есть как это,— сказала она.— Вы же крепче упряжного мула, спите по десять—двенадцать часов, а. едите столько, что как бы нам всем по миру не пойти. Чего ж вам еще надо?
— Говорю вам,— сказал я,— что если мы не успеем разыскать чудодей — ну, такой цветок, за которым мы охотимся, то мне спасенья нет. Так мне сказал доктор.
— Какой доктор?
— Доктор Тэйтем — тот старик доктор, который живет на Дубильной Горе. Вы его знаете?
— Я-то его знаю с тех пор, как из пеленок вышла. Вот, значит, куда вы ходите каждый день! Это он, стало быть, таскает вас на долгие прогулки и лазает с вами по горам, так что вы совсем выздоровели и окрепли? Ну, спасибо старику доктору.
Как раз в это время по дороге шагом проезжал старик доктор в своей развалюхе-двуколке. Я ему помахал и крикнул, что завтра обязательно приду, как обычно. Он остановил лошадь и подозвал Амариллис. Они поговорили минут пять, а я ждал в сторонке. Потом старик доктор поехал дальше.
Когда мы пришли домой, Амариллис вытащила энциклопедию и стала ее листать.
— Доктор сказал,— сообщила она мне,— как пациент вы к нему больше не приходите, а как друг — пожалуйста, в любое время.
А мне он велел найти мое имя в энциклопедии и сказать вам, что оно значит Оказывается, это название дикорастущего цветка и еще имя пастушки у Теокрита и Виргилия. Ну, и что из этого?
— Я знаю, что из этого,— сказал я.— Теперь все понятно.
Словечко к собрату-неврастенику, ко всякому, кого приворожит неуемная Мадам Неврастения.
Предписание-то было правильное. Городские врачи в своих каменных узилищах, хоть и ощупью, но отыскали нужное лечение.
Насчет разминки обращайтесь к доброму доктору Тэйтему с Дубильной Горы, вправо от методистской молельни, что в сосновой рощице.
Абсолютный покой и непрестанная разминка!
А что может быть спокойнее и целительнее, чем сидеть с Амариллис в тени и шестым чувством внимать безмолвной теокритовой идиллии: Синие горы с золотыми знаменами строем шествуют в чертоги ночи.
Перевел В. МУРАВЬЕВ