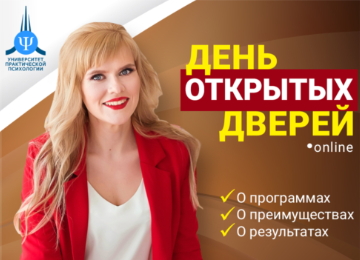- Книги
- Заводной апельсин
Заводной апельсин
Anthony Burgess "A clockwork Orange"
перевод Евгений СИНЕЛЬЩИКОВ
журнал "Юность" No 3,4 1991
Журнальный вариант
OCR: Павел Пимнев
От переводчика
Одного из самых талантливых и оригинальных английских писателей — Энтони Берджеса — по праву считают продолжателем футуристических традиций Джорджа Оруэлла. "Заводной апельсин" — по которому известный американский режиссер Стенли Кубрик поставил один из самых знаменитых фильмов мирового кинематографа с великолепным Малколмом Макдауэллом в роли циничного и жестокого антигероя Алекса, — это многоплановое произведение, сочетающее и философско-этический трактат, и притчу-аллегорию, и пронизанную черным юмором фантасмагорию, и едкую сатиру на современное тоталитарное общество, стремящееся с помощью античеловечной методики превратить молодое поколение в корзину послушных "механических апельсинов", которыми можно манипулировать по своему усмотрению (что мы и наблюдали в действиях хунвейбинов, красных бригад, красных кхмеров, неофашистов и т. п.). Да и у нас в стране костяк любых экстремистских движений и выступлений составляют юнцы, которыми манипулируют иные, более серьезные силы. Действие "Заводного апельсина" происходит на рубеже нового тысячелетия. Тридцать лет назад Берджес предугадал и мастерски отразил многие процессы, происходящие в нашем современном обществе, и не только в молодежной среде. Аналогии настолько очевидны, что это и определило мой подход к переводу. Подобно Берджесу, кстати, пришедшему в литературу из мира музыки и создавшему новый язык молодежи будущего, в структуре которого, по мнению автора, должны были преобладать славяно-цыганские корни, я попытался передать "надсадский" язык русских тинэйджеров — смесь молодежных сленгов 60-х — конца 80-х годов, где доминируют словечки английского происхождения (что, кстати, является устойчивой тенденцией происходящего в нашем обществе языкового развития). Это явилось неизмеримо более трудной задачей. О том, как я справился с ней, судить читателю. Эту работу я обращаю "потерянному поколению" последней (?) перестройки.
Заводной апельсин
"Скучна-а-а! Хочется выть. Чего бы такого сделать?"
Это — я, Алекс, а вон те три ублюдка — мои фрэнды*: Пит, Джорджи (он же Джоша) и Кир (Кирилла-дебила).
Мы сидим в молочном баре "Коровяка", дринкинг, и токинг, и тин-кинг, что бы такое отмочить, чтобы этот прекрасный морозный вечер не пропал даром. "Коровяка" — место обычной нашей тусовки — плейс как плейс, не хуже и не лучше любого другого. Как и везде, здесь серв обалденное синтетическое молоко, насыщенное незаметным белым порошком, который менты и разные там умники из контрольно-инспекционных комиссий никогда не распознают как дурик, если только сами не попробуют. Но они предпочитают вискарь-водяру под одеялом…
Фирменный коровий напиток поистине хорош. После каждой дозы минут пятнадцать видишь небо в алмазах, на котором трахается Бог со своими ангелами, а святые дерутся, решая, кто из них сегодня будет девой Марией…
Я и мои фрэнды как раз заканчиваем по четвертой поршн. Покеты у нас полны мани, так что отпадает наш обычный эмьюзмент трахнуть по хэду или подрезать какого-нибудь папика и уотч, как он будет свимать в луже собственной блад и юрин, пока мы чистим его карманы. Не надо также пэй визит какой-нибудь старухе еврейке в ее шопе и сажать ее верхом на кассу, выгребая у нее на глазах дневную выручку.
Но! Как говорится, мани не главное. Хочется чего-нибудь для души.
Весь мой кодляк дресст по последней фэшн — в черных, облегающих, как вторая кожа, багги-уош. Приталенные куртецы без сливзов, но с огромными накладными шоулдерами почти вдвое увеличивают размах наших далеко не хилых плеч. А маховики у нас что надо, особенно у Кира — так природа компенсировала недостаток ума у этого сучьего потроха. У всех на ногах тяжелые армейские кованые бутсы — незаменимая вещь в файтинге.
— Скучна-а-а! — зевает Джоша, обводя глазами завсегдатаев "Коровяки".
Около стойки на вращающихся стульчаках сидят три герлы, но нас четверо, а закон стаи суров: ван фор ол, и все за одного. Так что этот вариант отпадает. Хотя жаль пропускать такой товарняк. Все герлы в потрясных прикидах, в розово-зелено-оранжевых париках, для покупки которых им наверняка пришлось горбатиться две-три недели. Их фейсы ярко накрашены. Рот, щеки, радуги вокруг глаз с длиннющими наклеенными ресницами. На них черные блестящие прямые платья, едва прикрывающие пуковые отверстия.
Стерео истерично орет. Педерастический голос певца шарахается из угла в угол, отскакивая от стен, как вырвавшаяся из ствола пуля. Осточертевший вой рок-стара Берти Ласки плюет в зал слова последнего хита "Падший ангел". Одна из очаровах у стойки — в клевом зеленом парике— выпячивает и втягивает живот в такт музыке.
Я чувствую, как скрытые в молоке иголки начинают покалывать где-то внизу в штанах. Вскакиваю и ору: "Камон, камон, камон!" Потом, сам не знаю зачем, двигаю в ухо выпавшему в осадок мэну рядом, но он этого даже не замечает, продолжая бормотать. Ничего, он почувствует сломанную барабанную перепонку, когда вернется из дальних странствий.
— Куда камон? — очнулся Джоша.
— Все равно куда. На воздух. Лишь бы не видеть эти омерзительные рожи. Прошвырнемся, фрэнды. Проветримся и поглядим, кто там, с кем и почем.
Мы высыпаем из бара в огромную зимнюю ночь и плывем по бульвару Марганита, где очень скоро находим то, что может развеять скуку. Навстречу нам порхает какой-то олд мэн, похожий на больного попугая, только в очках и со стопкой книг под мышкой. В другой руке у него старый черный зонт. По-видимому, он возвращается из публичной библиотеки, в которую в наше тайм ходят только такие придурки, как учителя. В моем славном тауне немногие отваживаются выйти из дома с наступлением сумерек: полиции мало, а расхлябаев вроде нас вполне достаточно.
Мы подгребаем к нашему "профессору", и я очень так вежливо говорю: "Икскьюз ми, сэр".
Очнувшись от своих умных мыслей, он пугливо луке эт ас четверых, тихих, вежливых, улыбающихся, и вопрошает громким учительским голосом: "Да? Что вы хотите?" И еще так нагло смотрит, будто вовсе не испугался.
— Я вижу у вас книги, сэр? — по-прежнему вежливо аск я. — В наше время редко встретишь читающего человека.
— О, да что вы говорите! — отвечает он, дрожа всем своим тщедушным тельцем и подозрительно перебегая взглядом с одного на другого.
— В самом деле, проф, не будете ли вы так любезны показать мне книги, которые теперь выдают в библио? Так приятно держать в руках чистую, новую книгу с хрустящими страницами.
— Чистую… хм… чистую? — не понимает тичер, и в эту минуту подкравшийся сзади Пит выхватывает три толстенные книги у него из-под мышки и протягивает мне.
Я быстро распределяю их между всеми, кроме Кира. Мне достались "Основы кристаллографии". Открываю этот гроссбук и нарочито медленно перелистываю страницы. Затем, сделав вид, что внимательно вглядываюсь в строчки, с наигранным возмущением произношу:
— Нет, вы только посмотрите! Какую похабщину пишут в этих умных книжках. Вы вогнали меня в краску, профессор, и очень-очень разочаровали.
— Но… но… позвольте, — верещит он. — Что это такое вы…
— Ты взгляни на мою, — вступает Джоша. — Да здесь что ни слово, то мат. Вот, посмотри. — Он протягивает раскрытую "Чудесные превращения Снежинки". — Тут и на "х", и на "п".
— Сплошная порнография, — подтверждает Кир, заглядывая ему через плечо. — Здесь написано, в каких позах он ее трахал, да еще и рисунки приложены. Нет, сэр, определенно вы старый извращенец.
— Ну как не стыдно! Такой представительный пожилой человек… — укоризненно говорю я и принимаюсь методично вырывать листы из книги и подбрасывать их в воздух.
Кир следует моему примеру, помогая Питу потрошить толстый том "Начертательной геометрии".
Профессор взвивается, будто гусак, из которого живьем начали выдергивать перья:
— Что вы делаете? Ведь эти книги не мои,- Это собственность муниципалитета. Какое варварство! Какой вандализм!
Кир расценивает незнакомые слова как ругательства и несильно битс верещащего тичера кулаком по голове. Тот совсем осатанел и пытается отобрать букс. Со стороны это выглядит очень трогательно.
— Нет, тебя необходимо проучить, старый перечник, — беззлобно говорю я.
Эта бук по кристаллографии сделана капитально еще в те времена, когда вещи были не одноразовыми, а длительного пользования. Толстый переплет, намертво держащий страницы, долго не поддается ножу, но в конце концов мне удается его раздербанить, и теперь страницы летают в воздухе, как огромные белые снежинки. Среди этого листопада мечется тичер, преследуемый бешено хохочущим Киром. Пит и Джоша также справились со своими буками и швыряют в воздух целые охапки книжных листов.
— Вот, получай, старый похабник, — весело рыгочут они.
Тичер пытается слабо сопротивляться, и тогда я говорю:
— До этого извращенца еще не дошло, други. Вот уж мне интеллигенция. Еще шляпу надел.
Тут Пит схватил трясущегося тичера за хэндз и заломил их бэк. Дебила резко дернул за поля шляпы и с треском надел на шею. Потом двинул ему в зубы. Джоша сорвал с тичера очки, примерил их, бросил на тротуар и станцевал на них танец маленьких лебедей, только вместо пуантов на нем были тяжелые солдатские бутсы. Проф было что-то зашипел беззубым ртом, но Пит ткнул пару раз в его блади хоул. Тичер застонал. Изо рта у него пошла красивая алая блад. Она стекала на его белую шерт и траузерз. Это было великолепное зрелище!
Наконец нам это надоело. Разрезав тичерз дресс на куски, мы разбросали его по всей стрит, измочалили амбреллу об асфальт и, пнув учителя по разу на прощание, пошли дальше, не обращая внимания на его лауд стонинг (кричать у него уже не было сил).
На авеню Потерянных мы зашли в какую-то общественную столовую, где несколько беззубых старух, расплескивая, ели свой благотворительный суп. Теперь мы были пай-мальчики, учтивые, улыбающиеся, благовоспитанные. Но почему-то эти старые курицы задрожали и испуганно закудахтали при виде нас. Подошел разносчик — тощий, нервный гай — и подозрительно стэед на нас. Мы заказали ему фор поршнз "Олд ветеранз" — популярного в те времена коктейля из рома, шерри брэнди и лайм джуса. Потом я добавил:
— И принеси этим Божьим одуванчикам не свинячье пойло, а что-нибудь действительно питательное. А то сдохнут от вашей благотворительности прямо тут, в твоем гадючнике.
С этими словами я выгреб из одного кармана несколько смятых бумажек и плюхнул их на тэйбл. Остальные последовали моему примеру. Вскоре старухам принесли тушеное мясо с пюре и опять же нежными стьюд веджетэблз и по банке биэр. Старые птицы послали нам очаровательнейшие смайлзы и благодарно закивали, тряся космами.
И тут на нас словно что-то нашло. Мы принялись грести с прилавка все что попало: коньяк "Генерал-янки", печенье, шоколод, чиз, хэм, средства от моли и тараканов и засыпать этим наших милых грэнниз. Избавившись таким образом от маней, мы весело подмигнули нашим чаровницам и сказали, что скоро вернемся. "Спасибо, мальчики. Да благословит вас Господь!" — хором ответили те.
Гурьбой мы вышли на Эттли-стрит, где полно кондеряшек и злопухолевых шопс, которые мы не посещали уже месяца три. Сейчас здесь было очень тихо. Копполы со своими патрульными карами передислоцировались дальше за реку, где орудовала банда Билли-боя.
Мы надели недавно приобретенные маски (попотрошили на прошлой неделе один шоп с театральными атрибутами) и превратились в исторических персонажей. Я перевоплотился в Дизраэли, Пит— в Элвиса Пресли, Джоша — в Генриха VIII, а старина Кир — в несчастного поэта Пи Би Шелли. Масочки действительно были клевые — из тонкой резины, с натуральными волосами и прочей растительностью. И очень удобные. По завершении дела их можно было свернуть и засунуть в бутсы. Трое вошли в магазин, а Пит на всякий случай остался на стреме. Увидев в своем магазине столь необычных персонажей, хозяин, мистер Слаус с толстым кувшинным рылом, метнулся в подсобку, где стоял телефон, а может быть, была спрятана и пушка. Кир молниеносно перемахнул через каунтер и, перехватив его в дверях, сцепился с ним, взяв на кумпол. Они покатились между стеллажами со всевозможными банками, опрокидывая их и поднимая невообразимый нойз. Некоторое время из-за прилавка доносилось ожесточенное пыхтение и сопение, потом звон разбитой о чью-то хэд боттл, вскрик… и шум борьбы стих. Киру удалось выщемить дюжего Слауса. Из-за каунтера поднялся смущенный Дебила, поправляя сбившуюся маску. Матушка Слаус, с полной пазухой грудей, застыла за кассой каменной бабой. Я понял, что еще секунда, и она заорет почище полицейской сирены. Поэтому со словами: "Долбаная тетя, как ты постарела", — я подпрыгнул к ней и зажал одной рукой рот, а другую запустил за пазуху, где через декольте виднелись аппетитные бубз. Она была такая пышная, мягкая, и от нее так вкусно пахло французскими духами, что моя пятая конечность пламенно затрепетала, и я потек. Но тут стерва впилась зубами в мою ладонь, и я взвыл от боли, как раненная в задницу рысь. Когда я инстинктивно отдернул руку, мадам Слаус завопила таким густым басом, на который через пару минут могли сбежаться все копполы округи. Пришлось срочно заткнуть фонтан, для чего я засунул ей в пасть полбатона колбасы и для верности стукнул по хэду ломиком для открывания ящиков, помяв изысканную причу. Из рассеченного лба хлынула блад, как из резаной свиньи. Она без сознания рухнула на пол, и пока я выгребал кассу, Джоша умудрился задрать ей платье на голову и сделать внутренний массаж. Подлец опередил меня. Я с сожалением посмотрел на ее красивые голые груди, а потом решил, что еще не вечер.
Надо было рвать когти. Прихватив по паре блоков первоклассных злопухолей, мы вышли в морозную ночь.
Из экспроприированных злопухолей мы оставили себе по две пачки, а остальные подбросили в ближайшую ночлежку.
— Ну и здоровый же жлоб этот Слаус, — посетовал Кир.
Я посмотрел на него. Его видуха мне не понравилась: он выглядел так, будто только что вылез из файтинга, что, собственно говоря, соответствовало действительности. Но мы должны были смотреться как ни в чем не бывало. Поэтому мы зашли в боковую аллею и привели его в порядок. Спрятали маски и вскоре вышли на Дьюк оф Нью-Йорк. Сверившись с часами, я удовлетворенно отметил, что отсутствовали мы всего десять минут.
Наши барабульки сидели на прежнем месте и с вожделением потягивали пиво из банок, обнимая незанятыми хэндзами наши презенты.
Мы плюхнулись за тэйбл и позвонили в колокольчик. Появился уэйтер, и мы на этот раз заказали пиво с ромом.
— Мы никуда не отлучались, бабули. Ведь так? Понятливые ведьмы согласно закивали трясущимися головами.
— Точно так, мальчики. Вы только выходили пописать, а так все время были тут.
Это была лишь необходимая подстраховка. Копполы расчухались почти через полчаса. Два розовощеких первогодка, которых мы, возможно, когда-то метелили, шумно завалили в столовку и подозрительно уставились на нас из-под своих полицейских шлемов с поднятыми забралами.
— Вы ничего не слышали о том, что произошло в лавке Слауса?
— Мы? — состроил я самую невинную рожу. — А что, собственно говоря, мы должны были слышать?
— Разбойное ограбление и изнасилование. Слауса с женой увезли в госпиталь. Что вы делали последний час?
— Во-первых, сбавь тон, приятель, — нахально произнес я. — И не оскорбляй порядочных людей своими гнусными подозрениями.
— Они весь вечер сидели здесь, — наперебой заверещали старушенции. —' Такие щедрые, благовоспитанные ребята. В наши дни таких редко встретишь.
— Мы просто спросили, — угрюмо произнес один из забрал. — У каждого своя работа…
Окинув нас тяжелыми, недоверчивыми взглядами, блюстители вышли, а Пит с Джошем сделали им вслед интернациональный крэнкшафт моушн джесче, энергично ударив правой рукой по середине вытянутой левой. Но мне почему-то стало грустно. Ни одного стоящего противника! Однако ночь только начиналась.
На муниципальной подстанции мы натолкнулись на кодлу Билли-боя. Их было шестеро, но нас это не колыхало. В те времена все ходили стаями по четыре-шесть человек—столько помещалось в кары. Лишь изредка мы объединялись в большие банды для ночных файтингов уолл на уолл.
Они заметили нас, так же, как и мы их. Вот это будет настоящий дратсинг—с ножами, кастетами, цепями и бритвами. Я приятно осклабился, и мы обменялись традиционными любезностями:
— Чесать мой лысый череп, Билли, сучий выкидыш, ты ли это?
— Алекс, какие люди, и без охраны! Рад тебя видеть без петли на шее.
Ну и дальше в этом роде. Ритуал был окончен, и началось!
Мне никак не удавалось достать жирняка Билли. Я пританцовывал вокруг него с бритвой в руке, словно парикмахер вокруг клиента на палубе корабля в штормовую ночь. У Билли-боя был длинный, узкий стилет, который он держал в вытянутой руке, не давая мне приблизиться. Но он был слишком медлительным для меня, и, когда он устал, я начал его "брить". Вы не представляете, что за наслаждение полоснуть сначала по одной жирной щеке, потом по другой! Когда я вырезал букву "X" ему на лбу, хлынувшая кровь застлала его глаза, и он вконец потерял ориентацию. Принялся метаться, как ослепленный бык, наугад тыча своим бесполезным ножом.
В это время раздался отдаленный вой полицейских сирен. Встреча с коппами в наши планы не входила, и мы рванули в другую сторону. Шмыгнув в темную проходную аллею, мы отдышались. Вскоре мы оказались на Пристли-сквэйр, где стоял загаженный голубями бронзовый памятник старому поэту с челюстью питекантропа и трубкой в зубах. Направляясь на север, мы набрели на старый фильмодром, на котором стояло десятка три тачек, там тискались, трахались и поддавали такие же, как и мы, герлы и бои. Большинство машин были старые, но Пит откопал где-то вполне приличный "Дьюранго" 95-го года, владельцы коего, видно, недобрав, отправились громить ближайший шоп. У Джоша был первоклассный набор отмычек, и вскоре мы уже рассекали пустынные городские улицы.
За городом было гораздо темнее. Приближался коронный номер нашей программы: неожиданный визитинг одного из пригородных коттеджей.
Мы остановились на краю какой-то деревни, у одинокого бунгало, окруженного аккуратным садиком. Всеми овладел дикий иксайтмент. Видно, так на нас действовала ухмылявшаяся во все свое бледное лицо луна. В ее свете коттедж был как на ладони. Мы даже прочитали надпись на воротах: "НАШ ДОМ". Она показалась нам очень смешной, и мы безумно ржали. Я вылез из тачки, приказав моим парням захлопнуть хлебала. Тихонько открыл калитку и подошел к входной двери. Вежливо постучал, но никто не откликнулся. Постучал сильнее, и на этот раз за дверью послышались приближающиеся шаги. Щелкнул замок, дверь приоткрылась, и в щель на меня вопросительно взглянул чей-то глаз.
— Да? Кто там?
Войс был молодой, звонкий, веселый. Несомненно, он принадлежал найсовой герле. Учтиво, голосом джентльмена я просительно произнес:
— Пардон, мадам. Мне, право, очень неловко вас беспокоить в столь поздний час, но мы с подругой любовались прекрасной луной в ваших живописнейших окрестностях, и ей вдруг стало плохо. Что-то схватило в боку. Вероятно, аппендицит. Бедняжка там, у дороги, стонет и корчится от боли. Не позволите ли вы воспользоваться вашим телефоном, чтобы вызвать "Скорую помощь"?
— Но у нас нет телефона, — ответила герла. — Очень сожалею, но вам придется обратиться к кому-нибудь другому.
Откуда-то из глубины хауза доносилось мерное "клак-лак-тук-тук-клак-клак-тук-тук". Какой-то дятел печатай на машинке. Вот он перестал печатать, и раздался сильный мужской голос: "Кто там, дорогая?.."
—Очень жаль, милая леди. Ну, тогда хотя бы стакан воды человеку, попавшему в беду. Видите ли, бедняжка в Полуобморочном состоянии. Такой сильный приступ прямо не знаю, что делать.
— Воды — это можно, — согласилась девушка весело и сострадательно одновременно. — Подождите минуточку.
Она удалилась, однако цепочку, стервоза, не сняла. Да теперь ЭТРО было и не нужно. Вообще эти цепочки не от воров, а от хозяев. Просунув руку в щель, я легко снял ее, и мы все четверо просочились в прихожую. Что ж, это была ее ошибка. Надо закрывать дверь перед незнакомыми людьми, появляющимися посреди ночи.
Мы шумно ввалились в уютную, со вкусом обставленную гостиную и принялись скакать, и орать гадости, и визжать, и улюлюкать, как индейцы племени "кокоморо". При виде незваных гостей девочка сделала ярко накрашенный ротик буквой "О", а молодой мэн в роговых глассиз поднял голову от тайпрайтера и недоуменно взглянул на нас. По всему столу перед ним были разбросаны шитсы пейпера. Справа от тай-пера они были сложены в аккуратный колон. В тот вечер нам везло на интеллигентных мэнов. Этот тоже был книжным червем, возможно, даже писателем. Он невозмутимо произнес:
— В чем дело? Кто вы такие и почему врываетесь в мой дом без разрешения?
Однако его войс и хэндз заметно дрожали.
— Не боись! Смирись, презренный, и склони главу пред тем, что уготовила тебе судьба.
Джоша и Пит пошли пошуровать в кичене, а Кир остался стоять рядом со мной, ожидая приказаний, широко раскрыв варежку.
— А это что? — аск я, указав пальцем на стопку бумаги у тайпрайтера.
Очкастый хорек с негодованием риспондид:
— Именно это мне и хотелось бы знать. Что это такое? Чего вы от нас хотите? Вон отсюда, пока я тебя не вышвырнул.
— Гы-гы-гы! — загоготал Дебила в маске Пи Би Шелли.
— Ах, это книга! — понимающе проговорил я. — Ты пишешь книгу. Уважаю писак и писух.
Взяв верхний лист, я прочитал название: "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН".
— Ну и нудак! Глупее ничего не мог придумать? Разве бывают заводные апельсины?
Потом прочитал вслух торжественно-загробным войсом:
"…против попыток насильственного придания Человеку, прекрасному творению Господа Бога, венцу Вселенной, призванному творить Добро, свойств механической куклы и создания условий и законов, ведущих к этому, я возвышаю свой голос..""
Кир поднял ногу и громко выдал "поцелуйчик для любимой". Я же со смехом принялся рвать листы этой очередной глупости и разбрасывать обрывки по всей комнате. При виде этого райтер буквально осатанел и бросился на меня, стиснув тис и сжав фистс. Но тут вступил Кир. Из-за малого пространства его цепь была бесполезна, да для такого хлюпика с узкими плечами и раздавшимся от долгого сидения геморройным задом она и не требовалась. Он встретил его несколькими точными ударами кастета, в одно мгновение превратив фейс писателя в сплошное месиво. Хлынувшая из него кровь забрызгала ему рубашку, ковер, листы на столе, и он вырубился, ткнувшись носом в свой дурацкий "АПЕЛЬСИН", обнимая ее, как единственного чайлда.
Его верная красивая, стройная жена, казалось, присохла к камину, в ужасе зажав рот рукой и вытаращив глаза, которые у нее были синие-синие. Потом бросилась к поверженному мужу.
В этот момент из кухни подгребли Джоша и Пит. Они что-то чавкали, не снимая масок. В одной руке Джоша держал индюшиную ногу, а в другой — заиндевелую банку пива.
— Кончай жрать! — приказал я. — Лучше приведи в чувство этого интеллигентика. Да подержи его, чтобы не рыпался. Преподадим ему урок из реальной жизни.
Пит подошел к писателю и медленно вылил на его умную голову ледяное пиво из банки. Тот встрепенулся, силясь что-то рассмотреть через разбитые очки. Пит задрал его голову, грубо схватив за волосы.
— 0'кей, Кир. Теперь примемся за маленькую миссис. Видишь, как она расстроилась. Надо ее успокоить.
Дебила заломил герлины руки, а я, подойдя спереди, рванул ее белую атласную кофточку и чуть не поперхнулся от слюноотделения — красивые, налитые титс уставились на меня розовыми глазищами сосков. Я завалил ее на спину и, несмотря на ее жалобные крики и бешеное сопротивление, сделал с ней старое как мир "туда-сюда". Озверевший райтер чуть было не вырвался из рук намертво державших его Джоша и Пита. Он извергал на наши головы такие проклятия, которых я никогда и не слышал, хотя я и не интеллигент.
Потом по очереди то же самое проделали Кир, Пит и Джоша, пыхтя, сопя и повизгивая от возбуждения. Сопротивления Джоше она уже не оказывала. Только тихонько всхлипывала, глядя в сторону и до крови закусив губу. Трепыхавшегося райтера опять пришлось выщемить, ударив пару раз головой о тайпер. Затем мы исполнили победную пляску, круша и ломая все, что попадалось под руку. Хотели поджечь бунгало, но я приказал отставить. Пусть живут, если смогут, и спустятся наконец с небес на грешную землю.
Выпив по банке пива из холодильника, мы запрыгнули в кар и помчались обратно в наши джунгли, давя по дороге все живое, что попадалось под колеса.
На драйве к городу, недалеко от Индустриального канала, в котором плавали грязь, кал и дохлые животные, мотор вдруг закашлял, зачихал и сдох. Но нас это мало чесало: впереди виднелась станция подземки. Нужно было решить, что делать с каром: оставить его копполам или же отправить на дно канала. Все сошлись на последнем. Со смехом мы разогнали машину, и ее прощальное "бултых" поставило точку с запятой в сегодняшнем вечере. До центра была всего одна остановка. Мне с трудом удалось утихомирить моих разошедшихся фрэндов. Я уплатил положенную фэер, и мы подождали электропоезд, на всякий случай приклеив на фейсы выражения смирения и благовоспитанности. Правда, пока я покупал билеты, Кир умудрился раздолбать пару автоматов, так что теперь его карманы были набиты мелочью и шоколадными батончиками, которые он собирался раздать униженным и оскорбленным. Но таковых поблизости не оказалось. В вагоне дремали с десяток лохов, и чтобы как-то убить время (целые три минуты!), мы порезали и выпотрошили сиденья, а старина Кир, упражняясь с цепью, высадил окно.
Выйдя в центре, мы не спеша направились в нашу "Коровяку".
Публика в "Коровяке" в основном была представлена тинэйджерами, или, как мы сами себя называли, надсадами. Но было также и несколько более пожилых завсегдатаев, мэн и уимен (только не буржуев, их мы терпеть не могли). Кругом смеялись, пели, громко говорили, стараясь перекричать шум и гам. За отдельным тэйблом сидела инородная группа актеров и статистов, репетировавших какое-то шоу на расположенной за углом телестудии. Мое внимание привлекла находившаяся среди них потрясная герла с плотоядным накрашенным ртом и множеством белых, как подававшееся здесь молоко, зубов (мне показалось, что они растут у нее в четыре ряда). Она беззаботно хохотала, будто в этом безумном, безумном, безумном мире все ей было до лампочки. Джонни Живаго, один из кумиров надсадов русского происхождения, кончил (вместе с несколькими надсадками) вонючий шлягер "Только через день". Вдруг моя герла решительно встала и в наступившей тишине запела, как бы что-то доказывая своим фрэндам за тэйблом. Как она пела! Вы не поверите, но мне показалось, что в нашу грязную, вонючую стекляшку вдруг залетела Синяя птица. У меня по всему телу побежали мурашки. Дыхание перехватило, запершило в горле и защипало в глазах. Я узнал, что она поет. Это была ария из оперы Фридриха Гиттерфенстера "Дас Беттцейг". Как раз то место, когда она поет с перерезанным' горлом, сердцем произнося: "Вот теперь я наконец счастлива…" Как бы то ни было, я буквально оцепенел.
Но в этот момент стинкинг кретин Кир отпустил в ее адрес грязное ругательство, которое я не осмеливаюсь привести здесь, стараясь изложить все произошедшее со мной чистым надсадским языком.
Дурак испортил песню, и я страйкнул фистом прямо по его паскудной пасти. Он обалдело лукт эт ми, не понимая, в чем дело, механически вытирая кровь с губы.
— Зачем ты это сделал? — недоуменно спросил он.
— За твои скотские манеры. Чтобы ты научился вести себя на публике.
— Не понял, — тупо произнес он. — Но мне это очень не понравилось. Никогда больше так не делай. Отныне я тебе не фрэнд и не бразер.
С этими словами он вытащил из кармана огромный платок третьей свежести и озадаченно принялся промакивать кровоточащую губу, как будто исходить кровью всегда должны были другие, но никак не он.
Герла не услышала Дебиловой грубости. Она кончила петь и уже опять весело хохотала с фрэндами. Кир оскорбил не ее, а меня. И я сказал с глухим раздражением:
— Если не нравится, больше никогда этого не делай. А если сделаешь, я тебя выключу.
Слышавший наш разговор Джоша примирительно произнес:
— Завязывайте, братья. Вы что, двинулись?
— Это немного отрезвит Кира. Совсем оборзел. Пора ему уже взрослеть.
Я пристально посмотрел в глаза Джоше. Киру удалось остановить кровь, и он обиженно пробубнил:
— Какое, собственно говоря, он имеет право приказывать нам, а теперь еще и драться? Я не я, если не высажу ему глаза цепью при первом удобном случае.
— Нет, ты определенно хочешь, чтобы я пощекотал твой ливер, — угрожающе процедил я.
— Вы что, сдвинулись с горя? Мы дружбаны или не дружбаны? — философски изрек Пит. — Вон над нами уже смеются.
— Кир должен знать свое место и не высовываться, когда его не просят, — упрямо повторил я.
— Это что-то новое, — недобро проговорил Джоша. — Интересно, кто это определяет место каждого? Его поддержал Пит:
— Сказать по правде, Алкаша, тебе не следовало кидаться на своих фрэндов. Ты обидел Кира несправедливо. Если бы это было со мной, я бы тоже не стерпел. Запомни это и в следующий раз подумай, прежде чем начинать свару. Я все сказал… И он уткнулся в свой стакан. У меня все кипело внутри, но я подавил страстное желание дать этому умнику по рогам и рассудительно произнес:
— В каждой стае должен быть вожак, должна быть дисциплина. Или я не прав?
Все сидели с прокисшими рожами и молчали. Даже головой ни один не кивнул. Мое внутреннее раздражение нарастало, но внешне я оставался спокойным и благоразумным.
— Я был вашим главарем довольно долго, и со мной вы ни разу не вляпались в неприятность. Я прав или не прав? Какого дьявола молчите? Или у вас языки в задницу затянуло?
Они нехотя кивнули. Все, кроме Кира. Он последний раз промокнул губу, спрятал утирку и неожиданно миролюбиво сказал:
— Прав, Алекс, прав. Успокойся. Мы просто таэд э бит. Не будем больше об этом.
Я страшно удивился и даже слегка испугался, услышав такие мудрые вещи от Дебилы. Он же продолжал:
— Сейчас самое лучшее — это откинуть копыта и поглядеть, чегой там делается на том свете. Минут эдак шестьсот. Ну что, други, по хаузам?
Мы разбежались в разные стороны.
Я направился к муниципальному кварталу 18А, зажатому между Кингсли-авеню и Вилсонзвэй, где жил со своими фазером и мазером. До входа в мрачное коммунальное здание я добрался без приключений, хотя то и дело ощупывал каттер в кармане на случай, если друганы Билли-боя поджидают меня где-нибудь в темном переулке. Уже подходя к дому, я увидал в канаве стонущего и корчащегося приличного мальчика и пропитанные кровью остатки нижнего белья его девочки, которую утащили куда-то дальше. О времена, о нравы! Вздохнув, я вошел в просторный подъезд. Его стены были покрыты оптимистической живописью: абсолютно голые мужчины в трудовом экстазе за станками, машинами, компьютерами. Конечно, местные "художники" внесли свою лепту в эти замечательные шедевры постиндустриального искусства, пририсовав им добротные, волосатые приви парте в стоячем состоянии и снабдив их ядреными надписями на надсаде, которые я не осмеливаюсь здесь приводить, дабы не оскорблять утонченный слух моих читателей.
Одного взгляда на расписанный в такой же манере лифт было достаточно, чтобы понять, что он не пашет. Какой-то ужасно сильный гай (сколь сильный, столь и дурной) так саданул, ногой (лучше б головой) по двери, что ее заклинило намертво. Пришлось топать на десятый этаж он фут. Ох, найти бы этого подонка!
Я открыл дверь квартиры 10-8 своим ключом. В квартире было тихо. Предки пребывали в сонном царстве. На кухне мом оставила для меня ужин—-, несколько сдайсов консервированного пористого копченого мяса, хлеб, масло и стакан молока. Старого доброго молока без притаившихся в нем иголок, син-тезметика и дренкрома. Все же каким злым может быть невинное белое молоко! Я поел, сначала нехотя, потом с жадностью, Еще достал из брэдницы фруктовый пай и заглотил его весь без остатка. Набив брюхо, направился в свою комнату, сбрасывая на ходу дресс.
Моя берлога стоила того, чтобы на нее посмотреть. В углу рядом с лежкой стояла современнейшая стереосистема — предмет моей особой гордости и источник неземного наслаждения. На навесных полках помещались тщательно подобранные диски, на стенах были развешаны флаги и вымпелы всевозможных калибров и портреты любимых певцов и героев видеофильмов в откровенных позах и позициях. В специальном шкафчике стояли сувениры моей жизни в разных исправительных колониях (впервые я попал туда, когда мне не было одиннадцати).
По всем углам моей рум были развешаны динамики. Они были также на стенах, на потолке, на полу. Когда я ложился на свою бед и слушал потрясный музон, то как бы оказывался посередине оркестра. Музыка обволакивала меня словно паутиной, проникая в каждую клетку моего существа; Сейчас мне захотелось послушать скрипичный концерт, исполняемый божественным Одиссеем Коэрилосом в сопровождении филармонического оркестра Мейкона, штат Джорджия. Благоговейно я взял пластинку с полки, поставил на аппарат и погрузился в чудесный мир музыки.
Постепенно на меня снизошла благодать. Музыка подхватила и понесла меня, нагого, через потолок, крышу убогого жилища в бездну мироздания. Я — осязаемо чувствовал каждый звук, мог потрогать его рукой, поиграть с ним, как с бабочкой. Под кроватью звучала сочная медь тромбонов, золото труб лилось с потолка, переворачивая все мое нутро. И, о чудо из чудес, на воздушном корабле приплыли волшебные звуки солирующей скрипки. Казалось, что смычок пронзает мое сердце, путешествует по моим обнаженным нервам, извлекая целительный бальзам, который умиротворяет, обволакивает, подобно материнской плаценте, мое лишенное кожи тело…
Приученные предки не осмеливались стучать в стену моей рум. Пусть примут снотворное, если я им мешаю. Поистине, я всегда тащился от подобной музыки получше, чем от любого синтезметика. Я чувствовал себя как в раю, и мне чудилось, будто я разговариваю с самим Господом Богом. В такие мгновения меня окружали фантасмагорические картинки. Кругом были мужчины и женщины в белых одеждах, молодые и старые, здоровые и немощные. Они падали ниц, моля о пощаде. Я смеялся и крушил их лица армейскими бутсами. И еще были молоденькие девушки с полными грудями, и я набрасывался на них, как голодный зверь, рвал их сладкое тело и насиловал, насиловал… Музыка достигла своего апогея, и я тоже. Я дико орал, брызгал слюной, стонал, кричал, вопил. Я кончил с последними звуками скрипки. После этого поставил "Юпитера" божественного Моцарта, и с ним вновь появились лица, которые необходимо было сокрушить. На закуску я оставил старого, сильного, энергично-торжественного Иоганна Себастьяна Баха, музыка которого всегда восстанавливала мои физические силы и душевное равновесие. "Бранденбургский концерт". При его звуках перед глазами почему-то всплыла глупая надпись над воротами коттеджа — "НАШ ДОМ". Потом белый лист бумаги с крупно выведенным заглавием "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН". Сейчас, когда я слушал Баха И. С., до меня начал доходить скрытый смысл этого странного названия. Но постигну ли я его когда-нибудь до конца?
Утром я проснулся ровно в, восемь, чувствуя себя препохабнейше. Никак не удавалось продрать глаза, и я решил отдохнуть сегодня от скул, по крайней мере первую половину дня. Поваляюсь часок-другой, потом встану, приму душ, положу что-нибудь на зуб, послушаю радио, а может быть, даже посмотрю, что там брешут в ньюспейперах. Днем, если будет настроение, заскочу в наш дурдом, где нам забивают баки всякой ненужной чушью.
Сквозь полудрему я слышал, как ворчит мой дад, собираясь на пахоту в свою вонючую красильную мастерскую. Потом раздался осторожный голос момми, которая зауважала меня теперь, когда я вырос большим и сильным.
— Уже восемь, санни. Вставай, если не хочешь опять опоздать в школу.
— У меня чего-то голова раскалывается. Пожалуй, высплю боль часок, а там будет видно. Мом грустно вздохнула и покорно сказала:
— Твой завтрак в плите, сын. Ну, я пошла. Все правильно. С работы не сачканешь, даже если твой ребенок вот-вот зажмурится, —- мигом вышибут. Мом горбатилась в супермаркете "Стейтсмарт", с утра до вечера расставляя по полкам банки с консервированными супами, бобами, салями, хэмом и другой отравой. Я слышал, как стукнула дверца духовки, потом мом надела пальто и туфли и неуверенно сказала, боясь меня потревожить:
— Ну, я двинула. Не задерживайся поздно вечером.
Щелкнул замок входной двери, и все смолкло. Я с удовольствием зарылся ноузом в пиллоу и погрузился в сладкий сон. Почему-то мне приснился Джо-ша, в гробу бы я его видал в белых "адидасах". Он был какой-то повзрослевший и строго выговаривал мне о дисциплине, смирении и покорности, а еще о том, что все бойзы теперь должны беспрекословно ему подчиняться и отдавать честь. Я тоже стоял в общей шеренге, с готовностью повторяя "да, сэр" и "нет, сэр", и вдруг заметил большие звезды на его плечах, как если бы он был генералом.
Джоша строго указал на меня и рявкнул:
— У этого ублюдка вся форма в г…е. Он позорит нашу доблестную дебило-дегенератскую армию. Ну-ка, почистить его.
Я посмотрел на свою одежду и с ужасом осознал, что он прав.
— Не бейте меня, братья! — благим матом заорал я и бросился бежать.
Но почему-то я бегал кругами, возвращаясь в одну и ту же точку, как привязанный к веревке апельсин, если его раскрутить. Кир преследовал меня по пятам, безумно хохоча и щелкая бичом, который то и дело опускался на мою спину и задницу. К физической боли прибавилась страшная боль в голове, в которой вдруг громко зазвонил… звонок.
Странно. Никто вроде бы не должен знать, что я дома. Звонок продолжал нахально рингать, а потом из-за двери донесся знакомый голос:
— Вставай, разгильдяй, я знаю, что ты дома.
Я скривился, будто мне прищемили боллзы, так как узнал голос П. Р. Дельтувы, моего опекуна из идиотского посткоррективного общества содействия органам охраны правопорядка. Мистер Дельтува был затраханным жизнью нудаком с поношенным лицом, который должен был надзирать за сотней охламонов вроде меня. "Сейчас, сейчас!" — поспешно крикнул я, облачаясь в просторный шелковый халат, украшенный набивными картинками из райской жизни постиндустриального общества. Сунул ноги в теплые войлочные тапочки и был готов к приему гостя, которому обрадовался, как овца ножу мясника. Когда я открыл дверь, на пороге предстал мой наставник со скорбным выражением на прокисшем лице, в поношенной старомодной шляпе и засаленном плаще.
— А, Алекс, мой мальчик, — вымученно улыбнулся он. — Я встретил твою мать, и она сказала, что тебе нездоровится и поэтому ты не пошел в школу,
— Совершенно точно, сэр. Страшная головная боль, — светским тоном произнес я. — Думаю, к обеду все пройдет.
— Да, к вечеру уж это точно, — со скрытым сарказмом сказал Дельтува. — Ведь это твое любимое время суток, не так ли, парень? Садись. Присаживайся, присаживайся, — пригласил он, словно это был его дом, а не мой.
Он по-хозяйски расположился в кресле-качалке моего фазера, будто пришел покачаться, а не дать накачку мне. Я воспитанно предложил ему чашку чая.
— Совсем нет времени, сынок, — ответил он, посмеиваясь. — С вами, ребятки, даже чашку чая некогда выпить.
Однако он продолжал беззаботно раскачиваться, не торопясь уходить, и я включил электрокеттл.
— Чем обязан вашему визиту, сэр? Что-нибудь случилось?
— Случилось? — хитро прищурился он. Взял со стола газету, на первой странице которой была изображена шикарная чувиха с вываленными грудями, рекламировавшая прелести югославских курортов. Схавав се глазами в один присест, мой наставник произнес с фальшивой улыбочкой:
— А разве что-то должно было случиться? Ведь лично ты ничего не натворил?
— Ну, это просто оборот речи, сэр, — не поддался я на его неумело заброшенный крючок.
— Ну, уж коль мы заговорили об оборотах речи, то прими к сведению и мой, так, для поддержания разговора. Если в следующий раз что-нибудь действительно случится, ты не отделаешься исправительной школой для трудновоспитуемых. Ты загремишь в настоящую тюрягу… и очень меня подведешь. Вся моя работа с тобой пойдет насмарку. Если не думаешь о себе, то подумай хотя бы обо мне и о своих родителях…
— Но, сэр, откуда такие мрачные мысли? Копполы, то есть легавые, а точнее, полицейские не имеют ко мне ни малейших претензий, Я чист и непорочен, как святая дева Мария.
Да уж! Ты скорее тянешь на роль кающейся Магдалины. Хотя представляю себе Магдалину с таким… Ну да ладно, оставим религию в покое. Так вот, не вешай мне дерьмо на уши относительно полиции, Они ничего на тебя не имеют, пока не сцапали" Ты мне не хочешь рассказать о вчерашней драке? Кто-то здорово поразвлекался, пустив для этого в ход ножи, велосипедные цепи и подобные безобидные игрушки. Тебя, конечно, там не было. Одного толстого парня, кстати, тоже моего подопечного, "Скорая помощь" подобрала ночью в районе городской подстанции и увезла в больницу. В бреду Билли упоминал твое имя. Сведения дошли до меня по обычным каналам. Упоминались также имена твоих дружков. Конечно, никто ничего не может доказать. Но я предупреждаю тебя, парень, предостерегаю как друг, как единственный человек, который может спасти тебя от себя самого…
— Я очень ценю ваше участие, сэр, — бесстрастно произнес я,
— Ценишь? Да что ты говоришь! — с неподдельной горечью усмехнулся Дельтува. — Ну, я тебя предупредил. Нам известно гораздо больше, чем ты думаешь, Алекс, Какой бес в тебя вселился, парень? Мы изучаем эту проблему вот уже больше столетия, но никак не можем ее решить. У тебя хороший дом, любящие родители. И мозги у тебя вроде в порядке. Скажи, что тебя гложет изнутри? Может быть, я пойму. Как-никак угробил на воспитание таких, как ты, почти сорок лет…
— Никто ничего не сможет мне пришить, — упрямо повторил я. — Меня не задерживали уже более трех месяцев,
— Вот это-то меня больше всего и беспокоит, — вздохнул Дельтува, — Ты подозрительно долго остаешься пай-мальчиком. Сам не замечаешь, что приближаешься к критической точке,
— Да, сэр, но я чист, как стеклышко. Можете на меня положиться,
Я ощармил его типично американской белозубой улыбкой. Подавая ему чашку крепкого натурального чая, я усмехнулся над всеми этими охами и ахами Дельтувы и его фрэндов-воспитателей. Ну, хорошо! Допустим, я поступаю хреново, файтинг, битинг, страйкинг, каттинг более слабых ножом и бритвой и рейпинг понравившихся мне герлз. Но это делают все в нашем поганом обществе. Разве я устанавливал его законы? Я лишь живу по ним. И чего ой тогда талдычит, что любит меня? О какой всеобщей любви воняет он и ему подобные? Три месяца в одном исправительном учреждении, полгода в другом. А сейчас со всей любовью обещает запереть меня еще в каком-нибудь зоопарке. И ни одна тварь не догадывается, как я ненавижу клетку. Все эти разговоры о причинах зла и насилия повергают меня в смех до колик.
Почему сначала не разобраться в том, что делает человека хорошим и вообще что такое добро? Лично я считаю, что люди бывают (а скорее притворяются) добрыми, потому что это им нравится (или выгодно). А другим нравится быть жестокими, злыми, беспощадными. В природе тоже непременно должны быть хищники и их жертвы, иначе все на свете выродится и вымрет. А может быть, создавший этот мир Бог радуется, глядя на меня, гордится мной, как своим лучшим творением? И я должен сохранить свое собственное "Я"? Однако правительство, судьи и все эти школы стараются искоренить зло, так как я посягаю на их привилегию быть злыми по отношению к другим, и им жизненно необходимо под маркой зла уничтожить мое "Я", превратив меня в безропотную овцу из общего эксплуатируемого ими человеческого стада? Разве вся история человечества — не о борьбе маленьких смелых "я" против несправедливости сильных мира сего? Нет, друзья, серьезно?
Но то, что я делаю, я делаю потому, что это мне нравится,
Повздыхав еще минут пять, мой ментор наконец убрался, Я же отбросил философские мысли, приготовил себе чашку крепчайшего чая с молоком, набухав туда пять ложек сахара (я из породы сладкоежек), и принялся за оставленный матерью брэкфаст. Покончив с ним, взялся за ньюспейпер. Нет, друзья, вы бы только почитали, какую муть голубую пишут наши ньюспейперы. Точно бы животы надорвали, как и я. Изо дня в день одно и то же. Новый всплеск насилия. Участившиеся ограбления банков. Угроза забастовки футболистов ведущей команды города, если не будут удовлетворены их требования о повышении заработка. (Ублюдки! Можно подумать, шарик перестанет крутиться, если они не сыграют пару матчей!) Запущено еще с десяток космических кораблей. (Уверен, что девять из десяти — военные, и все это во благо мира на земле.) Новые стерео ТВ-системы с экранами в полстены. Но больше всего мне понравилось объявление: "Меняю три пакета мыльных хлопьев на этикетки от банок с консервированными супами". Совсем с ума съехали.
Вдруг мое внимание привлекла большая статья о современной молодежи (то есть обо мне). Посмотрим, что там о нас пишут. Очень долго и нудно один умник расписывал отсутствие парентальной дисциплины, то есть ответственности родителей за воспитание детей, о нехватке учителей по призванию, которые бы выбили иждивенческие настроения из своих учеников и показали бы им, почем нынче фунт лиха. Читать эту туфту без смеха было невозможно, но все же приятно сознавать, что кто-то еще печется о нас. Вообще-то я бы не сказал, что нас обходили вниманием. Каждый день появлялось что-нибудь "о воспитании подрастающего поколения, от которого зависит будущее цивилизации". Из всех артиклз, появившихся в последнее время, мне больше всего понравилась статья одного старого священника в строгом пастырском воротничке-удавке, где он высказывал мнение о том (а говорил он как бы от имени Бога), что "это дьявол, который до этого был в других землях", пытается тайком вселиться в безвинные души молодого поколения, а еще, что за все в ответе взрослые со своими войнами, ядерными бомбами и повальным развратом. В этом я был с ним согласен. Он, должно быть, знал, о чем говорил, будучи ближе к Богу, чем остальные. Получалось, что мы невинные создания и во всем виноваты взрослые. Я бы мог сказать: "Хиэр, хиэр, хиэр", — как в английском парламенте.
Поразмышляв так пару минут, я выбросил всю эту чушь из головы, врубил дебильник, надев его на шею и засунув в уши стереовкладыши, и принялся выбрасывать все из гардероба в поисках, во что бы такое облачиться, чтобы не очень шокировать тичерз, случись мне зайти в мою скул. Слушая прекрасный скрипичный квартет Клаудиуса Бердмана, я мысленно усмехнулся, вспомнив одну статью в "Ю-Эс Ньюс" о благотворном влиянии классической музыки на современную молодежь. Там говорилось, что нас может исцелить и цивилизовать прекрасный мир истинного искусства. Старая песня о том, что красота спасет мир. Какое, к черту, спасение? Какое благотворное влияние музыки? Красота неизменно вызывала у меня единственное желание — разрушить ее, так как она совершенно не вписывалась в наш уродливый мир.
А музыка… Музыка всегда лишь обостряла мои ощущения. Слушая ее, я чувствовал себя наравне с самим Господом Богом, который вправе карать и миловать этих никчемных людишек. Музыка будила во мне самые низменные инстинкты и давала ощущение вседозволенности.
Я оделся так, как в то время одевалась вся студенческая молодежь: в потертые джины и в голубую водолазку-педерастку с вышитой буквой А — начальной буквой моего имени. Был хай тайм сходить в музыкальный салон (да и башли после вчерашнего остались) и посмотреть, поступили ли давно заказанные стереодиски Девятой симфонии для хора с оркестром Людвига Ивана Бетховена в исполнении симфонического оркестра "Эш Шам" под управлением Л. Муха-вира. И я вышел на улицу.
Эт дэйтайм она была совершенно не такой, как ночью. Ночью она принадлежала мне и моим фрэндам и другим надсадам, пока сытые обыватели покорно проглатывали помои, выплескиваемые на них ТВ и частными телевещателями. И как их только не тошнило от этой ежевечерней жвачки! Теперь улица принадлежала им. Да и забрал днем было несравненно больше. На углу я заскочил в бас и доехал до центра. В торговых рядах "Тэйлор Плейса" я зашел в мой излюбленный музыкальный салон с глупым названием "Мело-ди". Несмотря наназвание, это было хорошее место, оборудованное стереофоническими бутиками, где каждый мог прослушать выбранный им диск. В салоне было пусто. Старина Энди, которому было года двадцать четыре, вежливо улыбнулся мне. Он вообще хороший парень, всегда такой услужливый, благожелательный, хотя тощий и уже с заметными залысинами. Энди узнал меня и радостно сообщил:
— А, знаю, зачем ты пришел. Могу тебя обрадовать. Вчера я их получил.
Он подмигнул и пошел в подсобку.
Энди вернулся быстро, торжественно помахивая двумя огромными дисками в глянцевых белых конвертах, с которых величественно и строго на меня смотрел сам Людвиг Иван.
— Вот, пожалуйста, — протянул мне их Энди. — Хочешь послушать?..
Придя домой, я всадил себе в руку изрядную дозу героина. Потом вытащил из конверта божественную "Девятую, хоральную" и поставил диск, врубив полную громкость…
Когда мы с Людвигом Иваном кончили, я устало потянулся, повернулся к стене и уснул.
Я продрых до самого вечера и очнулся от позвякивания чашек и тарелок и сдержанного разговора, доносившихся из столовой. Было уже полвосьмого, и мои предки вернулись с пахоты. Они сидели за усталым ужином, вяло обмениваясь новостями. Хотя какие у них могли быть новости? Старость не радость, а им уже было далеко за сорок. Накинув халат, я выглянул из своей комнаты и весело сказал:
— Салют, камарады! Уже припылили? Дад и мом устало улыбнулись.
— Небось наломались за день? А мне гораздо лучше после дневного отдыха. Пожалуй, пойду поработаю, сшибу доллар-другой.
Мои предки были уверены, что я подрабатываю по вечерам в магазине. Отчасти это было верно: что-что, а уж лавки и магазинчики мы не обходили вниманием.
Мой старый конь смотрел на меня без особого обожания, и в его глазах сквозило невысказанное подозрение, но он благоразумно помалкивал.
После скорого ужина я нырнул в ванную, принял душ и оделся.
Когда я вышел из комнаты, готовый к новым вечерним подвигам, фазер неуверенно спросил:
— Не подумай, что я вмешиваюсь в твои дела, сын, но мне бы хотелось знать, где ты работаешь так поздно каждый вечер?
— Да так, где придется, — непринужденно ответил я, пресекая тяжелым взглядом дальнейшие расспросы. — По-моему, денег я у тебя не прошу ни на шмотки, ни на пластинки, ни на другие развлечения. Так в чем же дело?
— Да нет, я так, ничего, — смешался он и уткнулся в чашку. — Просто я… мы беспокоимся за тебя. Мне иногда снятся такие дурацкие сны… Можешь смеяться надо мной, но вот, например, прошлой ночью мне приснилась одна вещь, которая мне очень не понравилась.
— Да? И что же это такое было? — с неподдельным интересом спросил я.
— О, это выглядело так натурально во сне. Будто бы ты лежишь в пыли на тротуаре и тебя молотят твои дружки, ну, те, с которыми ты ходил до того, как последний раз попал в исправительную колонию.
— Да что ты говоришь? — усмехнулся я. Мой старый, загнанный конь искренне верил, что
я исправился после выхода из колонии. Блажен, кто верует. И тут мне вспомнился сон, приснившийся мне самому. Я отбросил эти навязчивые видения. Как-то я слышал, что в отличие от снов в жизни все бывает как раз наоборот.
— Отринь беспокойство о своем единственном сыне и наследнике, отец мой, — шутливо затянул я. — Он сможет постоять за себя…
— Но ты беспомощно барахтался в луже собственной, крови и даже не сопротивлялся.
"Нет, действительно в снах все наоборот", — подумал я про себя, а вслух сказал:
— Все это бабские страхи, дал. На-ка лучше, держи. Вчера заработал. Правда, тут немного, но все-таки… На пузырь для тебя и на какую-нибудь тряпку для мом хватит. А может быть, сходите с ней куда-нибудь.
И я выгреб из кармана оставшиеся мани и плюхнул их на тэйбл.
— Спасибо, санни, — растроганно сказал фазер. Потом печально добавил: — Но мы последнее время опасаемся куда-то выходить по вечерам. Кругом столько хулиганья. Но все равно спасибо. Завтра прихвачу домой бутылочку "скотча", и мы со старухой раздавим его на пару.
Он поспешно сунул мани в карман, чтобы их не заметила мазер, мывшая на кухне посуду. Я вышел на улицу, обогреваемый лучами отцовской любви.
К моему немалому удивлению, внизу, в подъезде, меня ждала вся моя кодла в полном составе. Дебила сосредоточенно рисовал на стене. Услышав шумные приветствия Пита и Джоши, он оторвался от своего занятия и, обнажив крупные прокуренные зубы, заплясал с криками "ура!".
— Мы уже было начали волноваться, — сдержанно проговорил Джоша. — Ждали тебя битый час в "Коровяке", вылакали все молоко, а тебя все нет и нет. Думали, может, ты на что-нибудь обиделся, вот и пришли… встретить. Ведь правда, Пит, правда?
— Да-да, — поспешно подтвердил Пит.
— Примите мои искьюзиз, братья. Страшно разболелась башка. Меня случайно по балде никто вчера не бил? — пошутил я. — Короче, сразу после завтрака завалился спать и проснулся только полчаса назад. И так народ для веселья собран, не так ли?
Видно, я подцепил это "не так ли" от моего опекуна Дельтувы.
— Приносим глубочайшие соболезнования твоей голове, — с кривой ухмылочкой произнес Джоша. — Ну, еще бы ей не болеть! Видать, перетрудил, выдумывая разные приказания и пути повышения нашей дисциплины. Ты уверен, что она у тебя перестала болеть? Может, пойдешь полежишь еще?
— Что-то я не пойму твоего сарказма, урод, — недобро процедил я. — Вы что, ребятки, о чем-то сговорились за моей спиной? — жестко спросил я, на всякий случай прижимаясь спиной к стене. — А ну-ка выкладывайте все начистоту, пока я не стер глупые ухмылки с ваших рож. Вот ты, ублюдок, чего скалишься? — приступил я к Киру, который разверз свою пасть в беззвучном смехе.
Джоша поспешно встрял, предостерегающе сунув руку в карман:
— Завязывай, Алекс. Теперь ты больше не будешь пристебываться ни к Киру, ни к кому-либо другому.
— Теперь? — насмешливо переспросил я. — А что теперь?
Точно. Пока я дрых, они о чем-то договорились. Ну что ж, узнаем, к чему они пришли, ублюдки вонючие.
— Давай, фуфлогон, валяй дальше, только не в штаны. Я тебя внимательно слушаю.
Я стоял выше их на несколько ступенек. Небрежно облокотился на перила, готовый в любую минуту схватиться за них и дать ногами в рожу любому, кто осмелится приблизиться ко мне.
— Не лезь в бутылку, Алекс, — твердо произнес Пит, — но отныне в нашей стае все пойдет по-другому. Нам не нравится, что ты нам постоянно приказываешь, что нам делать, а чего не делать… Не обижайся.
— Да дело даже не в атом, — раздраженно вставил Джоша. — Главное в том, что у него детство в заднице играет. — Он нахально уставился на меня и даже ткнул в мою сторону пальцем. — Все какие-то бойскаутские штучки, как прошлой ночью. Напакостить и смыться. А мы уже не дети!
— Так, еще что? Я слушаю, слушаю, — спокойно сказал я.
— А то, что мы сик энд таэд от твоих детских забав. Подумаешь, ворваться во вшивую лавчонку, набить карманы мелочевкой. Мы мелко плаваем. А вот Уилл-англичанин на днях сказал мне, что знает одно местечко, где можно легко взять желтизну и камушки. Вот где настоящие-то бабки!
— Где это ты успел снюхаться с Уиллом-англичанином? — внешне спокойно спросил я, хотя внутри у меня все кипело.
— А это уж не твое дело, Алекс, — зло огрызнулся Джоша. — В отличие от некоторых я на тебе не зациклился. У меня есть и другие фрэнды…
Некоторое время я взвешивал ситуацию, а потом размеренно проговорил:
— Золото? Драгоценности? А вы знаете, кретины, что чем больше добыча, тем выше риск схлопотать настоящий срок? Об этом вы подумали, недоноски? Не пойму, Чего вам еще не хватает. Нужна машина — угнали любую тачку, покатались и бросили. Бабки? Вам мало того, что мы экспроприируем у буржуев? Откуда эти капиталистические замашки?
Я не на шутку рассердился. Мой сон оказался вещим. Джоша-генерал решал, что мы должны делать, а что нет. Но я обуздал гнев и решил действовать осторожно, очень осторожно. Поэтому, улыбаясь, я сказал:
— Ну, хорошо, бразерс. Ну и ладненько. Я многому научил вас. Посмотрим, как это теперь получится у вас. У тебя есть план, Джоша-бой?
— Ты умный парень, Алекс. Недаром мы столько времени держали тебя за вожака, — удовлетворенно осклабился Джоша. — Теперь у нас будет полная демократия. Никаких боссов. Почему бы нам, парни, не взбодрить себя доброй порцией молочка из-под бешеной коровки?
— Ты угадал мои мысли, Джоша, — криво улыбнулся я. — Как раз хотел предложить посидеть для начала в нашей доброй старой "Коровяке". Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Веди нас, мой маленький Джоша.
Я растянул рот в безумной улыбке, в то время как мысль моя продолжала лихорадочно работать. Когда мы вышли на улицу, я решил, что напряженно думают только глупцы, умные же действуют по наитию, вдохновению, ниспосланному самим Богом. В этот момент на помощь мне пришла чудесная музыка, доносившаяся из припаркованного неподалеку кара. Это была заключительная часть концерта для фортепиано со скрипкой моего любимого Людвига Ивана. Решение созрело мгновенно, и я выхватил каттер.
— А теперь поговорим, Джоша-бой, — угрожающе сказал я.
— Я готов, — ответил он, и в его руке блеснул нож.
Мы приняли боевую стойку и затанцевали друг перед другом.
— Э, так не пойдет, фрэнды, — пробасил Кир и принялся разматывать с пояса цепь.
— Оставь это, Дебила, — сказал Пит и положил руку Киру на плечо. — Пускай разбираются сами.
Некоторое время мы кружили, делая выпады, выискивая бреши в обороне друг друга. Видя, что мои атаки не имеют успеха и я никак не могу дотянуться до лица или глаз Джоши, я изменил тактику и несколько раз удачно полоснул бритвой по его руке, державшей нож. Это мне удалось, и он выронил его и удивленно посмотрел на изрезанные пальцы.
— Теперь ты, Дебила. Посмотрим, кто из нас проворнее.
— Ага-га-га, — зарычал Кир, молниеносно сдернул чейн с пояса и со свистом покрутил ею в воздухе, примериваясь к моим глазам.
Я озверел и, нырнув под Дебилу, удачно резанул его пару раз по ногам. Теперь он, в свою очередь, взревел от боли, а я, воспользовавшись его минутным замешательством, неожиданно выпрямился и сосредоточился на его руке, в которой была цепь. "Жжик-жжик-жжик!" — я почувствовал, что каттер легко, будто в масло, входит в его флэш. Наконец он выронил чейн и принялся баюкать свою искалеченную руку, краинг, как маленький беби. Он попробовал остановить кровь ртом, но ее было слишком много, и он чуть не захлебнулся.
— Ну, что, ребятки? Теперь вы знаете, кто в доме хозяин. Не правда ли, Пит?
— А я что, я ничего, — ответил Пит. — Я не сказал против тебя ни слова. Надо подумать, что делать с Киром, пока он не истек кровью. Еще сдохнет..
— Ни за что на свете. Человек умирает один раз, а Кир помер, не успев родиться. Дай ему свой платок. Вот увидишь: кровь остановится сама собой.
Действительно, основные артерии оказались не задетыми, и я сам перевязал жалобно скулившего Дебилу.
Это послужит для них неплохим уроком. Теперь будут знать, кто овцы, а кто пастух.
Успокоить моих раненых солдат не составило большого труда. Для этого я завел их в ближайший снэкбар на Дьюк оф Нью-Йорк и купил пострадавшим два больших брэнди. Понуро заглотив их, они понемногу отошли. Наши старушки-хохотушки встретили нас привычными "спасибо, добрые ребятки" и "да благословит вас Господь", споро обмыли вискарем и перевязали сравнительно чистыми тряпками Кира и Джошу. Расщедрившись, Пит купил им по сандвичу и по банке сидра на свои деньги, которых у него оставалось полные карманы. Старые ведьмы еще громче заверещали:
— Вы самые добрые и щедрые ребята на свете. Мы никогда не заложим вас. Наконец хоть кто-то о нас думает.
Я смерил Джошу тяжелым взглядом и категорично произнес:
— Слушай сюда. Недеюсь, не в обиде? Ты начал первым…
— О'кей, о'кей, о'кей! — поспешно закивал он.
— Вот теперь самое время поговорить о делах, — сказал я. — У тебя, кажется, было что предложить?
— Шиза косит наши ряды, — философски заметил Пит, а Джоша зло гаркнул:
— Закрой хлебало, кишки простудишь! — Потом раздумчиво добавил: — Есть на примете один дом.
С двумя фонарями у входа и с глупым названием.
— Каким еще названием?
— "Обитель заблудших Божьих тварей" или что-то в этом роде. Там живет одна старая ведьма. Никакой прислуги. Только дюжина облезлых бродячих кошек, которых она приютила и заботится о них, как о собственных детях. У этой выжившей из ума карги уйма всяких дорогих старинных вещей.
— Конкретнее.
— Ну, там столовое серебро, золотишко, побрякушки с камушками. По крайней мере так утверждает Уилл-англичанин…
— По-нят-на-а, — протянул я. — По-моему, это действительно неплохой расклад.
Я знал, о каком доме идет речь. Это в Олдтауне, на окраине микрорайона "Виктория". Настоящий вожак обязан чувствовать, когда натянуть поводья, а когда и ослабить. Я решил проявить великодушие.
— Хорошо, Джоша. Эта идея мне нравится. Пойдем прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик.
Я многозначительно взглянул на навостривших уши старушек.
— Ничего не слышали, ничего не знаем, — в один голос заскрипели они. — Все время вы были здесь с нами.
— Примерные девочки. Просто отличницы, — похвалил я их. — Минут через десять получите свои поощрительные призы.
И я повел моих фрэндов навстречу собственной судьбе.
Дальше за Дьюк оф Нью-Йорк шли офисы деловой части города, за ними — древнее, обшарпанное здание публичной библиотеки, за которой сразу начинался микрорайон "Виктория", названный так в честь какой-то победы. И, наконец, вольготничали старые усадьбы Олдтауна. Здесь жили разные буржуи, такие же старые, как их дома.
Вскоре мы подобрались к огромной усадьбе с идиотской надписью на фронтоне: "Обитель заблудших Божьих тварей". По обе стороны массивных чугунных ворот, как часовые на посту, стояли литые чугунные фонари с круглыми светящимися головами-шарами. В одной из комнат на первом этаже тускло мерцал свет. Все окна были забраны витыми чугунными решетками. Осторожно приблизившись к одному из них, я заглянул, что там делается внутри. И вот что увидел: древняя старуха, лет под девяносто, с крючковатым носом, костлявыми руками и иссиня-белыми космами разливала молоко из литровой бутылки по блюдцам, возле которых, раздув трубой хвосты, разевали пасти разнокалиберные и разномастные кошки. Старуха выговаривала что-то двум вконец обнаглевшим жирным скотинам, взобравшимся прямо на обеденный стол. В комнате было, как в музее (хотя я ни в одном никогда не был и мог только представлять, что там должно быть именно так). По стенам были развешаны старые картины в золоченых рамах, в углах стояли старинные замысловатые часы в стиле вампир, и везде, где только возможно, можно было увидеть различные скульптуры, статуэтки и миниатюры из потемневших от времени меди, бронзы, серебра, слоновой кости, фарфора, гипса и Бог знает чего еще. Эта страхоблюдина, несомненно, была богата. Джоша возбужденно зашептал:
— Уилл-англичанин нас не лажанул. За все это антиквары отвалят кучу бабок.
Мне надо было принять скорое решение, чтобы Джоша не перехватил инициативу.
—Сначала испробуем наш старый, испытанный способ — через парадную дверь, — быстро сказал я. — Я попрошу разрешения позвонить в "Скорую" или принести стакан воды.
— Да, так она тебе и открыла, — противно усмехнулся Джоша.
— Во всяком случае, можно попробовать, — без особой уверенности ответил я. — Не боись, что-нибудь придумаю.
Я подошел к двери и неназойливо позвонил. Никакой реакции. Позвонил настойчивее и, наклонившись к замочной скважине, жалобно проскулил:
—Помогите! Ради Бога помогите, мадам. Моего друга сбила машина. Он истекает кровью. Нужно срочно позвонить в "Скорую помощь".
В холле зажегся свет, и раздались шаркающие шаги. Я представил, как она подходит к двери, держа под каждой подмышкой по жирному котяре. Из-за двери раздался глухой бас:
— Пошел вон, мерзавец, или я буду стрелять. Услышав это, Джоша прыснул в кулак. Я же продолжал умоляющим, полным тревоги и страдания
голосом:
— О мадам, не будьте такой жестокосердной. Мой друг может умереть.
— Я сказала, убирайся, паршивец! Знаю я ваши грязные уловки! Вам только открой. Будете мне потом всучивать всякий ненужный мне хлам. Я ничего не покупаю.
Мой авторитет стремительно падал. Взглянув вверх, я увидел над парадной дверью откидное окно-форточку, через которую мог спокойно пролезть человек. К счастью, оно было приоткрыто.
Я сделал вид, что ухожу, а сам шепнул, на цыпочках возвращаясь к двери:
— Кир, я встану тебе на плечи и залезу внутрь через форточку. Потом успокою эту ведьму и открою вам.
Мы с Киром проделали эту несложную операцию под одобрительными взглядами Пита и Джоши. Через какие-то секунды я оказался в темной, захламленной прихожей. Прошел в длинный коридор со множеством дверей по обе стороны. В доме было не менее дюжины пустовавших спален. А может быть, каждая из них предназначалась для этих отвратительных облезлых скотин, жировавших на сливках и свежей лососине? Ну где, скажите, пожалуйста, справедливость? И это в то время, когда сотни подобных ей старых перечниц прозябают в стинкинг ночлежках!
Из-под одной двери пробивалась полоска света. Прислушавшись, я различил бормотание полоумной хозяйки, разговаривавшей со своими питомцами, которые отвечали ей громким "мяу-мяу", требуя еще молока. Ожесточившись, я решил показать моим друганам, что один стою их троих. Я сделаю все сам. Если понадобится, успокою бабульку, потешусь над ее тварями, чтобы не чувствовали себя принцами и принцессами, заберу все самое ценное… и выйду через парадную дверь. Представляю, как отвиснут челюсти у этих возомнивших себя людьми уродов. С особым удовольствием утру нос этому выскочке Джоше.
Я бесшумно приоткрыл дверь и оглядел просторный холл. Со стен на меня укоризненно смотрели прекрасные нимфы с длинными золотистыми волосами, толстомясые девы с упитанными младенцами на руках, тощие святые, не сводящие с них плотоядных глаз, и сам изможденный бородатый Иисус Христос, истекающий кровью на кресте. В нос мне ударила застоялая кошачья вонь. Источавшие ее скотины терлись боками о сотканные из синих жил костлявые белые ноги старухи. Она стояла ко мне спиной и не замечала меня. На столетнем дубовом буфете я увидел массивную серебряную статуэтку — красивая, стройная горла в воздушных одеждах как бы парила над землей, отталкиваясь от нее изящной ножкой. Эту вещь я облюбовал для себя.
Распахнув дверь, я вошел в холл и насмешливо произнес:
— Привет, красотка! Наконец-то мы встретились. Меня как-то не удовлетворил разговор через замочную скважину, а тебя? Думаю, что и тебя тоже, старая образина.
"Образина" медленно повернулась ко мне и гневно, но без должного удивления спросила:
— Как ты сюда попал, выродок? Не приближайся ко мне, а то я трахну тебя вот этой бутылкой.
Меня очень насмешило прозвучавшее в ее устах наше надсадское словечко "трахну". Я осклабился и стал не спеша подходить к буфету, с которого мне призывно улыбалась прекрасная танцовщица. Старуха поставила бутылку на стол и взялась за свой костыль. Я любовно погладил прохладный металл и вдруг в глубине буфета заметил бронзовый бюст какого-то отдаленно знакомого мне мэна с длинными всклоченными волосами, пустыми глазами навыкате и в старомодном галстуке. И тут я понял, что передо мной мой идол — Людвиг Иван Бетховен.
— Какие прекрасные вещи, и, что самое интересное, сейчас они будут моими…
Завороженный, я сделал еще шаг и… растянулся на полу, попав ногой в одно из блюдец.
— Мать твою!.. — выругался я, пытаясь подняться.
Но старуха с непостижимой для своего возраста скоростью подскочила ко мне сзади и принялась колотить меня палкой по голове, злорадно приговаривая:
"Вот тебе, вот тебе, сукин сын!"
Ее удары были несильные, но все равно неприятные.
— Нас бьют, а мы крепчаем. Бьют — крепчаем, бьют — крепчаем, — шутовски повторял я при каждом ударе.
Она же явно вошла во вкус и прошипела:
— Я покажу тебе, задница ты эдакая, как врываться в дом к порядочным людям.
И больно треснула меня костылем по лбу. Мне стало не до смеха, и при следующем ударе я схватился за костыль и сильно дернул его на себя. Старуха потеряла равновесие и, чтобы не упасть, ухватилась рукой за скатерть. Не удержалась и грохнулась на пол, вместе со скатерью стащив со стола все, что на нем стояло. Бутылки с молоком разлетелись вдребезги, а ведьма плавала в луже, как вобла под белым соусом.
— Чтоб тебя черти забрали, выродок рода человеческого, — мужским басом выругалась она, пытаясь подняться на ноги, но поднимая только сотни молочных брызг.
— Взять его, мои кошечки! Ату его! Ату! — визжала старуха, в кровь раздирая мое лицо своими когтями.
Будто поняв ее команду, несколько жирных скотин с истошным мяуканьем набросились на меня. Я бешено махал кулаками, отбиваясь от осатаневших тварей.
— Не смей трогать животных, — строго проговорила старуха, когда я удачно задел одну из ее кошек и та отлетела к стене.
— Ах ты, старая, дырявая кошелка, — рассвирепел я и сильно вмазал ей Иваном по безмозглому хэду.
Она слабо охнула, обмякла и затихла. Я выпрямился, стряхнул с себя котов, раскрутив одного за хвост и шмякнув головой об угол буфета, и … услышал приближающийся вой полицейских сирен.
Вляпался!
И тут до меня дошло, что в тот момент, когда я подслушивал у дверей, старуха разговаривала не со своими тварями, а звонила в полицию. Я рванулся к парадной двери и принялся лихорадочно открывать миллион замков и запоров. Распахнув наконец дверь, я увидел, как улепетывают мои фрэнды. Хотел последовать их примеру, но тут передо мной вырос Дебила со своей страшной цепью в руках.
— Отрывайся! — крикнул я. — Через минуту здесь будут забралы!
— Вот ты их и встретишь, — злобно процедил Кир и хлестнул меня цепью по глазам.
Я едва успел их закрыть. Жгучая боль взорвала мою голову изнутри. Я схватился за лицо и упал на колени.
— Мне не нравится, когда меня ни за что бьют по морде, Алекс-бой. Прощай, мой друг, товарищ и брат.
В качестве заключительного аккорда он саданул меня пудовым ботинком поддых, и я скатился с крыльца. Через несколько секунд взвизгнули тормоза остановившейся патрульной машины. Мне было на все наплевать. Из глаз катились слезы вперемешку с кровью. Это вытекали глаза. Мои глаза! Я был одной сплошной болью. Кто-то грубо поставил меня на ноги. Щелкнули наручники. Сквозь густую кровавую пелену, окутавшую мое сознание, проникли произнесенные кем-то слова:
— Подонок проломил ей голову, но она еще дышит.
— Вот так удача! — сказал второй коппола, запихивая меня в машину и одновременно отрабатывая по почкам. — У нас сегодня в гостях сам малыш Алекс.
— Я ранен! Я ничего не вижу, грязные скоты, мать вашу… — взревел я и получил новый удар в солнечное сплетение.
— Выбирай слова, сучье вымя. Новый удар в лицо.
— Да пошел ты… Сначала разберитесь, а потом пихайтесь. Почему я один? Где остальные? Где эти вонючие предатели, которых я держал за друзей? Я хотел отговорить их от этого и получил цепью по глазам. Я не виноват. Я пострадавший. Бог не потерпит такой несправедливости! Он вас накажет! Поймайте их! Не дайте им уйти!
Я орал и возмущался больше по инерции, прекрасно сознавая: отвечает не тот, кто виноват, а тот, кто попался. Сейчас отмазавщиеся за мой счет гнусные предатели наверняка сидят в забегаловке на Дьюк оф Нью-Йорк, посмеиваются и накачивают вискарем наших старых, облезлых куриц. А те блаженно кивают головами: "Спасибо, добрые ребята. Да благословит вас Господь! Все время были здесь с нами. А как же? Никуда не отлучались…"
Я же, зажатый между двумя издевающимися копполами, мчался по знакомым улицам в полицейский участок, пытаясь сквозь кровавые слезы в последний раз разглядеть их названия и запомнить, как они выглядят.
Подъехали к участку. Меня вытряхнули из машины. Эти вонючие, самодовольные ублюдки выполнили план на сегодня. Теперь они и пальцем не пошевелят, чтобы забрать моих бывших фрэндов. А Бог молчит, хоть и все видит. Ну кто сказал, что он не фрайер?!
Меня втолкнули в ярко освещенную выбеленную контору, в которой повисла устойчивая вонь туалета, блевотины и дезинфектантов. Я предстал перед четверыми забралами, которые сидели за столом и дринкали чай из больших кружек. Я бы тоже не отказался от глотка крепкого горячего чая, но они почему-то мне не предложили. Вместо этого мне протянули старое, ржавое зеркало. Я заглянул в него и содрогнулся, так как вместо вашего красивого молодого рассказчика на меня смотрел какой-то страхублюдок с окровавленным ртом, распухшим, синим носом и слезящимися щелками глаз. Заметив мое невольное отвращение, копполы дружно заржали, а старший из них, со звездочками на плечах, спросил:
— Ну, так что ты нам хотел рассказать, соколик? Я презрительно фыркнул и достойно ответил:
— Пошли вы все в задницу, а ты, буй с бугра, первым. Я не скажу ни слова, пока здесь не будет моего адвоката. Я знаю законы не хуже вас, козлы безрогие.
Они опять громко рассмеялись, и старший сказал:
— Ну, что же, ребята. Придется убедить его в том, что он не прав. Знание законов не освобождает от ответственности.
Тут уж они, конечно, вволю потешились надо мной, показав пятый угол. И, наверное, убили бы, не останови их многозвездный инспектор. Затем они дружески предложили мне сесть. Некоторое время мы беседовали, как добрые знакомые. Потом в комнату зашел П. Р. Дельтува, офис которого находился в этом же здании. Он выглядел мизерэбли и с сожалением сказал, увидев меня:
— Итак, это случилось, Алекс-бой, не так ли? Все, как я и предполагал. Бедный, бедный, бедный парень. Он повернулся к копполам и поприветствовал их:
— Добрый вечер, инспектор. Добрый вечер, сержант. Добрый вечер всем. Конец нашему сотрудничеству. Боже! На кого он похож. Вы только взгляните на него…
— Насилие порождает насилие, — изрек инспектор. — Он оказал сопротивление при аресте.
— Больше я ничего для тебя не могу сделать, — сурово посмотрел на меня Дельтува.
— Может, хотите вмазать этому подонку, сэр? Не стесняйтесь. Мы его с удовольствием подержим. Понимаем, каким он стал для вас разочарованием.
И тут Дельтува сделал вещь, которой я от него никак не ожидал. В высшей степени непедагогичную вещь, скажу я вам. Он подошел ко мне вплотную и с ненавистью плюнул мне в лицо. Потом вытер рот тыльной стороной ладони. Пораженный, я вытащил свой окровавленный платок и принялся утираться, повторяя как заведенный: .
— Спасибо, сэр. Огромное вам спасибо. Вы очень добры, сэр.
Он смерил меня презрительным взглядом, повернулся и, не говоря ни слова, вышел из кутузки.
Копполы протянули мне длиннющий опросник, и я с горечью подумал: "Чтобы вы все провалились, подонки. Если вы называете это Добром, то я рад, что нахожусь на стороне Зла".
— Черт с вами, стинкинг пигс, — с вызовом бросил я им. — Я все вам напишу, а потом можете подтереться своим вонючим протоколом. Я больше не стану ползать перед вами на брюхе. С чего начать-то? С момента выхода из последней исправительной колонии? Валяй, крысенок, да смотри чего-нибудь не пропусти, — обратился я к сидящему за пишущей машинкой испуганному человеку в цивильном, совсем не похожему на забралу.
Тайпист едва поспевал фиксировать мой словесный понос и, когда я кончил, он выглядел так, будто вот-вот свалится со стула.
Выслушав мою исповедь, инспектор заметно подобрел и почти ласково сказал:
— Добро, парень. Сейчас тебя отведут в твой номер-люкс с водопроводом и всеми удобствами. Уведите его, ребята. Протокол он подпишет позже.
В камере были двухъярусные бедзы, но все они оказались занятыми. На одной из них, в верхнем ярусе, громко храпел какой-то пьяный старик. Вид но, туда его забросили копполы, так как забраться наверх он бы не смог даже в трезвом состоянии. Недолго думая, я сбросил его прямо на спящего на полу жирняка с полными штанами и быстро занял его место. Они повозились, не просыпаясь, потом обнялись и мирно захрапели. Я же лежал на отвоеванной вонючей койке, слишком уставший и избитый, чтобы спать. Некоторое время я балансировал на грани полузабытья, то и дело погружаясь в другой, лучший мир. И в этом лучшем мире, о братья, я видел себя на большом лугу, усеянном цветами, на котором пасся козел с лицом человека. Завидев меня, он сел и принялся наигрывать на флейте до боли знакомую мелодию. Над лугом поднялось солнце с суровым лицом Людвига Ивана, старомодным галстуком и живописно развевающимися волосами, и я услышал заключительную часть Девятой симфонии, причем хор безбожно перевирал слова, что, впрочем, допустимо во сне.
"Ты, злобная, хищная тварь, осквернитель полей Элезиума, Знай, что наши сердца переполнены благородным гневом, И мы порвем тебе вонючую пасть и надерем грязную задницу".
Однако мелодия исполнялась безупречно, и я проснулся с этой мыслью спустя две или десять минут или двадцать часов, дней или лет. Точнее сказать не могу, так как часы у меня отобрали. Где-то далеко-далеко внизу стоял один из коппол и больно тыкал меня концом дубинки под ребра, повторяя:
— Давай-давай просыпайся, спящая красавица. Вот теперь тебя ждут настоящие неприятности.
— А? Что? — не понял я, не в силах отделаться от звучащей во мне "Оды к радости".
— Спускайся и все узнаешь, малыш, — сказал он с ноткой сострадания, которая заставила меня стряхнуть остатки сна.
Превозмогая боль во всем теле, я спустился с небес на землю. Дышавший мне в затылок луком и сыром коппола долго вел меня коридорами, пока мы наконец не пришли в довольно опрятный офис, с пишущими машинками на столах и цветами в горшках на стенах и подоконниках. В центре за массивным полированным столом с тремя телефонами сидел какой-то биг чиф, как я понял, комиссар полиции. Он строго уставился в мое заспанное лицо. Наконец я не выдержал и сказал:
— Ну, так и будем стоять? Чего это ради вы подняли меня среди ночи?
— Я даю тебе десять секунд, чтобы стереть наглую ухмылку с физиономии. Потом ты все узнаешь.
— Интересно, какой еще сюрприз вы для меня приготовили? Вам мало того, что меня избили до полусмерти, наплевали в морду, заставили признаться во всех смертных грехах, а потом бросили в вонючую камеру к сумасшедшим преступникам и извращенцам? Какую еще пакость вы для меня приготовили?
— После того, что я тебе скажу, все твои физические муки покажутся пустяком. Отныне и до конца дней тебя будут мучить угрызения совести. И только от Божьей воли зависит, сойдешь ли ты с ума или нет.
И тут, други мои, я догадался, о чем он говорит. Видно, мы с Людвигом переусердствовали, и старуха отбросила копыта и теперь пасет своих кошечек в райских кущах. Конец подкрался незаметно. Уж теперь-то точно они упакуют меня надолго. А ведь мне всего пятнадцать.
Продолжение следует.
Словник к повести Энтони Берджеса "Заводной апельсин"
Амбрелла — зонт.
Артиклз — статьи.
Аск — спрашивать.
Багги-уош— брюки из мешковины.
Бас — автобус.
Битннг, бите — произв. от "бить".
Биэр — пиво.
Блая, блади — кровь, кровавый.
Боллзы — яйца.
Боттл — бутылка.
Бразер — брат.
Брэдница — хлебница.
Брэкфаст — завтрак.
Букс — книги.
Войс — голос.
Глассиз— очки.
Грэнниз — бабуси.
Дресс — одежда, одеваться.
Дринкинг — произв. от "пить".
Иксайтмент — возбуждение.
Икскьюз ми — извините меня. Камой! — Пошли!
Каттинг— произв. от "резать".
Краинг — произв. от "плакать".
Каттер— бритва.
Каунтер — прилавок.
Кичен — кухня.
Лукт эт ми, луке эт ас — смотрел на меня, смотрит на нас.
Наксовая — хорошенькая.
Нойз — шум.
Ноуэ — нос.
Ньюспейпер — газета.
Олд мэн — старик.
Он фут— пешком.
Пай— пирог.
Лиге — свиньи.
Пиллоу— подушка.
Плейс — место.
Покеты — карманы.
Прнви парте — половые органы.
Пэй визит — навестить.
Райтер— писатель.
Рейпинг — произв. от "насиловать".
Рингать— произв. от "звонить".
Рислондид — отозвался.
Свимать — произв. от "плавать".
Серв — подавать (на стол).
Сик энд тазд — надоело, тошнит,
Скул — школа.
Слайсы — ломти.
Сливзы — рукава.
Смайл — улыбка.
Снэкбар — закусочная.
Стэед — уставился.
Стннкинг — вонючий.
Страйкинг, страйкнул — пронзя, от "ударять".
Стьюд веджетэблз — консервированные овощи.
Тайм — время,
хайм тайм — самое время,
эт дэйтайм — днем.
Тайнрайтер — пишущая машинка.
Таун— город.
Таэд э бит— немного устали.
Тинкннг — произв. от "думать".
Тис — зубы.
Тнчер — учитель.
Токннг — произв. от "болтать".
Траузерс — брюки.
Тэйбл — стол.
Уолл на уолл — стенка на стенку.
Уотч — наблюдать.
Уэйтер — официант.
Файтнчг — произв. от "драться".
Фистс — кулаки.
Фор поршнз — четыре порции.
Фрэнд — друг.
Фэер—плата за проезд.
Хауз — дом.
Хоул — дыра.
Хэд — голова.
Хэндз — руки.
Чейн— цепь.
Шерт — рубашка.
Щнтсы пейпера — листы бумаги.
Шоп — магазин.
Шоулдеры — плечи.
Эмьюзмент — развлечение.
Часть II
Что же теперь со мной будет? Неужели все?
Здесь, други мои, начинается самая печальная часть моей истории. Я оказался в Стае 84F (Государственной тюрьме) и из Алекса превратился в номер 6655321. Не стану докучать вам жалостливым рассказом о том, каким ударом оказались мой арест и осуждение для моих бедных предков, особенно для мом, чей единственный сын, услада души, так подвел всех и вся.
Старый веник судья в Суде низшей инстанции произносил гневные спичи. Ему вторили П. Р. Дельтува и копполы, выступавшие в качестве свидетелей. И не было никого, кто бы заступился за меня. Я встал костью в горле нашему истэблишменту, и они очень оперативно упаковали меня с глаз долой, из сердца вон. Через пару недель, пока шло скорое предварительное следствие, мое дело было представлено в Суд высшей инстанции, который, не рассусоливая, вынес свой вердикт: четырнадцать лет тюрьмы.
С того времени прошло два года день в день, и вот я опять перед вами, одетый по последней тюремной моде, то есть в поносного цвета робу с нашитым на груди и спине номером 6655321.
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о том, как я жил два года в зоопарке человеческих отбросов, которыми, как и подобает отбросам, наше больное сосайети пыталось удобрить хилое деревце общественной нравственности и морали.
В грязной вонючей камере меня встретили с распростертыми объятиями.
Днем мы горбатились на спичечной фабрике, потом наматывали круги по тюремному двору, а по вечерам какой-то ученый рех засорял нам мозги лекциями о жизни жуков, Млечном Пути или Путешествиях Снежинки. Глядя на него, я почему-то всегда вспоминал другого, похожего на него, нудака, с книжками под мышкой, возвращавшегося из публичной библиотеки зимней ночью… В те славные денечки я чувствовал себя свободным и почти счастливым, и рядом были друганы, а не подлые предатели. Один из них, как я узнал от посетивших меня мазера и фазера, а именно Джоша, был уже мертв. Да, мои хайли респектид бразерс, мертв, как кусок собачьего дерьма на дороге. Это произошло приблизительно через год после того, как меня засунули в клетку и потеряли от нее ключи. После этого известия мое мнение о старом фраере Боге несколько повысилось.
Но все же, что будет со мной?
Воскресное утро. Вся наша братия собралась в тюремной часовне послушать слово Божье. Проникшийся ко мне симпатией капеллан вменил мне в обязанность ставить по его знаку пластинки с торжественной церковной музыкой на старенький стереопроигрыватель. Все заключенные сидят на каменном полу, внимая проповеди. От них исходит неистребимый вонизм, источником которого являются даже не немытые тела — столь безнадежно могут смердеть только растленные души. Наверное, так же воняю и я, хотя в отличие от остальных в моей вони должна быть примесь надежды. Ведь я самый молодой из всех. Мои мысли вертятся вокруг одного: как бы поскорее выбраться из этого зверинца. Выбраться любой ценой до того, как тюремная вонь поглотит меня без остатка.
— И какой из всего этого выход? — громко вопрошает капеллан. — Неужели вас устраивает порочный круг: погулял— сел, погулял — сел?.. Или, может быть, лучше внять Божьей заповеди и избежать кар, которые ожидают нераскаявшихся грешников как на том свете, так и на этом? Поверьте мне, братья во Христе, что в посещающих меня видениях мне открылось место пострашнее любой тюрьмы, где на адском огне горят души грешников, подобных вам. И не скальтесь, подонки. Прекратить смех! Там, в аду, такие же выродки корчатся, кричат и стенают в невыносимой агонии. Им прижигают ноздри раскаленными щипцами, поджаривают на медленном огне, сажают на него с полными ртами воды и не снимают до тех пор, пока она не выкипит. И черта с два проглотишь, поскольку огонь полыхает и в их животах. Они плавают в дерьме, хотя этим вас не запугаешь. Все это я видел собственными глазами… Теперь, грязные свиньи, послушаем слово Божье.
Капеллан взял толстенный бук и, мусоля грязный жирный палец во рту, принялся листать ее, отыскивая нужное место. Наш духовный отец был огромным толстым бастардом с грубым, постоянно красным лицом. Я догадывался, что в этом отнюдь не было повинно высокое давление, но прощал ему этот смолл син. Он любил меня и покровительствовал мне, поощряя страсть к чтению Священного писания. Он даже разрешил мне включать церковную музыку, когда я читал. И это было чудесно. Он запирал меня в часовне, и я часами слушал прекрасные творения И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. Я с упоением читал еврейские выдумки, погружаясь в сказочный мир и чувствуя себя его действующим лицом. Вместе с ними пил старое иудейское вино, ложился в кровать с их целомудренными женами… Так мне хоть на время удавалось убежать от моего скотского бытия. Читая Новый завет, я не очень вдавался в его премудрости, поскольку здесь вместо сражений и любви косяком шли нудные проповеди. Но однажды капеллан положил мне на плечо толстомясую длань и сказал: "А, это ты, 6655321. Думай о покаянии. Очищение придет к тебе через страдание".
От него сильно разило старым "скотчем" и исходила особая вонь, отличная от вони зэков. Не говоря больше ни слова, он повернулся и побрел к своей конторе на дозаправку. Я же углубился в чтение душещипательных описаний самобичеваний, терновых венцов, распятий на кресте и прочих испражнений, и чем больше я вчитывался, тем больше приходил к заключению, что в этом что-то есть. Подхваченный божественной мелодией Баха, я уносился в выдуманный иудеями мир и чувствовал себя одним из римлян, одетым в красную тогу. Как и они, я подталкивал измученного Христа копьем в спину и с наслаждением вколачивал гвозди в его священную плоть…
Пребывание в Стае 84F я обратил себе на пользу, и даже сам Губернатор был приятно удивлен, когда ему доложили, что я проникся религиозным рвением. Именно с этим были связаны мои надежды на досрочное освобождение.
Тем воскресным утром капеллан читал нам из Библии о чудаках, построивших дом на песке, и как Бог наказал этих слепцов, ниспослав на землю сильный дождь, мгновенно разрушивший их ветхое строение. Я подумал, что только глупцам, у которых вместо головы — задница, может прийти в голову идея строить дом на песке. Прервав мои размышления, капеллан громко объявил:
— В заключение, сукины сыны мои, прочитаем псалом 435.
Я быстро установил диск на старенькую вертушку, и раздалась мощная органная музыка. Вокализ был просто великолепен, но его заглушил дикий разбойный рев заключенных:
"Мы — свежезаваренный чай,
Что слаб, пока его хорошенько не размешаешь. Едим не ангельскую пищу
Срок искупления наших грехов долог…"
Они самозабвенно вопили, визжали и рыдали на разные лады, а капеллан подстегивал их словами: "Громче вы, добыча чертей. Петь всем, не филонить!"
Наконец пение гимна было закончено. Разноголосый хор затих, и капеллан произнес заключительную фразу:
— Да сохранит вас и покровительствует вам святая троица. Аминь!
Я поставил диск по своему выбору — Вторую симфонию Эдриана Швейгцербера. Заключенные окружили стерео кольцом и слушали, затаив дыхание и пуская слюни. Некоторые выли, как загнанные волки. Другие тыкали мне пальцами под ребра, хлопали по шоулдеру, выражая одобрение и симпатию. Дольше всех у проигрывателя стоял один питекантроп с руками ниже колен. Надзиратель ласково напомнил ему, что пора выметаться, несильно вмазав дубинкой по плоскому затылку. Я вырубил стерео, и ко мне подошел наш капеллан в белых церковных одеждах, больше приличествующих женщине, а не такому коню с яйцами. Попыхтев некоторое время, и повыпускав сигарный дым изо всех возможных отверстий, он дружелюбно сказал:
— Спасибо, малыш 6655321. Ну, какие у тебя для меня сегодня новости?
Дело в том, что наш "конь" метил на очень высокий пост в тюремно-церковной иерархии, и для того, чтобы занять его, необходима была лестная характеристика Губернатора. Поэтому он часто посещал его и выкладывал все, что ему удавалось узнать на исповеди о готовящихся бунтах, побегах и настроениях. Часть подобной информации поставлял ему я. Конечно, в большинстве случаев это были только слухи и досужие вымыслы, но мне нужно было набирать очки, как и самому капеллану. Изредка мы давали и правдивые сведения, как, например, о готовящемся побеге верзилы Гарримана, о котором я узнал по "чугунной связи" — перестукиванию через батареи центрального отопления.
На этот раз у меня не было ничего существенного, и я придумал следующее:
— Я всегда готов помочь вам, сэр, — сказал я. — По чугунному радио до меня дошли слухи о том, что с воли передали большую партию кокаина. Центр по его распределению будет в одной из камер пятой секции.
Капеллан проглотил эту туфту и сказал с благодарностью:
— Прекрасно, мой мальчик. Я немедленно передам эту информацию Самому. — Так он почтительно называл начальника тюрьмы — Губернатора.
После таких слов я оборзел и решил развить успех.
— Сэр, я очень стараюсь, не правда ли? — елейным голоском начал я. — И при этом сильно рискую.
— Сущую правду ты говоришь, 6655321. Ты вносишь большой вклад в дело перевоспитания преступников, и я давно замечаю в тебе признаки искреннего раскаяния и исправления. Если будешь продолжать в том же духе, то заслужишь отпущение грехов…
— Но, сэр, это же как в африканском банке — долго ждать и фиг получишь. На днях я слышал разговор о новом методе перевоспитания. Говорят, что после такого курса тебя немедленно освобождают с гарантией того, что ты никогда не попадешь сюда обратно?
— А, вот ты о чем… — протянул он потухшим голосом. — Где ты это слышал? Кто распространяет эти сказки?
—Ну, об этом ходят упорные слухи… Охранники говорят между собой. Не станешь же затыкать уши, тем более что вы сами велели держать их востро. Потом, в мастерские попала газета, в которой это описывается подробно. Не могли бы вы посодействовать мне, сэр? Не сочтите за наглость, но мне так хочется поскорее исправиться…
Капеллан глубоко задумался, сосредоточенно попыхивая сигарой. Видно, прикидывал, в какой степени посвятить меня в то, что он сам знал. Решившись, он без особого энтузиазма произнес:
— Наверное, ты имеешь в виду методику Лудовико?
— Не знаю точно, как это называется, сэр, да это и не важно. Главное, это позволяет быстро выйти из тюрьмы и больше никогда сюда не возвращаться.
— Да, ты прав, 6655321. Но должен предупредить тебя, что пока все на стадии эксперимента. Техника очень проста, но вызывает коренные изменения…
Он явно чего-то не договаривал.
— Но она же применяется здесь, сэр? — настаивал я. — Именно поэтому строятся белые корпуса у южной стены, где мы занимаемся физическими упражнениями, ведь правда же?
— Пока что такая методика не использовалась, по крайней мере в нашей тюрьме. Даже у Самого на этот счет большие сомнения. Должен признаться, что я разделяю его опасения. Еще неизвестно, действительно ли человек становится добрым после такой ломки. Доброта — категория, определяемая душой человека, 6655321, его добровольным выбором. Лиши его такого выбора, и он перестанет быть человеком…
Он хотел еще что-то добавить, но тут раздался топот других заключенных, которых вели за их пайкой религии. Потому он поспешно свернул нашу беседу:
— Мы с тобой еще потолкуем по этому поводу как-нибудь в другой раз. А пока настрой аппаратуру.
Потом один из надзирателей отвел меня в камеру шестой секции, ставшую МОИМ ДОМОМ. Охранник, сопровождавший меня, был не из самых плохих. Он даже не дал мне пинка, когда открыл дверь камеры, а просто сказал:
— Давай, санни, забирайся в свой гадюшник. Мои соседи по камере представляли самое изысканное общество, не обойденное вниманием разделов криминальной хроники газет и журналов.
Вообще-то эта камера рассчитана на троих. Нас же сюда запихнули вдвое больше. Такова повсеместная практика. Все роптали, но как-то устраивались, лежа чуть ли не друг на друге. Но в то воскресенье, хотите верьте, хотите нет, в нашу камеру запихнули еще одного заключенного. В это время мы как раз давились тюремной баландой, а трое уже потягивали травку на своих койках, когда нас вдруг осчастливили новым соседом. Прямо с порога этот визгливый, дерганый старичок лет под пятьдесят принялся причитать и жаловаться, сотрясая толстые прутья нашей клетки: "Я требую соблюдения моих гражданских прав! Эта камера переполнена! Это неслыханно!" И так далее в том же роде, духе и тоне. Сопровождавший этого громкоголосого брехуна (которого мы тут же окрестили Лаудспикером) надзиратель строго сказал, поигрывая дубинкой:
— Попроси, чтобы кто-нибудь подвинулся, а не то будешь спать на полу. Вас, подонков, все больше, а тюремных мест все меньше и меньше. Я бы стрелял таких выродков. Хоть бы на удобрение сгодились.
Он в сердцах плюнул и вышел, захлопнув решетчатую дверь.
2
Именно появление в нашей камере этого нового шизика стало началом моего вызволения из Стаи. Лаудспикер оказался не только базарным, но и до предела гадким, подлым и развращенным типом. Неприятности с ним начались в тот же самый день. Ко всему прочему он был страшный хвастун и начал доставать нас всех по очереди. Он боустид, что является самым заслуженным преступником во всем нашем зверинце. Он и то, он и се, он одним махом пришил десяток забрал, и так далее и тому подобное. Всех просто тошнило от его россказней. Потом он подступился ко мне, как самому молодому в камере. Нагло потребовал, чтобы я уступил ему свою койку, а сам спал на полу. Но все остальные были на моей стороне и строго предупредили его: "Кончай пристебываться к парню! Тысяча чертей в твою луженую глотку!" Он на время отвял и завел старую песню о том, что его никто не любит и не уважает. Однако ночью я почувствовал, как кто-то залез на мою и без того узкую койку и принялся меня гладить, гладить, гладить… Я хряснул непрошеного любовника по роже и, хотя не мог рассмотреть его лица в темноте, понял, что это Лаудспикер.
С трудом вырвался я из его грязных лап, спрыгнул вниз и включил свет. И точно, на моей койке сидела эта противная рожа, которую я раскровянил в ожесточенной схватке.
Мои соседи возмутились такой развращенностью. Большой Жид рассудительно сказал:
— Не дадим музыканта в обиду. Это нечестно.
— А ты заткнись, жидовская морда, — взвизгнул Лаудспикер.
Это было серьезным оскорблением. Большой Жид медленно встал и сделал шаг к обидчику. Но тут вмешался Доктор:
— Завязывайте, мужики. Вы что, хотите, чтобы копполы опять пустили в ход свои дубинки?
Конечно, этого всем хотелось меньше всего. Лаудспикер, ободренный неожиданной поддержкой, вконец обнаглел, заявив, что все кругом "шестерки", а он — босс. Видите ли, он делает нам одолжение, находясь с нами в одной камере.
— Видал наглецов, но таких… — не выдержал Джожон. — Знаете что, други. Все равно нам теперь долго не уснуть. Не будем терять времени и преподадим этому вонючему ублюдку урок тюремной этики. Он сам напрашивается на то, чтобы мы поучили его хорошим манерам.
Большой Жид схватил нахала за руки и крепко прижал к прутьям решетки в том месте, где они освещались слабым красным светом. Лаудспикер хотел включиться на полную громкость, но точным ударом Уолл вогнал ему зубы в глотку. Его били ожесточенно и сосредоточенно, переговариваясь вполголоса, чтобы, не дай Бог, не услышали соседи и охранники. Брызгавшая во все стороны кровь разбудила во мне звериный инстинкт истребления. Растолкав сокамерников, я подступил к обидчику и сказал:
— Оставьте его мне, мужики. Я хочу с ним рассчитаться.
— Ну что ж, вполне справедливое желание. Все отошли в сторону, а я принялся молотить поникшего нахала почти в кромешной темноте, получая от этого истинное наслаждение. Отработав кулаками, я свалил его на пол и нанес несколько ударов тяжелыми бутсами по голове. Он захрипел, как во сне, а Доктор сказал, оттаскивая меня:
— Ну ладно. Хватит. Это послужит для него хорошим уроком. Будет знать, как вести себя в приличном обществе.
Усталые, но довольные, мы залезли в свои койки и мигом заснули…
В коридоре, возвещая побудку, резко зазвенел звонок. Я с трудом продрал глаза и прикрыл их ладонью, пока не привык к яркому свету. Посмотрел вниз и увидел на полу нашу вчерашнюю подсадку, скорчившуюся в неестественной позе. Вокруг его головы запеклась лужа крови. Вспомнив, что произошло ночью, я спрыгнул с нар и пошевелил ногой окоченевшее тело. Порядком струхнув, я принялся тормошить Доктора, который очень тяжело просыпался по утрам. На этот раз он подскочил удивительно быстро. За ним проснулись и остальные.
— Какая жалость, — произнес Доктор, нащупав пульс покойного. — Должно быть, сердечный приступ. — Он осмотрел сокамерников и укоризненно добавил: — Тебе было вовсе не обязательно молотить его ногами по хэду.
— О чем ты болтаешь? — вступился Джожон. — Ты и сам не отставал, метеля его.
Большой Жид тяжело посмотрел на меня и сказал:
— Сдается мне, что он отбросил копыта от твоих ударов, Алекс.
Такая постановка вопроса мне очень не понравилась, и я сердито сказал:
— Только не пытайтесь слить на меня воду. Кто все это начал? Я, что ли? Я присоединился к вам в самый последний момент…
— И выдал заключительный аккорд, — ехидно вставил Джожон.
— На твоем месте я бы помолчал, — огрызнулся я. — Чья была идея преподать ему урок? Моя, что ли?
Один Уолл продолжал храпеть, отвернувшись к стене.
— Да разбудите вы эту музыкальную шкатулку, — сказал я со злостью. — Ведь это он вколотил ему зубы в глотку, когда Большой Жид прижал его к решетке.
— Никто не отрицает, что все мы слегка подкинули ему, чтобы впредь он вел себя подобающим образом, — менторским тоном произнес Доктор. — Однако мы не собирались его убивать, и именно ты с присущим юности безмозглым азартом нанес смертельный удар. Очень сожалею, малыш, но отвечать придется тебе.
— Предатели! — взвился я. — Все вы подлые предатели и лживые вонючие хорьки!
Я понял, что повторяется история двухлетней давности, когда меня подставили, предали и передали в лапы копов мои друганы. Нет, в этом мире никому нельзя верить! Джожон разбудил Уолла, и тот, смекнув что к чему, с готовностью подтвердил, что Лаудспикер сдох именно от моих ударов.
Один за другим в камере начали появляться надзиратели, потом старший надзиратель, потом сам Губернатор — начальник тюрьмы. Мои соучастники наперебой расписывали, как я убивал этого извращенца-испражненца, который теперь падлом лежал на полу.
На следующий день, часов в одиннадцать, испуганную тишину тюрьмы нарушили возбужденные голоса старшего надзирателя. Губернатора и еще одного очень важного с виду Чифа. Они несколько раз прошлись по коридору из конца в конец, продолжая начатую в кабинете начальника дискуссию. При этом наш всемогущий Губернатор почтительно повторял:
"Но, сэр… Извините, но… О'кей! Но что нам прикажете делать?".
Наконец, вся эта компания остановилась перед нашей камерой, и старший надзиратель открыл ее. Нетрудно было угадать, кто среди них главный. Это был высокий подтянутый мэн, возвышавшийся над толстеньким кругленьким Губернатором на целую голову. У него были пронзительные серо-голубые безжалостные глаза и такого же цвета великолепно сшитый сьют. В его манерах сквозила властность и уверенность в себе. Глядя как бы сквозь нас, он произнес хорошо поставленным войсом:
— Правительство более не намерено мириться с устаревшими мерами наказания. Собери преступников в общий загон и получишь общественную преступность. А концентрированная преступность неизбежно ведет к преступлениям в ходе исправления. Образец этого перед вами.
Чиф многозначительно посмотрел в мою сторону и продолжал:
— Но мы вырвем их из этого порочного круга. Тюрьмы нам еще понадобятся для политических противников. Обычных же нарушителей закона нужно лечить на чисто медицинской основе, убивая в них сам рефлекс убийства. Полное исправление в течение года. Вы видите, что они не страшатся ни наказания, ни кары господней. Поэтому каждый имеет по нескольку сроков. Им нравятся их наказания, и они начинают убивать друг друга.
Что-то мне в его словах здорово не понравилось, а поскольку он меня в упор не видел, я смело возразил:
— Позвольте, сэр, с вами не согласиться. К примеру, я не обычный преступник, так сказать, не профессиональный, и попал сюда по чистому недоразумению. Я бы сказал, несчастному случаю и неблагоприятному стечению обстоятельств.
Главный надзиратель покраснел как рак и угрожающе рявкнул:
— Закрой варежку, остолоп. Ты разве не видишь, с кем говоришь?
— Ничего, ничего, — снисходительно сказал Чиф, а потом добавил, повернувшись к Губернатору: — Вот его можно использовать как первопроходца. Он молод, нагл, бесшабашен, злобен. Завтра им займется Бродский, а вы станете свидетелем революционного эксперимента. Не беспокойтесь, все пройдет как нельзя лучше. Молодой негодяй изменится до неузнаваемости.
Эти решительные слова стали первым шагом к моему освобождению.
3
В тот же вечер я был нежно, пинками и подзатыльниками, препровожден в святая святых Стаи — офис самого Губернатора. Когда меня втолкнули внутрь, Губернатор оторвался от лежавших перед ним на столе бумаг и долго смотрел на вашего покорного слугу печальными глазами больного спаниеля.
— Ты не догадываешься, что произошло сегодня утром, не так ли, 6655321? — спросил он грустно и, не дожидаясь моего ответа, продолжал: — Тот стальной рейнджер, который посетил нас сегодня, был не кто иной, как новый министр внутренних дел. Наобещав избирателям с три короба, он рьяно взялся за искоренение преступности. Новая метла по-новому метет. Так вот, это не метла, а стальной скребок. Он намерен повсеместно внедрить всякие новомодные штучки, последние научные достижения в области регуляции психики и модификации поведения. Лично я это крайне не одобряю, но приказ есть приказ. Буду с тобой предельно откровенен. Если тебя кто-нибудь
ударит, ты же дашь сдачи, не так ли? Почему же тогда государство, законы которого вы, преступники, постоянно нарушаете, не может ударить по вам в ответ? Конечно, я выражаюсь фигурально, имея в виду, что за каждым преступлением должно неотвратимо следовать наказание. Так было во все времена, у всех народов… А теперь мне говорят: "Нет! По новой концепции необходимо злого превратить в доброго, кровожадного волка — в смиренного ягненка". Разве это возможно? Справедливо?
Решив, что вопрос адресован мне и Губернатор хочет знать мое мнение, я прокашлялся и начал светским тоном:
— Сэр, если вы хотите…
— Захлопни пасть, молокосос! — рявкнул стоявший рядом с Губернатором старший надзиратель. — Опять начинаешь хамничать и грубничать?
Я клацнул зубами и безразлично пожал плечами.
— Ничего, ничего, Борман, — успокоил его Губернатор и устало обратился ко мне: — Ты, 6655321, пойдешь на перековку. Завтра тебя передадут доктору Бродскому. После двухнедельной обработки по новой методе тебя выпустят на свободу. Ты перестанешь быть номером и пойдешь в огромный мир Алексом. Вот только каким?.. Ну как? Такая перспектива тебя устраивает?
На этот раз я предусмотрительно промолчал, но взбеленившийся старший надзиратель опять заорал:
— Отвечай, грязный поросенок, когда тебя спрашивает сам Губернатор.
Я опять пожал плечами и послушно ответил:
— Да, конечно, сэр. Большое спасибо, сэр. Видит Бог, я старался вести себя здесь примерно. Я очень благодарен всем, кто занимался моим перевоспитанием.
Я взял ручку и поспешно подписал свой приговор, боясь, как бы он не передумал.
— Ну что ж, парень. Ты сам выбрал свою судьбу, — задумчиво произнес Губернатор.
— С ним хотел переговорить тюремный капеллан, сэр, — сказал старший надзиратель.
— Валяйте, — сделал умывающий руки жест Губернатор.
Наш капеллан сидел в своем офисе за конторкой. Приблизившись к нему, я обонял исходившую от него приятную вонь дорогого виски и злопухоли. Увидев меня, он встрепенулся:
— А, это ты, маленький 6655321! Проходи, садись. Он задумчиво посмотрел на меня. Я ответил выжидательным взглядом. Потом он заговорил очень искренне и чистосердечно:
— Прежде всего я хотел тебе сказать, что не имею к этому никакого отношения. Если бы я мог протестовать, то обязательно бы протестовал против того, что с тобой хотят сотворить. Но что мой слабый голос по сравнению с хором власть предержащих?! И потом, это означало бы конец моей карьеры. Надеюсь, ты меня понимаешь?
Я кивнул, хотя не очень-то понимал, к чему он клонит.
— Здесь затронуты очень серьезные этические проблемы, — продолжал священник. — С одной стороны, тебя трансформируют в очень порядочного покладистого парня. После лечения у тебя никогда в жизни не возникнет желания совершить насилие или нарушить общественное спокойствие каким-либо иным способом. Тебе все понятно?
— Конечно, сэр. Будет просто здорово снова стать добродетельным…
Я произносил эти слова, а самого внутри раздирал смех.
Но тут капеллан стал говорить очень странные вещи.
— Иной раз доброта — хуже воровства. Бывают ситуации, когда доброта, непротивление злу превращают тебя в преступника или в лучшем случае — в соучастника преступления. Наверное, это звучит парадоксально, особенно из уст служителя Бога. Мне еще предстоит провести много бессонных ночей. Что в конце концов нужно Богу? Доброты как таковой или же права выбора и добровольного перехода на сторону добрых сил? Человек, выбравший Зло, в определенной степени лучше того, кого принудили к Добру. Это глубокие философские и этические категории, маленький 6655321. Еще далеко не изученные. Я не смогу их сейчас тебе объяснить, потому что сам не разобрался в них до конца. Единственно прошу запомнить, Алекс-бой. Если когда-нибудь в будущем ты оглянешься назад на этот период твоей жизни и вспомнишь меня — слабого человека и покорнейшего из слуг господних, — не подумай, что в моем сердце была хоть капля зла и я приложил руку к бесчеловечному эксперименту… Тебя лишат основной движущей жизненной силы, позволяющей чувствовать то, что ты еще жив, — извечной борьбы заложенных в тебе доброго и злого начал. Ты станешь одномерным механизмом. И никакие мои молитвы не помогут тебе, так как ты будешь вне досягаемости моих молитв. Это страшная вещь, если вдуматься. И все-таки, согласившись на то, чтобы тебя лишили этического выбора, ты подсознательно стремишься на сторону светлых сил. Мне бы хотелось верить в это, как и в то, что Господь Бог поможет нам…
Кончив свою не очень-то понятную мне проповедь, капеллан заплакал, в то время как меня разбирал безудержный смех, и я с трудом сдерживался, чтобы не захохотать ему в лицо. Неожиданные слезы этого дурня я приписал действию "Белой лошади" и, наверное, был недалек от истины. Не стесняясь меня, он вытащил из конторки ополовиненную бутылку с гривастой лошадиной головой на этикетке и налил на три пальца в грязный стакан. Засадив вискарь одним глотком, он произнес, как бы разговаривая сам с собой:
— А может быть, все обойдется и я зря беспокоюсь? Пути Господни неисповедимы…
На следующее утро я распрощался со старой Стаей и сделал это с печалью, ибо грустно расставаться с местом, к которому привык, даже с таким пакостным. Но далеко я не ушел, други мои. Меня препроводили в белые корпуса здесь же, на территории тюрьмы, неподалеку от спортивной площадки. Здания были совершенно новые, со специфическим холодным запахом, заставившим меня невольно поежиться. Как потерянный, стоял я в неуютном огромном зале без окон, без дверей, дегустируя чуждые запахи — стерильную смесь больницы, новостройки и неизведанности. Откуда-то из потайной боковой двери вышел человек в белом халате и молча расписался в квитанции, будто за посылку. Доставивший меня охранник предупредил, кивнув в мою сторону:
— С этим типчиком будьте поосторожнее, док. Он как был, так и остался насильником и убийцей, несмотря на то, что сумел подъехать к нашему капеллану и усердно мусолил Библию.
У доктора были веселые, насмешливые голубые айзы. Когда он говорил, его тонкогубый рот растягивался в смайл, который невозможно было истолковать. Так вот, он сказал:
— О, мы не будем больше безобразничать, правда, Алекс? Мы будем друзьями.
Его лицо озарилось такой белозубой, доброй, открытой улыбкой, что я сразу проникся к нему симпатией. Охранник ушел, и мой новый фрэнд передал меня какому-то менее важному человеку в халате, а тот отвел в очень хорошую, чистую, светлую спальню со шторами на окнах и настольной лампой на прикроватной тумбочке. Оставшись один, я радостно рассмеялся, подпрыгивая на новом пружинистом матрасе. Какой же ты все-таки счастливчик, Алекс!
С меня сняли ужасную арестантскую одежду и выдали красивую шелковую пижаму в цвет постельному белью. Поверх пижамы я надел теплый шерстяной халат и войлочные тапочки прямо на босу ногу, не переставая удивляться, какое счастье мне подвалило. Пока что мне все здесь нравилось. Впервые за многие месяцы симпатичный санитар с фигурой культуриста принес большущую чашку ароматного дымящегося кофе и свежие газеты. Я с жадностью набросился на них и не заметил, как в комнату вошел тот, первый улыбчивый мэн, расписавшийся в моем получении.
— Ага, вот ты где! — с наигранной веселостью воскликнул он, будто только сейчас нашел меня. — Меня зовут доктор Брэном. Я помощник профессора Бродского. С твоего позволения я проведу обычный медицинский осмотр. — Он вытащил блестящий стетоскоп из нагрудного кармана. — Надо убедиться в том, что ты абсолютно здоров… физически. Согласен?
Еще бы я не был согласен! Я с готовностью скинул верх пижамы и проделал все, что мне приказывал, нет, скорее просил, любезный док. Наконец, любопытство взяло верх, и я поинтересовался:
— Что вы собираетесь со мной делать, сэр?
— О, ничего особенного, — легко ответил док, шаря стетоскопом по моей голой спине, словно минер миноискателем. — Наша методика очень проста, как все гениальное. Мы просто будем показывать тебе фильмы.
— Фильмы? — искренне удивился я. — Вы хотите сказать, что мы с вами будем смотреть обычное кино?
— Не совсем, — спокойно ответил Брэном. — Это очень специфические фильмы. После обеда первый сеанс. — Он ободряюще похлопал меня по плечу. — Ты вполне здоровый молодой человек. Только немного отощал на тюремной пище, если ее можно так назвать. Ну, ничего, мы тебя подкормим. Можешь надевать пижаму. — Он присел на край кровати. — После каждой еды мы будем делать тебе укол, способствующий восстановлению сил.
Меня захлестнула теплая волна благодарности этому человеку, приятному во всех отношениях. Я понимающе улыбнулся и спросил:
— Наверное, какие-то витамины, сэр?
— Н-да… Что-то в этом роде. Один укольчик в руку после завтрака, обеда и ужина.
Доктор вышел, а я улегся на прохладные хрустящие простыни, ощущая себя на седьмом небе, и принялся листать "Уорлдспорт", "Синни" (журнал о новостях кино) и "Гоал" ("Цель"). Просмотрев журналы, я блаженно закрыл глаза и погрузился в мечты о том, как будет здорово, когда я выйду на волю. Найду какую-нибудь непыльную дневную работенку, так как мое образование можно считать законченным. Сколочу новую банду и перво-наперво достану этих подонков — Кира и Пита, если их уже не заграбастали копполы. На этот раз буду более осторожным, чтобы меня опять не упаковали. Добрые люди дают мне шанс, несмотря на совершенное убийство и все прочее. Будет просто глупо, если меня опять отловят после лечения всеми этими кинофильмами, с помощью которых я стану опять хорошим мальчиком. В душе я потешался над наивностью всех этих доброжелателей и не смог скрыть улыбки от уха до уха, когда тот же самый "культурист" принес на подносе завтрак для Его Величества Александра Великого.
Санитар изучающе посмотрел на меня и сказал:
— Приятно видеть счастливого человека. Он поставил поднос и молча удалился. После арестантской жратвы передо мной стояла пища богов: три добрых ломтя ростбифа с пылу-жару, картофельное пюре с овощами, фруктовое мороженое и огромная чашка крепкого дымящегося чая. На подносе даже лежали дорогая злопухоль и коробок спичек с одной спичкой. Вот это жизнь! Вот это я понимаю!
Примерно через полчаса, когда я расслабленно лежал на кровати, с упоением ковыряя спичкой в зубах, в комнату вошла симпотная молоденькая цыпочка. На ней был белый халатик, перетянутый в тонкой талии пояском. А какие у нее были груди! Я ни разу не видел таких за два года пребывания в тюрьме. В руках у нее был блестящий поднос, на котором лежал наполненный шприц.
— А вот и витаминчики! Может быть, ты сделаешь мне укольчик в попку, крошка?
Она никак не отреагировала. Бесстрастно засадила мне иглу в левую руку и направилась к двери, дразня меня точеными ножками. Едва она вышла, как появился мой медбратишка с носилками-тележкой. Это меня удивило, и я спросил:
— Послушай, дружище. Зачем же инвалидная коляска? Я прекрасно могу передвигаться на своих двоих.
— Нет, уж лучше тебе лечь сюда, парень, — возразил медбрат.
И действительно, когда я встал с кровати, то почувствовал странную слабость и головокружение. "Проклятые рудники, — подумал я, с трудом укладываясь на тележку, — подточили силы железного Алекса. Ну, ничего! Витамины быстро помогут мне обрести былую форму. А теперь посмотрим киношку".
4
Меня откатили в самый необычный кинозал, который я когда-либо видел. Правда, одна стена представляла собой большой шелковый экран, а в противоположной стенке черными ртами зияли две квадратные амбразуры, из которых торчали дула проекционных аппаратов. Повсюду были понатыканы стереодинамики, как у меня дома. Но на этом сходство с обычным кинозалом кончалось. Так, на правой стене располагалась панель со множеством разных сенсоров, датчиков и индикаторов, от которых к центру комнаты тянулась паутина всевозможных проводов. Посередине зала, напротив экрана, одиноко стояло кресло, похожее на кресло дантиста. Не без помощи медбрата я слез с коляски и уселся в это страшное кресло. Беспокойно завертев головой по сторонам, я заметил под амбразурами небольшие оконца с морозчатыми стеклами, за которыми кто-то осторожно покашливал: "Кашль-кашль-кашль…". "Что же со мной происходит? — пронеслось в голове. — Наверное, так сказывается переход на обильную пищу и витамины".
— Я тебя на время покину, — сказал медбрат. — Сиди спокойно. Сеанс начнется через несколько минут, сразу же как приедет доктор Бродский. — Он как-то странно усмехнулся. — Надеюсь, кино тебе понравится.
Сказать по правде, други мои, мне уже было не до кино. Единственное, что я хотел, так это подавить подушку минут эдак шестьсот. Мне очень не нравилось мое полувзвешенное, полуобморочное состояние. Откуда-то из темноты материализовался незнакомый человек в белом халате, сингинг какой-то пошленький шлягер. Он бесцеремонно притянул мою хэд ремнями к подголовнику так, что я не мог ее повернуть и сидел, уставившись в экран, как баран на новые ворота.
— А это еще для чего?! — запротестовал я.
Медмэн на минуту перестал мурлыкать свой глупый сонг и терпеливо объяснил, что это сделано для того, чтобы я не отворачивал свой фейс от скрина.
— Но с какой стати я буду его отворачивать? — искренне удивился я. — Ведь я же сам, добровольно, согласился смотреть кино. Я его очень люблю…
Тут другой медмэн (а всего их было трое, включая девицу, манипулировавшую ручками на приборной панели) издал неприятный смешок и двусмысленно произнес:
— Смотря какое кино. — Потом, спохватившись, добавил: — Не волнуйся, парень. Так надо.
И тут они ловко притянули ремнями мои руки и ноги к подлокотникам и ножкам кресла. Потом установили его под углом в сорок пять градусов к экрану. Все это было любопытно и очень странно, Ну, да Бог с ними! Пусть делают, что хотят. Лишь бы выпустили через пару недель, как обещали, однако больше всего мне не понравилось, когда они принялись подсоединять ко мне какие-то датчики, а потом с помощью сильных зажимов притянули кожу со лба к затылку, мои веки полезли на лоб, а глаза выпучились, будто у мороженого судака,
Теперь я не мог закрыть глаза, как бы ни старался. Я вымученно рассмеялся и заметил:
— Наверное, это какой-то очень клевый фильм, если вы так беспокоитесь о том, чтобы я его посмотрел.
— Ты прав, парень, — рассмеялся в ответ один из медмэнов, — Отличный фильм ужасов. Надеюсь, он тебе понравится,
Тут они надели мне на голову стальную каску со множеством проводов, а на животе установили присоску с метрономом и толстым кабелем, чей конец терялся где-то на панели.
Наконец все приготовления закончились, и в зал вошел какой-то важный чиф, Я понял это по разом смолкнувшим голосам медмэнов. И тут я впервые увидел доктора Бродского. Это был толстяк маленького роста, но с огромной полуголой-полукучерявой головой. На лице большие очки в роговой оправе, оседлавшие темно-бордовый, как у индюка, нос. На докторе был прекрасный сьют, скрадывавший все дробэкс его фигуры, и исходил очень специфический запах парикмахерской и операционной. Вошедший вместе с ним д-р Брэном ободряюще мне улыбнулся.
— Все готово? — начальственным тоном спросил доктор Бродский.
Отовсюду раздались утвердительные ответы, и тут же послышалось слабое жужжание многочисленных приборов. Свет в зале погас совсем, и ваш покорный рассказчик оцепенело уставился на высветленный экран, не в силах пошевелиться или оторвать от него взгляд. И тут, друзья мои и братья, началась демонстрация кинофильма, сопровождавшаяся оглушительной какофонией диссонирующей музыки, лавиной обрушившейся на меня из всех лаудспикеров. Перед моими глазами замелькали кадры без названий и титров.
Ночь. Пустынная улица, какую можно найти в любом городе. Ярко горят оборванцы-фонари. Зловещая музыка нагнетает атмосферу безотчетного страха, сменяющегося звериным ужасом. По улицам бредет старый согбенный человек, и вдруг, откуда ни возьмись, на него набрасываются два парня и принимаются методично его избивать. Крупным планом его обезумевшее от боли и страха лицо, по которому струится ярко-красная кровь. Все выглядит очень натурально, как бы отснятое скрытой камерой.
Вырывающиеся из лаудспикеров стоны, вопли избиваемого и ожесточенное сопение хулиганов еще более усиливают эффект. Развлекающиеся бойзы, в которых мне чудятся Кир и Джоша, на глазах превращают бедного старикана в сплошное кровавое месиво, довершая свое грязное дело ударами кованых бутс по безжизненному телу. Леденящий душу хруст костей. Убийцы бросают труп (в том, что он — труп, у меня нет никакого сомнения) в придорожную канаву и скоренько сматываются. Заключительный кадр этого эпизода выхватывает обезображенное лицо трупа.
С первых кадров этого, с позволения сказать, фильма где-то в глубине моего существа зарождается и медленно нарастает омерзительное ощущение — как будто я проглотил скользкую холодную жабу и она плавает у меня в желудке. Появление этого странного чувства я приписал долгому недоеданию и неприспособленности моего желудка к жирной обильной пище и к введенным накануне витаминам. Я попытался подавить новое ощущение и переключил внимание на второй эпизод, последовавший сразу же за первым. Теперь те же мальчики отловили где-то молоденькую девчонку и, сорвав с нее одежду, по очереди делали с ней знакомое "туда-сюда-туда-сюда". Откуда-то подгребали все новые и новые парни, и она все шла и шла по кругу, рыдая и взывая о помощи. Но фрэнды только весело смеялись, наслаждаясь ее страданиями, Нечеловеческие вопли бедной герлы, казалось, вливались прямо мне в душу. Им вторила полная трагизма симфомузыка. Все выглядело очень натурально, я невольно подумал, что это, должно быть, документальные кадры или же мастерски сделанный монтаж. Во всяком случае, никто из актеров не согласился бы сыграть такое. В тот момент, когда к герле приступил шестой или седьмой озверевший бой и из лаудспикеров снова раздались ее душераздирающие крики, я почувствовал себя по-настоящему больным. Накапливавшаяся внутри боль взорвалась и заполнила каждую клеточку моего организма. Я рванулся, но ремни держали крепко. Хотел выблевать их паскудный завтрак — и не мог. После этого эпизода раздался резкий, неприятный голос доктора Бродского, бесстрастно констатировавший: "Коэффициент реагирования выше двенадцати с половиной. Неплохо. Совсем неплохо".
На экране появился следующий кадр. На этот раз это было просто человеческое лицо, мертвенно-бледное и все-таки живое. На моих глазах оно подвергалось ужасным трансформациям. Кто-то, находившийся за экраном, с садистским наслаждением измывался над своей жертвой. Я страшно вспотел. И без того невыносимая боль стала еще сильнее. Очень хотелось дринк, казалось, язык намертво присох к гортани. Я больше не мог этого вынести. Если бы только можно было отвернуться от экрана! Тогда бы моя пытка закончилась. Но я не мог даже закрыть глаза. Все мое нутро взбунтовалось, и начались икота и рыгательные спазмы, когда я увидел, как бритва полоснула сначала по одному глазу, и он медленно вытек, потом по другому… Потом начала резать щеки, губы, нос… Яркая алая кровь брызнула в камеру, казалось, что прямо мне в лицо, и я физически ощутил ее тепло. Но это было еще не все. Кто-то невидимый принялся плоскогубцами выворачивать зубы. В общей агонии смешались ужасная боль (моя и жертвы), стоны, всхлипы, хрипы, пот, слезы и кровь, кровь, кровь…
Откуда-то издалека в мое помутившееся сознание проник спокойный, довольный голос главного экзекутора: "Превосходно! Великолепно! Даже лучше, чем я ожидал!" Следующий отрывок этого бесконечного фильма ярко напомнил мне один из эпизодов моей прошлой жизни: группа разбушевавшихся тинэйджеров в безумном безудержном веселье громила магазинчик какой-то беспомощной старухи. В былые времена это называлось у нас шоппингом. Женщина ползла в луже собственной крови, волоча за собой сломанную ногу, как старая птица перебитое крыло. Покрушив все что можно, развеселившиеся бойзы подожгли лавку, и я увидел агонизирующее лицо ее хозяйки, сжигаемой заживо, и даже почувствовал запах горелого человеческого мяса. Тут я не выдержал и заорал благим матом:
— Мне плохо! Меня тошнит, мать вашу… Дайте мне куда-нибудь выблеваться!
— Все нормально. Это тебе только кажется. Сейчас будет заключительная серия, — успокоили меня, и в зале раздался смех.
Если это был юмор, то я бы назвал его черным, так как на экране стали показывать самые изощренные пытки, применявшиеся японцами во время второй мировой войны. Я видел солдат, прибитых гвоздями к деревьям, под ногами которых были разложены костры. Видел, как им отрезают гинеталии и отсекают головы короткими самурайскими мечами, и они катятся, катятся, не переставая издавать леденящие душу звуки. Из обезглавленных туловищ хлещет кровища, а японцы с хохотом фотографируются на память…
— Прекратите! Пожалуйста, прекратите! Я больше не могу этого вынести! — взмолился я, чувствуя, что вот-вот потеряю сознание.
— Прекратить? Ну зачем же, Алекс-бой? Мы только начали, — раздался издевательский голос доктора Бродского, а остальные засмеялись, как те японцы…
Наконец пленка кончилась, и Главный Садист произнес, удовлетворенно потирая толстые ручонки:
— Для первого раза достаточно. Как ты считаешь, Брэном?
Симпатяга Брэном лишь улыбнулся своей кроткой светлой улыбкой.
— Ну вот и хорошо, — сказал Бродский. — Можете отвезти пациента в его палату. — Он подошел ко мне и отечески похлопал по плечу. — Все идет отлично, парень. Очень многообещающее начало.
Доктор Брэном одарил меня "я-тут-ни-при-чем" улыбкой, и я теперь не знал, что о нем и думать. Меня отвязали, сняли железный обруч с раскалывающейся головы и ужасные зажимы с воспаленных глаз. Пересадили в коляску, и медмэн покатил меня по длинным коридорам, напевая какую-то пошлятину про "красотку Мэри".
— Заткнись, пока я тебе не дал в нюх! — раздраженно гаркнул я. Он только снисходительно похлопал меня по плечу и запел еще громче. Я чувствовал себя препохабнейше, как изнасилованный, и заорал, выплескивая все свое презрение к этой белохалатовой сволочи.
После этого мне полегчало. Меня обмыли, поменяли одежду и уложили в постель. Принесли большую чашку крепкого чая со сливками и массой щугера.
Наверное, это был кошмарный сон, и все это было не со мной…
Впалату робко вошел доктор Брэном. Лицо егоизлучало доброжелательность.
— Ну, как наши дела, друг мой? — бодренько спросил он. — По моим расчетам, ты уже должен был прийти в норму.
— Это по вашим… — обиженно буркнул я. Сделав вид, что не замечает моего враждебного тона, Брэном присел на край бэд и с энтузиазмом произнес:
— Доктор Бродский очень доволен тобой. У тебя поразительная положительная реакция, с очень высоким коэффициентом. На завтра запланировано два сеанса: утром и вечером, — обрадовал он меня. — Конечно, к концу дня тебе будет муторно. Но ничего не поделаешь. Придется потерпеть, если хочешь вылечиться от синдрома насилия. Клин клином вышибают, знаешь ли… Главное— выработать иммунитет против агрессии.
— Вы что, совсем с катушек слетели?! — возмутился я. — Неужели вы хотите заставить меня смотреть эту порнографию по два раза на день? Побойтесь Бога! Ведь это ужасно!
— Конечно, ужасно! — с улыбкой согласился доктор Брэном. — Но ведь раньше ты думал по-другому? Это первые плоды твоего лечения. Ты осознал, что любое насилие — ужасно. Постепенно у тебя выработается физическое отвращение к нему. Весь твой организм будет восставать при одной только мысли о насилии.
— Меня уже начинает выворачивать при виде этих ужасных сцен. Раньше со мной не было ничего подобного. Как раз наоборот. Ничего не понимаю…
— Жизнь — удивительная штука, — голосом пророка изрек доктор Брэном. — Кто способен до конца постичь скрытый смысл жизненных явлений и процессов, тайную механику и неизведанные возможности человеческого организма? Доктор Бродский, конечно, замечательный человек, и его метода — великое достижение человеческого гения. То, что происходит с тобой, и должно происходить с любым нормальным психически и здоровым физически человеческим организмом перед лицом воздействия сил Зла, исповедующих принцип разрушения. Мы перетягиваем тебя на сторону Добра, и перетянем, хочешь ты этого или не хочешь…
— А на фига мне такое лечение, от которого мне все хуже и хуже? — искренне возмутился я.
— Чтобы выздороветь, нужно переболеть. Очищение через страдание. Все вполне логично и в духе христианской морали.
Он встал, ободряюще похлопал меня по ноге и вышел, оставив наедине с моими сомнениями. По его словам выходило, что все эти гнусные фильмы, препараты и аппараты служили для моей же пользы. Я так толком и не решил, сопротивляться ли завтра, когда они попытаются подсоединить их ко мне или сделать инъекцию, устроить красивый файтинг или же смириться со своей судьбой. Да, собственно говоря, кто они такие, чтобы определять мою судьбу!
6
— Прекратите! Кончайте! Завязывайте! — орал я как сумасшедший. — Я больше не могу! Сжальтесь!
Это происходило на следующий день, и хотя все утро я старался быть примерным послушным мальчиком, под конец не выдержал и начал костерить своих мучителей многоэтажным трущобным матом, начисто забыв о присутствии в зале представительницы прекрасного пола. Как и во время первого сеанса, я сидел, прикованный к креслу пыток, и вынужденно таращился на экран, на котором мелькали полные грубого натурализма кадры. Поначалу в них не было ничего страшного. Несколько веселых ребят лихо потрошили какую-то лавку, набивая карманы деньгами и всякой всячиной и пуская кровь слабо сопротивлявшейся старой жидовке-хозяйке. Но когда из ее разбитого рта, носа и ушей потекла кровь, я ощутил зловещие симптомы, мучившие меня в течение последних суток. Постепенно они переросли в нестерпимую боль, и я задергался в кресле, тщетно пытаясь освободиться.
— Превосходно! Высший класс! — возрадовался д-р Бродский, не обращая внимания на проклятия в свой адрес. — Все идет как надо. Еще немного, и мы закончим.
Перед моими глазами замелькали кадры немецкой военной кинохроники, предваряемые свастикой, штандартами и хищным орлом. По дымным улицам разбомбленных городов вышагивали высокомерные, надменные гусаки-нацисты. Упитанные самодовольные мордовороты, орудуя прикладами, выгоняли из развалин редких, насмерть перепуганных жителей. Вот они уже голые стоят на краю рва и падают в него, скошенные пулеметной очередью, — женщины, дети, старики. Озверевшие солдаты добивают раненых и крючьями стаскивают их в ров… Ходячие скелеты… дымящиеся печи крематориев жадно заглатывают все новые и новые жертвы… кучи человеческих костей… улыбающиеся немецкие бюргеры, удобряющие поля человеческим пеплом… сувениры из черепов и натуральной человеческой кожи…
Я мечусь, задыхаюсь, как будто расстреливают меня, сжигают меня, сдирают мою кожу… Все эти варварские сцены сопровождаются громкой музыкой моего любимого Людвига Ивана Бетховена, кажется, его "Пятой симфонией". И это ужасно вдвойне. Богохульники! Я негодую и гневно кричу:
— Сейчас же прекратите, вы, исчадия ада! Фашисты! Для вас нет ничего святого. Это же грех, грех, грех!
Еще минута-две. На экране снова свастика и крупно: "КОНЕЦ".
Загорелся свет, ко мне подошли д-р Бродский и д-р Брэном. Бродский был чем-то озадачен.
— Что это ты там верещал насчет греха, парень?
— А то, что вы не вправе использовать божественную музыку Бетховена в ваших гнусных фильмах, — злобно отвечаю я, проглатывая противную горькую слюну. — Он никому не причинял вреда. Просто писал потрясающую музыку.
Тут мне стало совсем худо, и мне живо принесли судно в форме почки.
— Музыка, говоришь… — задумчиво произнес Бродский. — Я и не знал, что ты у нас меломан. То-то я поражаюсь твоему необычайно высокому коэффициенту реагирования. Значит, музыка может быть полезным и очень эффективным эмоциональным возбудителем. Как мы с тобой выпустили это из виду, Брэном?
— Ничего не поделаешь, малыш, — сказал Брэном. — Каждый человек убивает то, что любит, как сказал философ. Может быть, поэтому мы так жестоки и бессердечны по отношению к своим близким. Вероятно, в этом есть элемент наказания. Божьей кары, если хотите…
— Хватит философствовать! Ради Бога, дайте мне чего-нибудь попить.
— Развяжите его, — распорядился д-р Бродский, — и принесите холодного лайм-джуса.
Меня освободили, и я долго пил ледяной джус с водой и никак не мог напиться. С интересом наблюдая за мной, д-р Бродский заметил:
— А ты довольно интеллигентный молодой человек, Алекс. И не лишен вкуса. И как только в тебе уживаются две такие противоречивые вещи: насилие и музыка? Хотя самые отъявленные из фашистских преступников тоже считали себя интеллигентными людьми и обожали классическую музыку… Да, насилие и разбой: второе как один из аспектов первого…
Я молчал, постепенно приходя в себя.
— Кстати, как ты относишься к нашему курсу лечения? Что, по твоему мнению, мы с тобой делаем?
— Заставляете меня страдать, показывая эти садистские фильмы, — выпалил я. — Подозреваю, что в этом повинны не одни только фильмы. Однако уверен, что перестану болеть, как только вы перестанете мне их показывать.
И тут меня осенило! Как я раньше до этого не дотумкал? Ну, конечно же! Во всем виноваты эти "витаминчики", которые они мне упорно засаживали после каждого фуда.
— Теперь я понял, грязные обманщики! — вскричал я. — Как это подло с вашей стороны проделывать со мной такие бесчеловечные трюки! Ну, уж теперь-то я не попадусь на вашу удочку. Отныне никаких уколов!
— Я ждал, что ты затронешь эту тему, — невозмутимо произнес д-р Бродский. — Давай договоримся раз и навсегда. Мы можем вводить тебе препарат Лудовико разными путями. Скажем, орально в виде таблеток или подмешав его в пищу. Но подкожное введение — самое эффективное. И не противься этому… если хочешь поскорее вылечиться и выйти на свободу. На твоем месте я бы лучше сотрудничал с нами во всем… Две недели и двенадцать лет. Подумай!
— Коварные подонки, — прошептал я еле слышно. — Вы загоняете меня в угол. Черт с вами! Я не против ваших изуверских методов. Только музыку оставьте в покое. Было бы верхом несправедливости, если бы я каждый раз помирал, слушая Людвига Ивана, Генделя и других. Хоть вы и беспринципные сволочи, у которых нет ничего святого, но вот этого я вам никогда не прощу.
Они напряженно раздумывали над моими словами. Эти бронтозавры были непробиваемы. Наконец, д-р Бродский изрек:
— Определить ту единственно верную грань труднее всего. Мир один, и жизнь одна. Даже самые богоугодные деяния порой связаны с насилием. И такие высокие категории, как Любовь, Музыка, не являются исключениями. Взять хотя бы сам либес акт. Придется рискнуть, тут ничего не поделаешь… Ты сделал свой выбор, парень.
Я не совсем понимал все эти премудрости, но поспешил согласиться:
— Можете не продолжать, сэр. — Я решил подпеть ему и посмотреть, что из этого получится. — Вы убедили меня в том, что весь этот дратсинг, жестокость и ультранасилие — страшное преступление против человечества. Я усвоил преподанный вами урок, сэры. Вы открыли мне айзы, и я излечился, слава Богу…
Я упивался своим красноречием, представляя Авраама Линкольна и Мартина Лютера Кинга в одном лице, но мои разглагольствования прервал въедливо-недоверчивый смех д-ра Бродского:
— Тебя послушать — ну ни дать ни взять кающаяся Магдалина, — с издевкой произнес док (и почему они все время сравнивают меня с этой библейской курвой?). — Ты прав: покаяние— это важная морально-этическая категория. Но ты для этого еще не созрел. Позволь уж нам решать, что для тебя лучше… Однако выше голову, парень. Ты на пути к реабилитации и менее чем через две недели превратишься в качественно новую личность. И не через какое-то там абстрактное покаяние, а благодаря последнему достижению медицинской науки.
Он сказал "две недели", но они, о друзья мои и братья, показались мне дольше века. За это время я прошел весь путь человечества от сотворения мира и до его далекого будущего. Клянусь мамой, четырнадцать лет в Стае показались бы санаторием по сравнению с тем, что мне пришлось пережить за эти проклятые фортнайт.
Сюжеты повторялись с убедительным постоянством: изнасилования, пытки, концлагеря,расстрелыивсевозможныеэкзекуции с повешением, обезглавливанием и обесчлениванием. С каждым днем во мне росло отвращение и желание умереть, чтобы не видеть всего этого. В одно утро я не выдержал и попытался натянуть ноуз моим торчерам. Разбежался и впендюрился башкой в стену. Но и тут они одержали верх, так как я увидел насилие над собой как бы со стороны и тут же начал кидаться съеденными за завтраком стейками.
Еще через два дня я проснулся, как ни странно, без обычной головной боли. С аппетитом заглотил яйца, тосты, густой чай и принялся терпеливо ждать сестру милосердия с ее чертовым шприцем. По моим грубым прикидкам, до окончания двухнедельного срока оставалось не более трех дней. Выдержу! Не сдохну назло всем им!
Шло время, а стерва в халате все не шла и не шла. Вместо нее в палату зашел улыбчивый медмэн и сказал с приятным смайлом:
— Сегодня, дружище, пойдешь самостоятельно.
— Пойду? Это еще куда? — удивился я.
— Куда обычно, — ответил он, забавляясь моим искренним недоумением. — Да, да. Не удивляйся. На сегодняшний сеанс пойдешь сам. Я, конечно, буду тебя сопровождать, но с инвалидными колясками отныне покончено.
— А как же насчет этой гипердерьмовой инъекции?
Я действительно был поражен, так как они придавали огромное значение модификатору Лудовико.
— Эта процедура закончена, — усмехнулся медбрат. — Может быть, ты против? Ах, не против? Ну, смотри… Теперь все зависит только от тебя самого. Правда, на первый раз мы пристегнем тебя к пыточному креслу… На всякий случай… а там посмотрим. Ну, так ты идешь?
Я накинул халат, вдел ноги в мягкие шлепанцы и смело проследовал в обитель маркиза де Сада.
Во время этого сеанса я напряженно прислушивался к собственным ощущениям. С первой же сцены насилия (взвод оголтелых эсэсовцев натуралистически вырезал какую-то польскую семью, зверски насилуя мать и трех се малолетних дочерей на глазах у распятых отца и братьев) у меня появились обычные симптомы: темные круги перед глазами, тошнота, ужасные спазмы и страшное жжение во рту. Не в силах оторваться от экрана, я тем не менее отчетливо сознавал, что на сей раз все это происходит со мной естественным путем, а не под воздействием стаффа Лудовико. Неужели они инфицировали мне эту гадость на всю оставшуюся жизнь? Скоты! Ублюдки! Фашисты!
От такого открытия я заплакал как литл бэби, но мсдмэны быстро подскочили ко мне и вытерли слезы платками, чтобы, не дай Бог, я не пропустил творящихся на экране зверств.
После ужасного открытия я впал в глубочайшую депрессию. Лежа ночью в кровати, я проклиналсвое легкомысленное согласие подвергнуться бесчеловечному эксперименту. Уж лучше бы отволок срок в милой, родной Стае. "Нет, нужно что-то предпринять, пока они совсем не доконали меня. Ведь должен же быть какой-нибудь выход?". Лихорадочно перебирал я в уме возможные варианты побега. У меня не было ничего, что я мог бы использовать в качестве оружия. Они предусмотрительно изъяли все режущие и колющие предметы. Каждое утро меня брил один толстый лысый мэн, но при нем постоянно находились два дюжих брата милосердия, зорко следивших за каждым моим движением. Ногти мои были коротко острижены, чтобы я не мог царапаться (хорошо, что зубы не подпилили!). Но я еще не растерял свои дратцевые навыки и вполне мог бы выключить пару охранников. Наконец в голову мне пришла вроде неплохая идея. Я вылез из бэда, подошел к дор и стартид громко барабанить в нее кулаками, вопя как угорелый: "О, помогите кто-нибудь! Ради Бога! Мне плохо, я умираю. На помощь!" Я чуть не осип, когда, наконец, за дверью послышались чьи-то шаги и ворчливый голос медбрата, который обычно приносил мне фуд.
— Что тут происходит? Что это такое ты еще надумал посреди ночи?
— У-ми-р-а-а-ю! — простонал я. — Страшно колет в боку. Боюсь, что это аппендицит. О-о-о!
Он с опаской вошел в комнату, озадаченно глядя по сторонам. Я же притаился за дверью с твердым намерением не упустить свой шанс. Сделав шаг вперед, я уже поднял "утку", намереваясь врезать ему по затылку, и вдруг живо представил, как он будет корчиться на полу, прежде чем я завершу дело ногами… и тут на меня накатила волна неукротимой боли и безотчетного страха, и меня начало корежить, как припадочного. Шатаясь и издавая рыгательные звуки, я сделал несколько шагов к кровати и рухнул на нее с таким ощущением, будто вот-вот умру.
Мой страж в ночном колпаке и длинной рубашке посмотрел на меня со злорадным любопытством, прекрасно понимая, что со мной происходит, и с издевкой произнес:
— Пусть это послужит тебе еще одним уроком, козел безрогий. Ну, чего же ты скис? Вставай и ударь меня. Ты же это задумал, вонючий ублюдок? Вот тебе моя челюсть. Двинь по ней!
Он склонил надо мной ухмыляющееся лицо. Но я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, не причинив себе нестерпимой боли.
— Дерьмо! Теперь ты — кусок дерьма! — с презрением сказал санитар.
Он сгреб меня за грудки, приподнял, как безвольную тряпичную куклу, и звонко отхлестал по мордасам, приговаривая:
— Это тебе за то, что выдернул меня из постели среди ночи.
Удовлетворенно потер руки, вышел и щелкнул ключом. Я же поспешил спрятаться во сне, и последняя моя мысль была о том, что лучше быть избитым самому, чем поднять на кого-нибудь руку.
Мне снилось, что я подставляю обидчику вторую щеку.
7
Я не мог поверить своим ушам, други мои, когда они сказали это. Мне уже казалось, что две недели, о которых они постоянно талдычили, никогда не кончатся. И вдруг…
— Завтра мы тебя выпускаем, парень. Так сказал доктор Бродский. — Тот мэн, что отхлестал меня по щекам однажды ночью, показал большим пальцем куда-то наверх, как будто там был рай и жил сам господь Бог. — Но сегодня тебе предстоит еще одно, последнее испытание. Что-то вроде выпускного экзамена.
Он злорадно ухмыльнулся и сделал загадочную рожу. Мне уже было на все наплевать. Я приготовился отправиться в комнату ужасов, как обычно, в пижаме и шлепанцах. Ан нет! На этот раз они выдали мне мою вольную одежду — тщательно выстиранную и отутюженную. Но самым удивительным было то, что мне даже вернули мою бритву — верную спутницу ночных похождений в былые времена.
Я сосредоточенно переоделся, пытаясь угадать, какую еще бяку они мне приготовили. Меня провели в зал, который заметно преобразился. Пыточное кресло убрали, а вместо него расставили десятка два удобных мягких стульев. В полутьме я отметил, что большинство из них занято публикой, среди которой было много знакомых фейсов: начальник Стаи 84Р (он же Губернатор), красномордый капеллан, главный охранник и даже тот Биг Чиф — безукоризненно одетый министр внутренних дел. Среди белых халатов мелькали еще какие-то люди, но я их не знал.
Среди них вальяжно прохаживались доки Бродский и Брэном, одетые, как именинники. Это был их Великий день, и они с удовольствием разыгрывали из себя радушных хозяев.
Когда меня ввели, д-р Бродский (который скорее походил на преуспевающего дельца) широко раскинул толстенькие ручки и радостно произнес:
— А вот, джентельмены, и сам объект наших исследований. Так сказать, продукт нашего упорного труда, — Он положил мне руку на плечо и пояснил, словно гид в кунсткамере: — Как видите, он бодр, здоров, откормлен. Мы пригласили его сюда сразу после нормального 9-часового сна и обильного завтрака без какой-либо предварительной медикаментозной обработки или гипнотического воздействия. Завтра мы с уверенностью возвращаем его в огромный мир, полностью гарантируя его добропорядочность и доброжелательство по отношению к другим. За две недели мы смогли добиться того, чего обычная тюрьма не смогла добиться за два года, да и вряд ли бы добилась за все четырнадцать лет его срока. Ну, да хватит слов. Лучше всего говорят дела. Итак, к делу. Сейчас вы сами во всем убедитесь. Свет!
Свет в зале погас, и я обалдело стоял в луче прожектора на фоне экрана. Вдруг луч второго прожектора выхватил из темноты неизвестно откуда появившуюся фигуру какого-то здорового мужика, которого я раньше никогда не видел. У него было мясистое усатое лицо и редкие, как бы приклеенные к лысому черепу волосюнчики. На вид ему было лет тридцать-сорок-пятьдесят. Хрен его знает. Одним словом — старый. Он нахально подошел ко мне, сопровождаемый лучом прожектора, и нагло так заявил:
— Привет, навозная куча. Что это от тебя так несет? Ты что, моешься только по праздникам?
Я чуть не поперхнулся от возмущения, так как мылся как раз накануне, а этот гомик, пританцовывая, подошел ко мне и больно наступил мне сначала на левую, потом на правую ногу. Затем, ни с того ни с сего, засунул большой палец мне в нос, так что у меня слезы брызнули из глаз. Продолжая издеваться, этот подонок ухватил меня за ухо и принялся крутить его, как телефонный диск. Публика в зале потешалась, наблюдая эту сцену. Вашему же покорному слуге было не до смеха. Мои нос и ухо горели, и я вежливо так спросил:
— Зачем ты издеваешься надо мной, брат? Ведь я не сделал тебе ничего плохого. И вообще вижу тебя впервые…
— Ах это… — противно захихикал мужик. — Я делаю это (два его вонючих пальца вонзились в мой бедный нос) просто потому, что (больно потянул мое многострадальное ухо) терпеть не могу недоносков вроде тебя… Ну, попробуй что-нибудь мне сделать. Попробуй, ты, трусливый шакалик.
Мне страстно захотелось вмазать ему по хохотальнику или раздвинуть ему наглую улыбку бритвой от уха до уха. В то же время я сознавал, что сделать это нужно молниеносно, пока не накатила привитая мне тошнотворная волна. Но едва я сунул руку в карман, предвкушая то наслаждение, с которым я полосну его по горлу, как в памяти всплыла ужасная картина из показанного мне фильма — с кровью, стонами, вытекающим глазом, — и начался страшный приступ боли и отчаяния. Чтобы прекратить его, я принялся лихорадочно шарить по карманам в поисках чего-нибудь, чем можно бы было ублажить этого наглеца:
сигарет, или денег, или еще чего… Но мои карманы были пусты. В них не было ничего, кроме бритвы, и я смиренно вытащил ее и протянул этому страшному, смеющемуся мэну, униженно умоляя:
— Ради Бога, добрый человек, позвольте мне что-нибудь для вас сделать. Вот, возьмите мою бритву. Она очень хорошая, острая… Маленький презент… Не откажите в любезности… пожалуйста…
— Оставь свои дешевые взятки себе. Меня этим не купишь, грязный ублюдок, — проговорил мой обидчик и ударил меня по протянутой руке.
Бритва со стуком упала на мозаичный пол.
— Ну, пожалуйста, разрешите мне что-нибудь для вас сделать. Хотите, я почищу ваши ботинки? Смотрите, я могу вылизать их вам до блеска.
И, о люди, хотите верьте, хотите нет, я встал на четвереньки, вывалил на полметра язык и принялся жадно лизать его грязные, вонючие штиблеты. Однако вместо благодарности подонок несильно пнул меня ногой в лицо. Боль внутри меня несколько утихла, и я рискнул схватить его за ноги и сильно дернул на себя. Он испуганно ойкнул и рухнул на пол, как куль с дерьмом, под восторженный смех публики. Тут же боль в голове и кишках проснулась, и я поспешно протянул ему руку, помогая подняться на ноги. Мэн рассердился по-настоящему и замахнулся, чтобы съездить по моему беззащитному фейсу, но тут вмешался д-р Бродский:
— Хорошо! Достаточно!
Тут же ужасный мэн опустил руку и раскланялся, как актер после удачного выступления. Загоревшийся яркий свет ослепил меня. Я стоял и бессмысленно хлопал айзами перед возбужденно гудевший аудиторией, не в силах понять, что же со мной произошло.
Как умелый ведущий этого небывалого шоу, д-р Бродский вышел вперед и обратился к собравшимся со следующими словами:
— Как вы сами только что убедились, джентельмены, наш подопечный вынужден делать добро благодаря своей, как ни парадоксально это звучит, предрасположенности к совершению насилия. Каждый приступ агрессивности сопровождается у него мощным физическим дискомфортом, и поэтому он тут же переключается на обратную реакцию. У кого есть вопросы?
— А как же с правом выбора? — раздался густой бас капеллана. — Вы лишили его богоданного права, оставив ему чисто эгоистические мотивы и побуждения. Боязнь физической боли низводит его до крайней стадии самоуничижения. Неискренность его поступков очевидна. Он уже не нарушитель, не преступник, так как вы начисто лишили его понятия того, что есть нарушение или преступление. Вы низвели человеческое право морального выбора до элементарного животного инстинкта!
— Не будем переводить чисто медицинскую, научную попытку пресечения преступности в плоскость морально-этических категорий, — невозмутимо возразил д-р Бродский. — Перед нами была поставлена конкретная задача…
— Которую вы с успехом решили, — вмешался министр. — Поздравляю вас, джентельмены. Это настоящая революция в юриспруденции.
— Которой тут и не пахнет, — буркнул, по-моему, Губернатор.
— А я считаю, что это просто потрясающе, — вмешался кто-то.
И тут все заговорили разом, как будто с цепи сорвались, стараясь переубедить соседа и не слушая никаких доводов. Обо мне, казалось, забыли и обращали внимания не больше, чем на пустующий стул. Наконец я не вытерпел и громко заорал:
— А я?! Как же теперь со мной? Что я вам… вещь или собака?
Они замолчали, как по команде, а потом дружно обрушились на вашего покорного рассказчика, бросая мне в лицо какие-то неприятные гневные слова. Я обиженно прокричал:
— Зачем вы сделали из меня заводной апельсин?! Сам не пойму, почему мне на ум пришли именно эти слова, но все мигом заткнулись и пребывали в ступоре минуту или две. Потом поднялся какой-то хиляк профессорского вида. У него была абсолютно лысая, как бы живущая сама по себе голова-бильярдный шар, сообщавшаяся с туловищем через сотканную из кабелей, проводов и шнуров длинную извивающуюся шею. Так вот что сказал этот гусак:
— Тебе не на кого пенять, кроме как на себя самого, бой. Ты сам сделал свой выбор, все остальное — только его последствия.
Тут наш тюремный капеллан горько выкрикнул с места:
— О, как бы я хотел, чтобы это было правдой! По тому, как на него глянул Губернатор, можно было безошибочно сказать, что ему никогда не занять того поста, на который он нацелился.
Жаркий спор спонтанно возобновился, и вдруг я отчетливо расслышал слово Любовь, прозвеневшее, как упавшая на пол мелкая разменная монета. Пошедший вразнос капеллан (видно, с утра хватил лишку) принялся осенять всех крестным знамением и трубить, будто с амвона:
— Всепоглощающая и всепрощающая Любовь победит всеобщий первобытный Страх и Отчуждение и да будет Добро твориться без ожесточения и не корысти ради…
Видимо, старый поддавала совсем очумел с горя. На него зашикали, и тут вперед снова выступил гид-конферансье Бродский;
— Я рад, джентельмены, что вы затронули извечную тему Любви. Сейчас я продемонстрирую вам ту особую ее разновидность, которая умерла со времен Шекспира и Петрарки, канула в Лету вместе с их Джульеттой и Беатриче.
Он сделал знак пухленькой ручкой. Свет в зале погас, а вспыхнувший прожектор пошарил в темноте и выхватил вашего бедного друга и рассказчика. И вдруг в освещенный лучом прожектора круг из темноты вступило' самое юное, нежное и прекрасное криче, которое мне приходилось видеть. У нее были такие замечательные стоячие груди, проступающие через полупрозрачное воздушное платье, что сладостный спазм охватил мои мигом воспламенившиеся чресла, и что-то ударило мне в хэд. Она как бы летела над полом, едва касаясь его своей изящной ножкой. Где-то я уже видел эту кроткую милую невинную улыбку. Мне показалось, что она спустилась ко мне с небес, и захотелось поиметь ее тут же и сейчас же. Я уже сделал к ней шаг, чтобы разложить ее прямо на полу в своей обычной варварской манере, но по моим кишкам резанула острая боль, выскочившая, как бдительный детектив из-за угла, готовый надеть на меня наручники. Подсознательно пытаясь избежать ареста, я мгновенно отбросил мысль о неуемном блаженстве рэйпинга, пал перед ней на одно колено и произнес самые безумные слова в мире:
— О, красивейшая и прекраснейшая из земных созданий! Позволь мне бросить к твоим божественным стопам мое усталое сердце. Я бы хотел преподнести тебе все розы мира, но они ничто по сравнению с твоей красотой. Если бы сейчас было ненастье, я бы расстелил перед тобой свой плащ, не достойный того, чтобы по нему ступала твоя ножка…
Произнося эти идиотские слова, которые срывались с языка помимо моей воли, как будто их нашептывал сам дьявол, я с облегчением почувствовал, как боль постепенно отступает.
— Позволь мне, — заорал я с еще большим энтузиазмом, — поклоняться тебе, мое божество, и быть твоим защитником и заступником в этом жестоком мире… — Я старательно подыскивал самые правильные, самые проникновенные слова, чтобы доконать боль, пока она не доконала меня. — Разреши мне быть твоим верным рыцарем, о божественная.
С этими словами я распростерся ниц и поцеловал край ее платья.
И тут все закончилось, как если бы это была съемка какого-то фильма о средних веках. Загорелся свет, а моя богиня раскланялась, посылая в зал ослепительные улыбки и начисто игнорируя меня. Стоило так распинаться перед какой-то нанятой статисткой, которую спокойно мог снять любой из присутствующих… кроме меня.
— Он будет благоверным, богобоязненным христианином, — продолжал комментировать д-р Бродский. — Если его ударят по одной щеке, он подставит другую. Он предпочтет быть распятым, чем распинать самому. Теперь он и мухи не обидит…
Уж в чем, в чем, а в этом он был абсолютно прав, друзья мои, так как в тот момент я действительно так подумал, и тут же глубоко внутри зашевелился противный червячок страха и затрепыхалась бабочка боли. Я поспешил отодвинуть эту мысль, представляя, как я кормлю муху шугером и ухаживаю за ней, словно за раненой любимой собачонкой.
— Абсолютная трансформация! — восторгался д-р Бродский, рекламируя свой товар (то бишь вашего покорнейшего слугу). — Теперь он не посрамит нас не только на воле, но и за вратами рая!
— Будущее покажет, какой из него получится ангелочек, — охладил его пыл Министр. — Во всяком случае пока это работает великолепно.
— О, да! — воссиял вспомнивший о карьере капеллан. — Работает, а это — главное! Да поможет всем нам Бог!
ЧАСТЬ III
1
— Ну, и что дальше?
Этот сакраментальный вопрос сверлил мои брейнз, когда на следующее утро я стоял у ворот Стаи 84Р. На мне был мой старый дресс, в котором меня замели два года назад. В руках я держал черный полиэтиленовый пакет с черепом и перекрашенными костями на фоне пачки злопухолей, шприца и пузатой бутылки "Димпл", В кармане позванивали несколько монет, выданных мне заботливой администрацией "на начало Новой Жизни".
После "выпускного экзамена" меня заколебали разные камерамэны и уимены, снимавшие меня и записывавшие мой голос для теленьюс. Ушлые репортеры брали брехливые интервью, чтобы тиснуть их на следующий день в газетах.
Я порядком устал от всех этих паблисити и вьюиси-ти и едва доплелся до бэда. Казалось, не прошло и трех минут, как меня растолкали и сообщили, что уже утро и я могу отваливать на все четыре стороны, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Все горели желанием побыстрее выпихнуть меня на свободу. Даже завтраком не накормили, скоты. Дали чашку чая, сунули убогий пакет с моими нехитрыми пожитками, немного маней, чтоб не сдох с голоду на первых порах, — и под зад коленом. Теперь я был для них не только заводным апельсином, но и выжатым лимоном.
Пока я решил гоу хоум, обрадовать мом и дада и прижаться к их бузом. Приду домой, схаваю все, что есть в холодильнике, улягусь на свою удобную кровать, врублю стереосистему — усладу моих юных дней — и заодно подумаю, что мне делать дальше с моей нелепой жизнью.
Итак, отобас до центра, другой — до Кингсли-аве-ню, и вот я в знакомом квартале 18А. Вы не поверите, но, когда я подходил к своему хаузу, сердце мое трепыхалось, как кок при виде свэлловой девки. Было еще довольно рано, и я не встретил ни одного человека ни на улице, ни в вестибюле, за исключением тех, что олицетворяли на стенах Торжество Свободного Труда. Первое, что удивило меня, братцы, это то, что все мэны и вумэны были подреставрированы. Кто-то очень умный закрасил похабные изречения, лившиеся из их уст, и лишние части тела. Второй неожиданностью было то, что лифт работал! Я нажал кнопку, и он поднял меня на десятый этаж, довольно урча и выпячивая отдраенные стены. К сожалению, на этом неожиданности не кончились.
С замирающим сердцем я подошел к двери 10—8 и, осторожно открыв ее своим ключом, на цыпочках вошел в прихожую.
На меня уставились три пары глаз: две настороженно-испуганные — мом и дада, и одна совершенно незнакомая, но крайне нахальная. Наглая принадлежала здоровенному жлобу в майке и подтяжках, который по-хозяйски расположился на моем месте, с вожделением потягивая чай с молоком и хрустя зажаренным тостом. Ритмично ходили его жернова, приводя во вращательное движение маленькие приплюснутые уши. Увидев меня, предки отвесили от удивления челюсти, а этот питекантроп сделал шумный глоток и раздраженно произнес:
— Это еще что такое? Кто ты, гай? И откуда у тебя ключ? Ну-ка быстро отнеси свою задницу за дверь и постучись, как это делают порядочные люди. Потом объяснишь, что тебе здесь надо.
Мои дад и мом так и продолжали сидеть, раскрыв варежки, и мне до смерти захотелось подойти к ним и помочь им захлопнуть их. Видно, они еще не читали утренние газеты. Наконец мом со страхом прошептала:
— Ты сбежал? Что ж нам теперь делать? Того и гляди сюда нагрянет полиция. Ну за что мне такое несчастье! О-о-о!
И тут она заплакала и запричитала, как по покойнику. Я принялся объяснять, что все в порядке, что меня выпустили и они могут позвонить в Стаю и убедиться в этом. Пока я говорил, незнакомец недовольно сопел, и у меня было такое чувство, что вот-вот он страйкнет мне по фейсу огромным волосатым кулаком и вышибет из меня дух. Я не стал этого дожидаться и вежливо так спросил:
— Позволь теперь мне задать тебе несколько вопросов, братишка. А какого черта ты здесь развалил свою толстую задницу? И, пожалуйста, сбавь тон, если не хочешь получить в нюх. Давай выкладывай!
По виду он был работягой, как мой отец. Такой же грубый, неотесанный, придавленный тяжелым трудом и недостатком интеллекта. Только лет на пятнадцать — двадцать моложе. После моих слов он угрожающе выпучил глаза и сидел, не в силах выдавить из себя хоть слово. Только заглатывал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Поэтому заговорил мой еще больше постаревший конь:
— Все это так неожиданно, сын. Хоть бы дал нам знать, что возвращаешься. Да и то сказать, мы рассчитывали, что тебя выпустят лет через пять-шесть, не раньше. Нет, не подумай, что мы тебе не рады… — Он отвел глаза и тускло добавил: — Это здорово, что ты опять на свободе…
— Ты мне скажи, что это за чучело? Почему молчит? У него что, язык в задницу затянуло? Объясни хоть ты толком, что здесь происходит?
— Это Джо, — тихо произнесла мом. — Теперь он здесь живет. Квартирант — вот он кто. — И она опять завела: — О-о-о!
— Послушай, ты, ублюдок, — оклемался наконец Джо. — Мне все о тебе известно. О том, что ты вытворял и натворил, разбив сердца этих добрых людей, твоих родителей. А теперь ты вернулся, да? Вернулся, чтобы опять превратить их жизнь в ад? Ну уж накось выкуси, — сделал смачную фигу и поднес мне под нос. — Только через мой труп. Потому что они для меня как родные, и я никому не дам их в обиду!
— Ах, вот как! — процедил я, чувствуя, что к глазам подступают злые смешанные слезы страха-боли-отчаяния-беспомощности. — Даю тебе пять минут на то, чтобы ты вымелся из моей румнаты.
И я двинул к своей берлоге и открыл дверь, прежде чем этот хмырь преградил мне дорогу. При виде того, что стало с моей комнатой, мои болзы опустились до самого ковра, а потом, как на резинке, подскочили куда-то к горлу. Теперь это была вовсе нс моя комната, други мои. Услада моей души — стерео — исчезло бесследно, а на месте моих флагов и вымпелов красовались наглые боксерские рожи, и среди них — самодовольная, улыбающаяся пачка постояльца.
— Куда ты подевал мои вещи, вшивый козел? — заорал я, поворачиваясь к питекантропу Джо. Но вместо него вновь ответил дад:
— Все конфисковала полиция, сын. В соответствии с новым постановлением о возмещении ущерба пострадавшим от разбойного нападения.
Я обалдело присел на край стула, а этот благовоспитанный кретин рявкнул, не замечая моего состояния:
— Спроси разрешения, прежде чем плюхать свой грязный зад на чистую мебель!
— Не ори, а то пуп развяжется, козел! — гаркнул я в ответ, но, чувствуя предостерегающий прилив боли, жалобно улыбнулся и добавил уже тише: — В конце концов это мой дом, моя румната, не так ли, друг? Ну, и каково будет ваше решение?
Дад сказал, избегая встречаться со мной айзами:
— Все это надо толком обмозговать, сын. Мы не можем просто так вышвырнуть Джо на улицу. Это было бы не по-людски. Да и потом у нас с ним двухгодичный контракт, ведь правда, Джо?
Тот утвердительно кивнул массивной головой, продолжая стоять с нарочито безразличным, "вам решать", видом. Я видел, что отцу очень неловко, но тут во мне взыграла ревность, и я безжалостно сказал:
— Па-а-нятна-а. Значит, с Джо по-людски, а с собственным сыном? Вы печетесь лишь о своем спокойствии, а на меня вам наплевать. К тому же лишняя деньга, которая никогда не бывает лишней. Сколько он вам платит? Я буду платить вдвое…
— Из воровских денег? Или прикончишь еще кого-нибудь? — с горечью выкрикнул дад, а мать съежилась, как от удара.
И тут, верите ли, я не выдержал и разревелся от жалости к самому себе.
— Лучше бы я остался в тюряге. Там у меня был хоть кров над головой. Ну да Бог с вами. Я двинул, и больше вы меня никогда не увидите. Я пойду своей дорогой. Пусть все это останется на вашей совести.
— Ты не должен уходить с тяжелым сердцем, сын. Ожесточение еще никого не выводило на правильную дорогу.
— Ну, это уже мое дело, отец. Прощайте! Я резко развернулся и пошел к двери, краем глаза заметив, как Джо обнял за плечи и успокаивающе поглаживает тихую плачущую женщину— мою мать.
Так, други мои, я остался без дома, без семьи. Я бесцельно брел по улице под любопытно-настороженными взглядами прохожих. Возможно, некоторые узнавали меня, но большинство недоумевало, что это еще за чудило разгуливает по улицам в легком бумажном сьюте в такой чертовски холодный зимний день? Остальным же было просто на меня наплевать, впрочем, как и мне на них. Единственно, чего мне хотелось, так это ни о чем больше не думать.
Машинально я сел в бас до центра, пешком вернулся до Тэйлор-плейса и остановился перед музыкальным салоном. Здесь все было по-прежнему. Войдя в салон, я поискал глазами тощего, лысого, услужливого Энди, у которого покупал диски в добрые старые времена. Однако его нигде не было видно. Кругом бесились и визжали от восторга надсады и надсадки, слушая последние истеричные хиты, напоминавшие кошкодрание. За каунтером стоял незнакомый гай, немногим старше своих покупателей. Он пританцовывал, щелкая пальцами, и хохотал как безумный. Я скромно растолкал всю эту шелупонь и дождался, пока хитоман обратил на меня внимание.
— Я бы хотел послушать "Сороковую" Моцарта.
— Сорок что? — не понял он.
— Симфонию, друг. "Сороковую" симфонию соль-минор В. А. Моцарта.
— Пройди вон в ту будку, чудик, и я подключу тебе что-нибудь симвоническое.
Я проглотил издевку и вошел в указанный бутик. Надел иэрфоунс и обнаружил, что это не "Сороковая", а "Пражская". Подонок поставил на прослушивание первого Моцарта, попавшегося на полке. "Хрен с тобой! — подумал я. — Главное — не выходить из себя, так как войти в себя потом будет очень трудно…" Но я не учел одну вещь, хотя смутно опасался ее. С мощным крещендо моцартовских аккордов во мне нарастала знакомая боль, доводившая меня до исступления. С диминуэндо она стихала, чтобы через несколько тактов заполнить меня вновь. По-видимому, теперь это навсегда было запрограммировано во мне показом тех садистских фильмов, которые неизменно сопровождались симфонической музыкой. Вот такой надлом, други мои. Медмэны навсегда лишили меня самой большой радости в этой паскудной жизни.
Не в силах вынести разрушительного музыкального резонанса, я заткнул уши и в панике выскочил из салона под смех и улюлюканье мелкоты, которую играючи перемесил бы в прошлые времена.
Я брел по улице как слепой, пока не увидел перед собой "Коровяку". Теперь я понял, что мне нужно. В стекляшке было непривычно тихо, а за стойкой стоял совершенно незнакомый мэн.
— Биг поршн молока с плюсом, — заказал я. Мэн понимающе кивнул, заговорщицки повозился под каунтером и протянул мне здоровенную кружку с белым напитком. Чтобы лишний раз не мозолить глаза, я удалился в одну из зашторенных кубиклз, уселся на плюшевое кресло и пил, и пил, и пил, чувствуя, как постепенно улетучивается накопившаяся во мне мерзость.
Когда я додринкал все молоко до последней дроп, со мной стали происходить странные странности. Я уставился на валявшуюся на полу серебряную обертку от пачки злопухолей, и она вдруг начала расти, расти, заливая все вокруг ослепительным светом. Вот она заполнила кабинку, "Коровяку", улицу, город, мир, вселенную. Я болтался где-то посередине и говорил какие-то непонятные себе самому слова:
"Уважаемая падаль! Дорогие изгои, извращенцы, испражненцы! Я вижу вас, хоть вы и прах…" Потом в серебряной космической дали появились статуи,
сияющие неземными цветами. Они приближались, приближались ко мне, и я вдруг увидел, что это никакие не статуи, а сам Бог со своей кодлой святых и ангелов. Они как бы были сделаны из белого мрамора. Белые, развевающиеся бороды и огромные белые же крылья за спиной. Эти живые статуи надвигались на меня, будто хотели раздавить, и я услышал свой тоненький голос: "И-и-и-!" И тут я понял, что нужно избавиться от всего: одежды, тела, мыслей, имени… Как только я сделал это, так сразу почувствовал неземное блаженство и успокоение. Бог и все святые одобрительно закивали головами и начали растворяться, растворяться, растворяться, пока не исчезли совсем…
Очнувшись, я тупо уставился на пустой стакан перед собой и вдруг отчетливо осознал, что Смерть — вот единственный ответ на все мои проблемы. Исчезнуть! Испариться! Сгинуть! К Богу, к черту или к чертовой матери — все едино!
Да, но как это лучше сделать? И тут я вспомнил о черном пакете с черепом и костями. Где-то в нем должна быть моя любимая бритва. Однако, представив себя с перерезанной глоткой, валяющимся в луже собственной алой крови, я содрогнулся от омерзения и мигом почувствовал знакомые симптомы. Проклятый иммунитет работал даже против меня самого! Нет! Надо было все сделать тихо, спокойно, безболезненно — лечь и заснуть вечным сном. Конец должен подкрасться незаметно… Да, но что бы такое заглотнуть? И спросить не у кого. Не подойдешь же к первому встречному и не скажешь, что я осточертел себе и миру и хотел бы со всем этим покончить быстро, без шума и пыли? В конце концов я надумал пойти в публичную библиотеку и просветиться по части безболезненных самоубийств.
"Вот возьму и брошу им подлянку, — мстительно думал я, проходя по бульвару Марганита, Бутби-авеню прямо к задрипанной библио. — Пускай потом всю жизнь казнят себя за то, что сгубили младую душу: фазер-мазер с их вонючим узурпатором Джо, и д-р Бродский, и д-р Брэном со своим министром, и все остальные, включая хвастливое правительство…"
Несмотря на все свое хвастовство, правительство не очень-то жаловало субсидиями нашу библио, это средоточие человеческой мудрости, где на полках пылились миллиарды ненужных слов. Ремонт здесь не делался лет сто, с того самого времени, когда я, шестилетний, посетил ее с мом и дадом в первый и последний раз. Это вшивое, заброшенное заведение было разделено на две секшн. В одной выдавали книги, а в другой была ридальня со множеством. ньюспейперс, джорналз (и хоть бы один с голыми бабами!). Так вот, я отправился в эту вторую секшн, где сидело несколько стариков и старух, от которых воняло бедностью и близкой смертью. Некоторые из них стояли возле газетных стендов, вычитывая слезящимися подслеповатыми айзами последние ньюс, чтобы передать их прямехонько своим родственникам на том свете. Другие медленно листали джорналы, третьи что-то в них читали или делали вид, что читают, а сами дремали в тепле и старческой атмосфере. А двое так и вовсе громко храпели, выводя носом рулады, но на этих соловьев никто не обращал внимания. Наблюдая за склеротичными осколками былой жизни, я и сам начисто забыл, за каким чертом меня занесло в этот пантеон. Поднапрягшись и проиграв в уме то, что произошло со мной в "Коровяке", я вспомнил, что хотел отыскать здесь самый безболезненный способ сведения счетов с постылой жизнью. Я подошел к шелфу с референской литерачей. В скорбном ряду стояли толстенные справочники, инструкции, рекомендации, полезные советы на все случаи жизни и ни одного — на случай смерти. Я взял наугад какой-то медицинский гроссбук, полистал его и чуть не блеванул, так как в нем было полно рисунков и фотографий страшных ран и болезней. Поспешно поставил его на место и снял с шелфа знакомую книгу в красивом переплете с золотым тиснением. Точно! Это была Библия. Может быть, хоть в ней я найду слова утешения. Когда-то в Стае она мне помогала. Как давно это было! Я подсел за стол к какому-то дряхлому старику и открыл Священное писание. Но все, что я в нем нашел, так это наказания семьюдесятью, семью плетями и столько же прощений. Какие-то евреи дрались и проклинали друг друга и все на свете. От таких картинок библейской жизни у меня в животе начались колики. Такие сильные, ну хоть плачь! Стараясь сдержать стоны, я заскрипел зубами, а стоявший обеими ногами в могиле старикан спросил, с любопытством поглядывая на меня из-под треснутых очков:
— В чем дело, парень? Тебе что, плохо?
— Так плохо, что хочется умереть, — честно признался я. — Как это лучше сделать? Вы должны все знать о смерти.
— Ш-ш-ш! — прошипел другой трухлявый пень, не отрывая взгляда от какого-то журнала с нелепыми геометрическими фигурами.
Первый старик философски произнес:
— Для смерти тоже надо созреть. Ты еще слишком молод, парень. У тебя вся жизнь впереди. Помучайся с наше, а потом уже думай о ней.
— Впереди! Это уж точно, она у меня впереди, как пара фальшивых накладных грудей.
Геометрик снова на нас зашикал, и к нему присоединились еще несколько ходячих трупов. Тут он взглянул на меня, и мы сразу узнали друг друга. С негодованием отбросив журнал, он заорал на весь зал:
— Так это ты, мерзавец! У меня прекрасная память на лица! Наконец-то ты попался мне, урод!
"Кристаллография" — вот что он нес из библио в тот раз", — вспомнил я. Изрезанная в клочья одежда. Порхающие в воздухе листы изуродованных книг. Такой облом! И надо же было мне на него напороться. Скорее рвать когти! Но старик резво вскочил на ноги и впился клешней в мое плечо, вопя как безумный:
— Теперь он в наших руках, коллеги! Это тот молодой гаденыш, который безвозвратно погубил редчайшие книги по кристаллографии! Настал час расплаты, трусливый, бессердечный шакал. Теперь мы над тобой потешимся…
Он упер свой тощий костлявый палец мне в грудь и гневно проговорил, как председатель суда святой инквизиции перед сожжением еретика:
— Этот гнусный ублюдок и его дружки избили меня до полусмерти. Очнулся я только в больнице, без зубов, без одежды, без зонта, но зато весь в синяках и ссадинах и с поломанным ребром…
— Но это было два года назад! — испуганно крикнул я в лица подступавших ко мне стариков и старух. — Я уже понес наказание, получил урок на всю жизнь. Посмотрите, вот мои фотографии в газетах. Тут все обо мне сказано.
— Наказание, говоришь? — с усмешкой сказал один из стариков, похожий на бывшего солдата. — Для тебе подобных не существует наказаний. Вас необходимо уничтожать как бешеных собак!
— Ну, хорошо, хорошо! В нашей свободной стране каждый может иметь собственное мнение. Однако правительство придерживается другой точки зрения. Прошу прощения, но мне пора идти.
Я стал потихоньку пробираться к выходу, подумав, что мою проблему можно разрешить с помощью аспирина, простого аспирина из любой аптеки. Заглотил сотню таблеток — и тебе каюк!
Заметив мое отступление, кристаллографик злорадно закричал:
— Не дайте ему уйти! Сейчас мы ему растолкуем все о преступлении и наказании. Хватайте его, друзья! Со всех сторон неслось:
— Убить его! Разорвать на куски! Вколотить подлецу зубы в глотку! Распять! Распять! Рас-пя-ать!..
Это была неистовая атака Старости на Молодость, извечная борьба старого с новым.
Орущая орда окружала меня со всех сторон, отрезав путь к отступлению. Они толкали, щипали, кусали, царапали меня, дергали за волосы, пытались ткнуть узловатыми пальцами в глаз. А я только слабо отпихивался от наиболее настырных и молил Бога, чтобы не причинить им вреда, памятуя о боли, притаившейся за углом и зорко наблюдающей, что из этого выйдет.
Наконец на шум явился молоденький библиотекарь и строго произнес:
— Что здесь происходит, черт побери? Немедленно прекратите! Это вам не арена гладиаторов, а читальный зал.
На него никто не обратил внимания, и тогда он сердито сказал:
— Ах, вы так! В таком случае я звоню в полицию. И тут я сделал вещь, которую при других обстоятельствах не сделал бы никогда в жизни. Я взмолился
со слезами в голосе:
— Да, да! Пожалуйста, сделайте это. Защитите меня от этих сумасшедших.
Тут кто-то расквасил мне нос. Утирая кровавые сопли, я плюнул на осторожность и повел нехилым плечом. Штук шесть стариков разом отпало, кряхтя и стеная. Но три бульдога держали мертвой хваткой, и я выволок их за собой в вестибюль. Кто-то еще вцепился мне в ляжку. Подоспели другие. Я упал, а они принялись пинать меня ногами, протезами, молотить костылями… В этот момент в фойе раздались молодые смеющиеся голоса:
— Кончай бардак, молодчики! Ишь как расшалились!
Это прибыла полиция.
3
Какое-то время у меня все плыло и колыхалось перед айзами, как в том сне про Бога и статуи, а в хэде стоял гул. Когда пелена несколько рассеялась, то мне показалось, что я уже где-то встречал этих коппол. Того, который покрикивал на разбушевавшихся стариков: "Хватит, хватит, хватит!", нагоняя на себя строгость, я видел впервые. Но двух других я, несомненно, видел раньше. Они со смехом разгоняли толпу, беззлобно прохаживаясь по спинам олдмэнов маленькими плетками, приговаривая:
— Завязывайте, непослушные ребятишки. Мы покажем вам, как бунтовать и нарушать общественный порядок, старые злыдни.
С шутками и прибаутками они загнали полумертвых мстителей обратно в ридингхолл и повернулись ко мне, смущенно поднимающемуся с пола.
— Кого я вижу! Ты ли это, маленький Алекс? Давненько не виделись, друже. Как поживаешь? Вижу — хреново.
Я обалдело всматривался в униформированного громилу, лицо которого было трудно рассмотреть за шлемом с опущенным забралом. Однако его голос был очень знакомым. Взглянул на второго и вздрогнул от неожиданности. Этот безумный фейс невозможно было спутать ни с каким другим.
— Гы-гы-гы! — загоготал Кир, а это был именно он.
Присмотревшись внимательнее ко второму, я узнал жирняка Билли. Два заклятых врага превратились в друганов — не разлей вода и более того — в блюстителей порядка.
— Ничего себе! — присвистнул я. — Кир? Билли?
— Что, удивлен? — приблизился ко мне экс-Дебила, ухмыляясь от уха до уха. — Жизнь полна неожиданностей.
— Этого не может быть! Этого не должно быть! Опять какой-нибудь маскарад?
— Твои айзы не обманывают тебя. Мы тоже. Все честно и законно. Отличная работенка для настоящего мужчины. Рекомендую.
— Но ты же слишком молод. Или что, теперь они берут в полицию по живому весу и высокому, как у тебя, уровню интеллекта?
Кир не уловил издевки и ответил довольно резонно:
— Ты прав, Алик. В полиции нужны крутые парни вроде нас с Билли, чтобы ломать хребты уродам вроде тебя. А что до возраста, так тут ты не прав. Мне уже восемнадцать. Ты же был самым зеленым в нашей кодле…
— И все-таки я отказываюсь в это верить. Вы — и вдруг копполы!..
— Скоро поверишь, — угрюмо пообещал Билли-бой и сказал, повернувшись к третьему коппу, который держал меня за плечо: — Думаю, Рекс, будет лучше, если мы разберемся с ним по-семейному, без обычной полицейской рутины. Как-никак старые друзья. Видно, этот хулиган опять взялся за свое, несмотря на всю чушь об его исправлении, которую написали эти бумагомаратели. Уж кто-кто, а мы-то его хорошо знаем. Сукин сын, опять обижает бедных стариков. Ну что ж! Покажем ему, что мы не даром едим свой брэд.
— О чем он воняет, Кир? — обратился я к Дебиле. — Это они напали на меня, а не наоборот. Ваша обязанность — защитить меня от них, а не их от меня… Ты же должен помнить, Кир, того тичера, которого мы отделали два года назад тут, неподалеку от библио. Так вот, он оказался здесь, опознал меня и натравил на меня всю эту сумасшедшую свору.
— Да что ты говоришь? — усмехнулся Кир. — Что-то я такого не припомню. И прекрати называть меня "Кир". Зови просто: офицер.
— Ну, хватит воспоминаний детства, — вмешался Билли. Он был не таким жирным, как прежде. — Мы не можем проходить мимо отъявленных хулиганов с бритвами в кармане. — Подонок не забыл, как я его "брил" пару лет назад. — Наш долг — защищать от них свободных граждан свободной страны!
Они заломили мне хэндзы на всякий случай, вытащили бритву из кармана и, выведя из библио, втолкнули в ожидавший патрульный кар, шофером которого оказался незнакомый мне Рекс.
Меня не покидала шальная мысль о том, что мои бывшие фрэнды шутят и что Кир вот-вот сдернет свое забрало и зарыгочет: "Гы-гы-гы! С возвращением, Алекс-бой!" Но я ошибся. Все было взаправду.
Стараясь скрыть нарастающий страх, я спросил:
— А что со стариной Питом? Про Джоша мне рассказали…
— Пит? Ах, этот… Мы недавно встречались с ним, — с многозначительной ухмылкой ответил Кир.
Заметив, что мы выезжаем из тауна, я с тревогой спросил:
— Куда это вы меня везете?
— Еще слишком светло, — ответил Билли, не поворачивая хэда. — Небольшая прогулка по зимней кантри. Там так красиво и… безлюдно. Не можем же мы подбивать с тобой баланс на виду у всех…
— Какой еще баланс? — не на шутку встревожился я. — Со старым давно покончено. Я уже за все получил сполна. Меня вылечили,
— Читали, наслышаны, — безразлично произнес Кир. — У нас даже была политинформация по этому поводу. Суперинтендент целый час распинался о том, как это здорово и эффективно. Вот мы сейчас и проверим.
— Ах, вам читали? Ты так ни разу и не взял в руки ни одной газеты, не говоря уже о книгах? — не удержался я от язвительного замечания.
Он развернулся и сильно двинул мне в нюх, прежде чем я успел увернуться. В глазах у меня потемнело, и из разбитого ноу за закапала алая блад.
— Что ж, сейчас сила на твоей стороне, стинкинг ублюдок, — с горечью сказал я, утираясь. — Но так будет не всегда…
— Вот мы и приехали, — радостно сообщил Билли.
Меня вытолкнули из кара. Поблизости не было ни души. Молчаливые угрюмые деревья окружали нас четверых, бессильно опустив голые ветви.
Драйвер остался за рулем, безразлично покуривая и просматривая какой-то комикс. Быстро смеркалось, и он включил фары, чтобы его коллегам было лучше видно, куда бить вашего покорного беспомощного рассказчика.
Не буду подробно описывать, что они со мной сделали. Скажу только, что отметелили они меня на славу. Дубинками, кулаками и ногами. И все время, пока они меня "учили", я даже и подумать боялся о том, чтобы дать сдачи. Если бы не чертов Лудовико, я бы еще с ними побарахтался…
Наконец они подустали, и один из них, не помню кто, деловито сказал:
— Ну, пока хватит с него. Пошли!
Страйкнув меня на прощание футами по фейсу, они залезли в кар и укатили, оставив меня валяться на припорошенной кровавым снегом траве.
Не знаю, сколько я так пролежал, балансируя на грани сознательного и бессознательного. Мелкий ледяной дождь со снегом помог мне прийти в чувство. Я встал на четвереньки, так, на карачках, дополз до ближайшего дерева и со стоном поднялся, обнимая его, как чужую жену. Вокруг не было ни звука, ни огонька. Куда идти мне, бездомному, избитому бродяге без цента в кармане? Я завыл волком, распугивая притаившуюся в кустах живность.
4
Дома! Дома! Дома! — жаждало все мое существо. Места, где бы я мог приклонить голову и хоть на время найти отдохновение. И домой я пришел, братцы! Бродя, как слепец по ледяной пустыне человеческой ненависти и безразличия, я вышел на оазис со смешной надписью над входом: "НАШ ДОМ". Кажется, я здесь уже бывал в той, другой жизни…
Подходя к воротам коттеджа, я кончиком языка потрогал кровоточащие, шатающиеся зубы, ощутив пустоту на месте двух из них.
Э, да Бог с ними! Это даже к лучшему — есть надежда, что писатель, если он еще живет здесь, не узнает меня. Сейчас у меня на лице была совсем иная маска, обнажавшая всю мою суть…
Поскальзываясь на разбухшей от дождя глинистой дорожке, я доковылял до двери и осторожно поскребся. За дверьми была мертвая тишина. Какие врата передо мной: рая или ада? Я постучался настойчивее и услышал приближающиеся шаги. Дверь распахнулась, и раздался сильный мужской голос человека, вглядывающегося в темноту:
— Да, кто здесь?
— О! Ради всего святого, помогите мне, добрый человек! — взмолился я с настоящими слезами в голосе. — Меня ни за что ни про что избили полицейские и бросили умирать у дороги. Ради Бога, позвольте мне посидеть у огня и дайте выпить горячего чего-нибудь…
— Входи, кто бы ты ни был! — посторонился райтер, освещая меня фонарем. — Входи и поведай мне о твоих несчастьях, бедный человек…
Я сделал шаг вперед. Ноги мои подкосились, и я повалился прямо на хозяина коттеджа, смотревшего на меня с искренним участием и состраданием.
Очнулся я в кресле у камина. Сердобольный райтер с печальными всевидящими айзами протягивал мне высокий тамблер с неразбавленным виски. Я взял его дрожащей рукой и залпом выпил, разбавив скопившейся во рту слюной и кровью.
— Какие же изверги так тебя отделали, парень? — участливо спросил райтер, вглядываясь в мое распухшее лицо, на котором не было живого места.
— Наши доблестные блюстители порядка, — попытался улыбнуться я. — Какие-то ублюдки в полицейской форме.
— Еще одна далеко не последняя жертва нашего смутного времени, — скорбно констатировал он. — Пойду приготовлю тебе ванну.
С трудом сфокусировавшись, я осмотрелся. За исключением камина и двух кресел, все остальное пространство было заполнено книгами. Царивший повсюду художественный беспорядок свидетельствовал об отсутствии женской руки. На низком тейбле стоял знакомый тайпрайтер, возле которого аккуратной стопкой были сложены шитсы пейпера. "ЗАВОДНОИ АПЕЛЬСИН" — вот что лежало здесь в ту ночь. Почему-то это название накрепко засело в моей мемори, и ничто не смогло вышибить его оттуда — ни Бродский с его Лудовико, ни устроенное мне друзьями-недругами брейнуошинг… Теперь главное — ничем не выдать себя. А то, несмотря на всю свою доброту, этот райтер добавит мне еще и оставит околевать на улице. И превратишься ты, Александр Маленький, в кусок собачьего дерьма на дороге… А тебе сейчас так необходимы помощь и участие! И ведь до всего этого тебя довели те, кто заставил тебя, вопреки своей воле, скитаться подобно Вечному жиду в поисках добра и тепла и людей, которым бы ты их мог дать. Только захотят ли они принять от тебя твой дар во искупление твоих грехов?
— Ну вот, сейчас я тебя выкупаю, — ласково сказал райтер. — Смою все твои грехи и сниму бремя с души. — Он пытливо посмотрел мне в глаза, и от его взгляда мне стало не по себе. — Только сначала нужно остановить кровь. Я прижгу твои ссадины борной. Ты уж потерпи, голубчик.
Он заботливо обработал мои раны смоченным в растворе борной кислоты тампоном. Увидев слезы благодарности у меня на глазах, он смущенно погладил меня по плечу: "Ну, будет, будет…"
Потом я принял горячую ванну, которая сделала из меня человека. Отец "АПЕЛЬСИНА" дал мне нагретую у камина пижаму и теплые меховые тапочки, и я окончательно убедился в том, что теперь-то уж выживу. Райтер опять удалился, и через некоторое время из кухни раздался его бодрый голос, приглашавший меня то ли к позднему ужину, то ли к раннему завтраку.
Я спустился в кичен, где был уже накрыт тейбл с блестящими вилками, ножами и даже белоснежными салфетками. Посередине лежала высокая булка пышного белого брэда и стояла пузатая бутылка "Прима Сое". Рядом шкворчала аппетитная яичница с хэмом и дымился чай с молоком. Я и не подозревал, насколько голоден.
Быстро расправился с яичницей, съел несколько пузатых сосиджис, покрыв все это огромным ломтем хлеба, намазанного маслом и джемом. Попивая крепкий густой чай, я с благодарностью заметил:
— Давно не ел так вкусно. Не знаю, как вас и благодарить.
— Кажется, я догадываюсь, кто ты, — улыбнулся райтер. — Если ты тот, о ком я думаю, то ты попал в самое подходящее место. Это твои фотографии были в утренних газетах? Ты бедная жертва этой новой бесчеловечной методики? Если так, то тебя послало ко мне само Провидение. Бедный парень. Сначала тебя мучили в тюрьме, а потом ты стал объектом издевательств нашей безжалостной полиции. Они сейчас набрали в нее отпетых негодяев. Я тебе искренне сочувствую.
Я хотел подтвердить его слова, но был слишком преисполнен жалости к себе. Я только моргал и слушал, что он говорит.
— Ты не первый, кто обращается ко мне за помощью. Наша деревня превратилась в излюбленное место полицейских, где они вершат неправедный суд и расправу, называя это брейнуошинг… Сама Судьба привела ко мне тебя — жертву двойного произвола властей! Возможно, ты слышал обо мне?
Я мигом насторожился и ответил, тщательно подбирая слова:
— Мне знакомо название "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН". Правда, я его не читал, но слышал, что это потрясная вещь.
— Правда? Ты слышал о моем романе? — засиял райтер. — Расскажи немного о себе.
— Да особенно и рассказывать нечего, — засмущался я. — Жил-был глупый заносчивый сосунок, слишком много мнивший о себе. Однажды его так называемые друзья подбили его забраться в дом к одной старой одинокой женщине. Я и не думал причинять ей вреда, поверьте. Так, невинная ребячья выходка. Решил выпендриться перед дружками. Эта старая птица засекла меня, и с ней случился сердечный приступ. Одним словом, она сыграла в ящик, а я загремел в тюрьму…
— Так, понятно. Пожалуйста, продолжай.
— Уже там, в тюрьме, я тянулся посетившему наш скворешник министру исправительных учреждений, и тот решил опробовать на мне методику Лудовико…
— Так, так, — подался ко мне райтер. — Расскажи мне об этом подробнее.
Он очень этим заинтересовался и даже не заметил, что локтем влез в розетку с джемом. Глаза его лихорадочно заблестели, рот приоткрылся…
Стараясь хоть как-то отблагодарить его за проявленную ко мне доброту, я подробно поведал райтеру о том, что со мной проделывали в клинике доктора Бродского.
Он был настолько захвачен моим рассказом, что ни разу не перебил меня. Только кивал головой — понимающе, негодующе, осуждающе… Когда я кончил, он тяжело вздохнул и принялся собирать тарелки.
— Позвольте, я их сам вымою, — предложил я.
— Отдыхай, отдыхай, бедолага, — сказал он, открывая горячую воду. — Ты, несомненно, грешил и нарушал законы, но то, что они придумали тебе в качестве наказания, переходит всякие границы. Они превратили тебя в некое подобие машины, в полуавтомат, лишенный права свободного выбора. Тебя запрограммировали даже не на добро как таковое, а на совершение одобряемых обществом актов, угодных ему действий… Я ясно представляю твое поведение в пограничных ситуациях, при эмоциональных стрессах. Теперь все — музыка и физическая любовь, литература и искусство — превратилось для тебя из источников наслаждения в источники боли и страдания. Бедный, бедный Алекс.
— Вы точно все определили, сэр, — согласился я, закуривая изящную длинную злопухоль с золотым мундштучком.
— Они всегда перегибают палку, — задумчиво произнес райтер, в третий раз перемывая одну и ту же тарелку. — Вот и в случае с тобой они явно переусердствовали. Человек, лишенный выбора, перестает быть человеком. Они перешли ту грань, за которой начинается преступление против человечества.
— Ваши рассуждения очень похожи на рассуждения нашего тюремного капеллана. Он тоже утверждал, что без морального выбора нет человека. Правда, при этом постоянно ссылался на Бога, который следит за правильностью такого выбора.
— Да? Он тоже так считает? — оживился райтер. — Впрочем, иначе и быть не могло. Это основа христианского учения. Ну, да ладно. Я вижу, что утомил тебя. Договорим завтра, когда у меня соберутся мои друзья. Я думаю, что ты нам будешь очень полезен. С твоей помощью мы сможем разоблачить наше подлое правительство, опять рвущееся к абсолютной власти. Мы покажем народу всю бесчеловечность их программы, направленной на превращение нашей молодежи в механических исполнителей их воли. И еще гордятся этим, преподнося антигуманную технику Лудовико как панацею от всех общественных бед.
Он продолжал вытирать одну и ту же тарелку.
— Сэр, вы пятый раз трете одну тарелку, — не удержался я.
— Да? — очнулся он и уставился на отполированную до блеска тарелку. — Я слишком рассеян для домашних дел. Обычно ими занималась моя жена, я же был полностью поглощен писательством.
— Ваша жена, сэр? — с деланным безразличием спросил я. — А что, она вас оставила?
— Да, оставила… — с неизбывной тоской и болью повторил он. — Она умерла. Видишь ли, ее зверски избили и изнасиловали четверо молодых подонков. Прямо в этом доме, у меня на глазах. И я не смог защитить ее… — Его голос дрогнул, а лицо исказилось гримасой горя и страдания. — Бедняжка не перенесла потрясения… А я, как видишь, живу.
Он быстро отвернулся, чтобы я не видел его слез. Но я увидел другое. Тихая зимняя ночь. Четверо здоровых лбов в масках обманом врываются в мирный уютный дом и учиняют зверскую расправу над ни в чем не повинными людьми. И я их предводитель…
Как и следовало ожидать, вставшая перед моими глазами картина вызвала острейший приступ болезни Лудовико. Лицо мое помертвело и покрылось испариной. Вкусная пища подкатила к горлу, готовая в любой момент вырваться наружу. Заметив это, райтер по-своему истолковал мое состояние:
— Вот видишь, до чего я тебя довел своими разговорами. Пойдем, я покажу тебе твою спальню. Это бывшая комната моей Элен. Бедный, бедный парень. До чего довели тебя эти изверги! Еще одна жертва современного мира, как и она, моя несчастная девочка…
5
Я уснул только после того, как он дал мне какой-то сильный седатив, которым часто пользовался сам. Я отключился мгновенно и продрых часов десять без сновидений. Когда я проснулся, было позднее морозное солнечное утро. За окном коттеджа звонко пели птицы. С некоторым усилием я вспомнил, где нахожусь. Впервые за последние дни меня окружали покой и относительная безопасность. Из кухни доходил аромат свежесваренного кофе. Я решил покайфовать, пока меня не позовут завтракать. Мысли мои текли ровно и безмятежно, и я был близок к тому, чтобы сказать: "Остановись, мгновенье, ты прекрасно!" Вдруг мне захотелось узнать, как же зовут моего спасителя и благодетеля. Я вылез из-под блэнкита и прошлепал босыми фит к большому книжному шкафу во всю стену. Где-то здесь обязательно должен стоять "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН", и уж на нем-то будет указано имя автора — доброго хозяина "НАШЕГО ДОМА". Однако, к моему разочарованию, на полках стояла масса умных книг… и ни одного "АПЕЛЬСИНА". Я осторожно прокрался в соседнюю комнату-спальню райтера. Войдя в нее, я остановился как вкопанный, потому что со стены на меня укоризненно смотрела та самая герла. Подавив ассоциативную боль, я поспешно подошел к навесной полке с буками и отыскал тоненькую книжку, на хребте-переплете которой после знакомого названия золотом было выведено: "Ф. Александер". Боже правый! Его тоже звали Алекс! Я полистал книженцию, но так и не понял, о чем она. Меня поразило, что написана она в какой-то безумной манере, с многочисленными "ах" и "ох". Единственное, что я вынес из этого беглого просмотра, так это то, что в наше время всех людей — его, меня, моих предков с их правильным постояльцем, Кира, Билли, покойника Джоша и вас, да-да, вас, мои терпеливые слушатели, — пытаются превратить в механических роботов или их запчасти. В то время как каждый человек — неповторимая личность, уникальный плод матери-природы. Мой Ф. Александер наивно полагал, что все эти плоды-человеки растут на одном всемирном древе во вселенском саду, посаженном Господом Богом. И все мы нужны этому садовнику для того, чтобы он изливал на нас свою благодать и, в свою очередь, радовался нашим благим деяниям… Дальше шла такая же идеалистическая чушь и ах-охо-вая трескотня. И я подумал: может быть, этот мой тезка действительно с ума съехал после смерти жены? Но тут снизу раздался его вполне здоровый войс, теплый и доброжелательный, и я поспешил завтракать.
— Ну что, выспался? — с улыбкой спросил он. — Уже десять. Я специально не стал тебя будить. Сам-то я уже успел поработать несколько часов.
— Очень мило с вашей стороны, — вежливо ответствовал я, намазывая тост баттером. — Пишете новую книгу?
— Нет, кой-какие статьи. Потом разговаривал с друзьями по телефону.
— А у вас разве есть телефон? — ляпнул я, забыв про осторожность.
— А почему ты решил, что у меня его нет? — ответил он вопросом на вопрос и пристально посмотрел на меня.
— Да так, — отвел я глаза в сторону, в душе проклиная свою неосмотрительность. — Просто вчера я его не заметил.
— Это и неудивительно. Ты был в таком состоянии, — смягчился он, а я подумал, что он, должно быть, помнит все мельчайшие детали той страшной ночи.
"Будь осторожен, парень, если не хочешь, чтобы тебя четвертовали… со всей вселенской любовью", — сказал я себе.
Некоторое время мы жевали молча. Потом он сказал:
— Я все утро звонил людям, которые должны обязательно заинтересоваться твоим случаем. Ты и не подозреваешь, каким мощным оружием являешься в нашей борьбе за то, чтобы это антинародное правительство вновь не победило на предстоящих выборах. С твоей помощью мы выбьем у них из рук главный козырь — их хваленые достижения по борьбе с преступностью. Ведь ты поможешь нам разоблачить их фашистские методы модификации индивидуального сознания? Они могут начать с преступников, а закончить нами, демократами, всеми инакомыслящими. Ты представляешь, что тогда может произойти? Все эти опыты во благо народа могут обернуться полным тоталитаризмом!
— Откровенно говоря, я не совсем ясно представляю, чем я могу вам в этом помочь, — честно признался я.
В глазах райтера появился безумный блеск, и он заговорил как сумасшедший, все более распаляясь и проглатывая слова:
— Ты живой свидетель этих дьявольских планов. Народ, простые люди должны знать, должны видеть, что затевается за их спинами.
Он порывисто выскочил из-за стола и принялся расхаживать по кичену, как будто репетируя гневную обличительную речь:
— Неужели вы допустите, чтобы с вашими сыновьями сделали то же самое, что и с этой бедной жертвой произвола властей? Неужели вы хотите, чтобы отныне правительство само решало, кого объявить преступником, врагом нации, а кого нет?
Спохватившись, он снова сел за стол, но к яйцу так и не притронулся.
— Пока ты спал, я написал статью. Через день-два она появится в газетах вместе с твоей фотографией. Тебе только нужно подписать этот скорбный перечень преступлений и несправедливостей, которые творились над тобой с благословения нашего правительства.
— Ну, а вам-то какой от этого прок, сэр? — искренне полюбопытствовал я. — Я имею в виду, чего добьетесь вы лично, кроме приличного гонорара за свою статью? Почему вы так рьяно выступаете против нынешнего правительства? Разве другое будет намного лучше?
Райтер схватился за край стола, так что побелели костяшки пальцев, и с пафосом произнес, скрипя прокуренными зубами:
— Кто-то же должен бороться за идеалы добра и справедливости? По натуре я тихий, мирный человек. Но я не могу спокойно смотреть, как попирается то, что для меня свято. Честные люди должны бороться против любых проявлений насилия над личностью. Таковы традиции свободолюбия. Однако масса слишком инертна. Ей наплевать на все, кроме собственного благополучия и личного покоя. В сытой спячке народ может допустить даже приход фашизма. Вот поэтому его надо постоянно будоражить, будоражить, будоражить!
И тут он, други, выкинул финт, заставивший меня в страхе сжаться. С горящими глазами он схватил со стола вилку и в бешенстве воткнул ее несколько раз в стену. Искорежив таким образом прибор, он в сердцах бросил его на пол.
Потом как ни в чем не бывало повернулся к вашему бедному рассказчику и с ласковой улыбкой произнес:
— Ешь, парень, ешь. Бедная жертва современного мира. Можешь съесть и мое яйцо. У него явно были не все дома.
— Это очень благородно, все, что вы говорите, сэр. Но что от этого получу я? Меня это излечит? Смогу ли я слушать "Хоральную симфонию" и при этом не чувствовать себя, как беременная сука? Смогу ли я вновь зажить нормальной жизнью? Что же в конце концов будет со мной?
Тут, братья, он взглянул на меня так, будто я вовсе ни при чем и моя судьба ничего не значила по сравнению со Свободой, Равенством, Братством, Демократией и всей этой абстрактной мурой. По его удивленному и слегка раздраженному фейсу я понял, что лично для меня в его грандиозных планах не было плейса. Он посмотрел на меня, как на безнадежного эгоиста, и неопределенно сказал:
— Ну, как я уже говорил, ты будешь живым свидетелем, пуэр бой, способствующим торжеству высоких идеалов… Давай доедай свой брэкфаст… Я покажу тебе мою статью, которая пойдет в "Уикли Трампит" под твоим именем, несчастная жертва.
То, что я потом прочитал в его кабинете, други мои, представляло собой пространную, туманную, сентиментальную дребедень, призванную вышибить слезу из нашего толстопузого обывателя. Читая ее, я сам чуть было не прослезился — так мне стало жалко бедного мальчика (то есть меня), рассказывающего о своих страданиях и о том, как аморальное правительство лишило его воли и способности сопротивляться насилию и несправедливости. Далее я здорово так (ни дать ни взять профессор!) расписывал о том, что то же самое ожидает всех людей, если они не положат конец антинародным актам нынешней администрации.
— Здорово! — похвалил я. — Берет за душу и переворачивает все твои гатс.
— Что-что? — подозрительно переспросил он и сузил глаза.
— А, это? Это означает, что доходит прямо до сердца. Надсадский язык. Так сейчас говорят все тинэйджеры, сэр.
Райтер отправился на кухню мыть посуду, напряженно думая о чем-то, как будто пытался вспомнить что-то очень важное… Я же не думал ни о чем, отдавшись на волю случая. Так было проще. Дуракам вообще легче живется. Их запросы минимальны, равно как и спрос с них. Сиди и сопи в две дырочки. Или как младенец: обложился и молчи, жди, пока тебе сменят…
Мои глубокие выводы прервало треньканье звонка входной двери. Из кичена выскочил райтер, вытирая мокрые хэндзы о фронтирник.
— А вот и мои друзья! — радостно сообщил он. Из антишамбра донеслись обычные в таких случаях "привет-привет", "ха-ха-ха и хо-хо-хо", "прекрасная погодка" и "рад тебя видеть, старина!". Тут в гостиную завалили три чудика и пытливо уставились на меня, а один из них, похожий на дистрофика или туберкулезника, тепло улыбнулся и произнес низким, прокуренным басом:
— Так вот он какой, твой неотесанный тезка. Ничего, мы его мигом отешем. — И он добродушно рассмеялся.
Ф. Алекс представил своих друганов. Басовитого дистрофика, с ног до головы осыпанного пеплом громадной сигары, которую он не вынимал из волосатого рта, звали 3. Долин. Потом был еще какой-то Рубинштейн — маленький, толстенький мэн в круглых металлических очках, с академической бородкой и в шапочке. Третьего звали Д. Б. ДаСилва. Этот вообще был не мэн, а сперматозоид, такой же быстрый, энергичный, напористый. От него сильно воняло дорогими духами. Все трое долго жали мне хэнд, восторженно хлопали по шоулдеру и заглядывали в айзы, демонстрируя самые добрые намерения. Наконец, 3. Долин пробасил:
— Великолепный экземпляр. Как раз то, что нам нужно. Для фотографий его можно даже подгримировать, чтобы он выглядел еще более болезненным и забитым… Мы сделаем из него настоящего зомби.
Я был категорически против того, чтобы меня "забивали" и делали из меня притрухнутого. Поэтому я горячо возразил:
— Это еще зачем? О чем толкует ваш друг, мистер Александер?
Вместо ответа райтер озадаченно произнес:
— Странно, но меня не оставляет ощущение, что где-то я уже с ним встречался. Такая специфическая манера разговора…
Он нахмурился, что-то напряженно вспоминая, а у меня все похолодело внутри. Но тут вмешался ДаСилва:
— Главное — организовать публичные выступления. Продемонстрируем его общественности… живьем. Ну и, конечно же, широкое паблисити. Основной лейтмотив: загубленная молодая жизнь. Разворошим муравейник! Воспламеним сердца людей!
Его темное лицо озарилось тридцатидвухзубым смайлом. Он явно принадлежал к породе иммигрантов.
— Но какую пользу для себя извлеку из всего этого я? — не утерпел "живой свидетель", о котором, казалось, все забыли. — Меня мучили в тюрьме, истязали в клинике, выгнали из дома собственные родители и их праведник-квартирант, поколотили полоумные старики и чуть было не отправили на тот свет новоявленные друзья-копполы. Что же будет со мной?
Рубинштейн успокоительным жестом положил мне руку на плечо:
— Вот увидишь, парень, партия не обойдет тебя своей благодарностью. В конце этой кампании тебя ожидает очень приятный и очень весомый сюрприз. Так что не волнуйся. Мы не бросим тебя на произвол судьбы, которая и так была к тебе очень несправедлива. Торжество справедливости и всеобщее благоденствие — вот наши конечные цели!
— К черту сюрпризы! — взъярился я. — Проклятая жизнь и без того накидала мне их по 'самую завязку! Единственно, чего я хочу, так это стать нормальным и здоровым, как прежде. Чтобы я сам мог решать, что мне делать, сам мог выбирать себе друзей, а не быть послушной марионеткой в руках попутчиков на тот свет. Способен ли кто-нибудь в вашей стинкинг партии вернуть меня к нормальной жизни?!
"Кашль-кашль-кашль", — многозначительно прокашлял З.Долин.
— Тебе уготована участь мученика за правое дело, — с пафосом проговорил он. — Но все равно мы тебя не оставим, Александр!
Такая перспектива была мне как-то не в жилу, и я заорал благим матом:
— Я вам не презерватив — использовал и выбросил. И не такой идиот, каким вы меня собираетесь выставить, вы, грязные интриганы! Я вам не какой-нибудь дебила…
— Дебила, дебила… — раздумчиво повторил Ф. Александер. — Похоже на кличку. Где-то я ее уже слышал… Странно… очень странно…
— Чего тут странного? Гоголь-моголь, Ванька-встанька, Кирилла-Дебила. О Боже!
Я в страхе посмотрел на райтера. От выражения на его лице у меня мороз пошел по скину. "Кажется, проболтался!" Не спуская с райтера настороженных глаз, я бочком пошел к двери, намереваясь прошмыгнуть в мою комнату наверху, где была моя одежда. Надо было рвать когти, пока он меня не вычислил.
— Черт! До чего же все-таки похоже, — ощерился Ф. Александер. — Но этого не может быть! Боже, если бы это вдруг оказался он, я бы разорвал его на месте. Но это невозможно…
— Ну, ну, успокойся, старик, — погладил его по плечу ДаСилва. — Все в прошлом. То были другие негодяи. Мы обязаны помочь этому бедному парню, который очень полезен нашему делу.
— Пойду переоденусь… Там май дресс, то есть я хотел сказать, одежда, — скороговоркой проговорил я уже с лестницы. — Пожалуй, нам лучше расстаться.
Я, конечно, благодарен вам за все, джентльмены, но я должен жить своею жизнью…
Тут все всполошились, а 3. Долин твердо произнес:
— Ну уж нет, парень. Ты в наших руках, и мы не собираемся тебя отпускать, ты пойдешь с нами. Не волнуйся, все будет о'кей.
Тут он быстро подскочил ко мне и крепко схватил за хэнд. У меня мелькнула шальная мысль вырваться и ран, ран, ран от этих "доброжелателей", чем ранее, тем лучше. Но при одной мысли о сопротивлении и неизбежном файтинге у меня забурлило в стамэке и заломило в хэде. Я решил: будь что будет, и покорно произнес, избегая глядеть на сумасшедшего Ф. Александера:
— Хорошо! Говорите, что я должен сделать, и покончим с этим, бразерз.
— Вот и умница, — похвалил меня Рубинштейн. — Одевайся, и приступим.
— Дебила, дебила, дебила, — в ступоре повторял Александер. — Ну где я слышал эту кличку? Кто он?
Я быстро взбежал по лестнице, переоделся за какие-то капл секондз и направился к кару с тремя своими новыми фрэндами, не осмелившись попрощаться с гостеприимным хозяином "НАШЕГО ДОМА".
Д. Б. ДаСилва сел за водилу, а я устроился на заднем сиденье с Рубинштейном и 3. Долиным по бокам.
Спустя некоторое время кар въехал в таун, а еще через пять минут остановился в том же самом районе, где располагался мой родной блок 18А.
— Вылезай, Алекс-бой, — сказал 3. Долин, не выпуская изо рта неразлучную злопухолищу. — Пока ты остановишься здесь.
Мы вошли в стандартный подъезд стандартной многоэтажки со стандартизированной оптимистической живописью на стенах. Поднялись на не знаю какой этаж, прошли в стандартную флэт, и Д. Б. ДаСилва сказал:
— Вот тут ты будешь жить. Располагайся, парень. Еда в холодильнике, пижама в шкафу.
— Я бы хотел уточнить одну маленькую деталь, Алекс-бой, — прокашлял 3. Долин. — У нашего друга Ф. Александера в связи с тобой возникли какие-то странные ассоциации. Ты случаем?.. Короче, это не ты с дружками… тогда у него в доме?.. В общем, ты понимаешь, о чем я хочу тебя спросить?
— Я за все заплатил сполна, — не стал лгать я. — Бог тому свидетель. Теперь мы с ним коллеги. Ведь я— ваш живой свидетель, ведь так? — подколол я их. — Так вот, я заплатил не только за себя, но и за тех предателей, которые называли себя моими фрэндами. — От неприятных воспоминаний у меня опять начались колики. — Я, пожалуй, прилягу. Что-то мне нехорошо.
— Приляг, приляг, — одобрил меня Д. Б. ДаСилва. — Эта квартира в твоем полном распоряжении.
Они повернулись и ушли по своим делам, закрыв меня на ключ, чтобы я, не дай Бог, не смылся и не спутал их политические планы. Я же завалился на бэд прямо в бутсах, заложил хэндзы за хэд и уставился в низкий, загаженный мухами, закопченный потолок. Как жить дальше? Куда бы скрыться от всех этих доброхотов? Под закрытыми веками вереницей проходили картинки из моей безрадостной жизни, лица сотен людей, которых я встречал на своем пути и среди которых не нашел ни одного, кому можно было бы доверять. Незаметно для себя я задремал.
Разбудила меня громкая музыка, доносившаяся из-за стены.
Это была знакомая мне Симфония No 3 датского композитора Отто Скаделига — неистовое, насыщенное септаккордами произведение, особенно в первой части. Как раз ее сейчас исполняли. Несколько секунд я с наслаждением вслушивался в будоражащие душу звуки, но, к сожалению, наслаждение быстро сменилось нахлынувшим цунами невыносимой боли. Кто-то странный, невидимый завязывал узлом мои кишки. Я сполз с кровати и начал кататься по полу, вопя, как смертельно раненный зверь. Подкатившись к музыкоточащей стене, я принялся скрести ее ногтями и грызть зубами, истошно крича:
— Прекратите! Остановите музыку ради всего святого!
Но она не прекратилась и, казалось, зазвучала еще громче. Я барабанил в стену кулаками, ногами, головой, но все напрасно. Стараясь убежать, скрыться от этой пытки музыкой, я выскочил в маленькую прихожую и рванул дверь, забыв, что она заперта снаружи. Я сел посреди комнаты и засунул пальцы глубоко в уши, не замечая, что раню барабанные перепонки. Никуда не спрятаться, не скрыться от этой проклятой музыки. Или проклятым был я сам?
— Боже, помоги мне, если ты есть! Спаси меня, Господи!
Но старый фраер оставил свое заблудшее дитя.
И тут я вспомнил о подсказанном Им единственном выходе. Он лишь на время отсрочил неминуемую развязку, ниспослав мне, нет, не благодать и не забвение, которых я, видимо, не заслуживал, а свору безумных стариков, шизанутых коппол и чокнутых интеллигентов.
Уйти, исчезнуть из этого жестокого мира!
Схватившись за край стола, поэтапно, я поднялся на ноги, и тут мое внимание привлекло крупно выведенное на какой-то брошюре слово "СМЕРТЬ". И хотя я прочитал всего лишь: "СМЕРТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВУ", я понял, что это знак свыше. Сцепив зубы, я взял со стола другую книжонку, на обложке которой было нарисовано распахнутое окно. Раскрыв ее, я прочитал: "Распахните, как окна, ваши души навстречу свежему воздуху свободы, новым идеям и образу жизни!"
В мгновение ока я вскочил на подоконник и рывком открыл окно. И крикнул в мир: "Прощайте и простите! И да накажет вас Господь за загубленную жизнь!"
Под бравурные звуки музыки я нырнул вниз в спасительную пустоту…
Итак, я прыгнул, братья мои и други, решив разом покончить со всеми моими мучениями. Но это был не конец, хотя я сильно расшибся о газон. Счастье еще, что не о тротуар. Да и высота оказалась недостаточной, чтобы разбиться насмерть. К тому же во мне сработал кошачий инстинкт, и я приземлился на четыре кости, а уж потом шмякнулся мордой о по-дернутую морозной коркой землю. Как бы то ни было, я повыворачивал себе суставы, сильно повредил позвоночник, как наждаком, содрал свой фейс, так что одно ухо у меня переместилось на затылок, а через другое вылез ноуз (по крайней мере, так мне тогда показалось), прежде чем я вырубился под удивленно-испуганными взглядами прохожих.
Но тогда мне было вовсе не до смеха. Придя в себя после миллиона лет беспамятства, я попытался осмыслить, что же со мной произошло, и угадать, на каком я свете — на том или все-таки на этом. Если на том, то почему в таком случае так воняет лекарствами, спиртом и антисептиками? Если на этом, то откуда райский запах живых цветов? И почему я совсем не чувствую своего тела? Я разлепил один глаз (другой был забинтован наглухо) и осмотрелся. Весь я был спеленут, как бэби. Рука и нога висят на растяжках, будто кто-то вознамерился взвесить меня по частям и начал с конечностей. Справа на кронштейне висит боттл с кровью, и она стекает по прозрачной трубке прямо к игле, воткнутой в другую мою руку. Но почему же я совершенно не чувствую боли? Мысль заработала четче, и вспомнились события, предшествовавшие моему свободному падению. В душу закралось страшное подозрение о том, что сдернувшая меня с катушек музыка — это дьявольская выдумка моих новых друзей-интеллектуалов. Они решили до предела драматизировать ситуацию в своих далеко идущих политических целях. Неужели все люди — изверги и садисты? В таком случае я — теленок по сравнению с ними…
Рядом с моей койкой сидела молодая грымза в очках и в белом халате. Она с упоением читала какой-то роман, и по ее прерывистому дыханию и по тому, как она жадно облизывала пухлые губы ярко-красным кончиком языка, я понял, что она дошла до сцены про это. Вообще-то она была очень даже недурна, и из-под халата у нее выпирали очень даже соблазнительные груди. И я сказал, наконец-то поверив, что еще жив:
— Ныряй сюда, детка. Мы с тобой сможем не хуже, чем они, девочка.
Однако у меня почему-то получилось: "не фуже фем они, фефочка", поскольку рот был какой-то ватный, язык деревянный, а в распухших деснах недоставало еще нескольких зубов. Герла подскочила от неожиданности, уронив книжку на пол, и сказала не то с радостью, не то с огорчением:
— О, наконец-то ты пришел в себя.
Она поспешно вышла, видимо, для того, чтобы сообщить врачу. По абсолютной тишине я понял, что лежу в отдельной, уютной комнате с цветами на тумбочке, а не в отвратной общей палате, как это случилось со мной в детстве, когда я заболел дифтерией. Тогда меня окружали с десяток старых кашляющих смердящих мэнов, от одного вида которых хотелось или умереть сразу, или поскорее выписаться, только бы не видеть их гнусных рож… С этими невеселыми мыслями я опять впал в сон, похожий на смерть. Но тут снова появилась сексуально озабоченная медсестра, а с нею еще несколько мэнов в белых халатах. Самый старый из них наклонился ко мне, задрал веко единственного свободного глаза, пощупал пульс на незабинтованной руке и похмыкал, хмуро и озабоченно: "Гм-гм-гм, могло быть и хуже… Он еще легко отделался". Приоткрыв один глаз, я заметил среди белых халатов сострадательное лицо капеллана из старой Стаи, который с чувством произнес:
— О, сын мой, до чего они тебя довели… — Он выдохнул концентрированное облако спиртных паров и сокрушенно добавил:— Но я в этом больше не участвую. Баста! Я не подпишусь под тем, что они собираются делать с вашими заблудшими преступными душами. Отныне я буду только молиться за то, чтобы Господь наставил вас на путь истинный.
Я еще долго балансировал на грани бытия и сознания и, очнувшись в очередной раз, увидел около постели тех, из чьей квартиры выпрыгнул в надежде свести счеты с жизнью. Над моей кроватью склонились озабоченный фейс Д. Б. ДаСилвы, борода Рубинштейна и аскетично-чахоточное лицо 3. Долина, который, казалось, вот-вот выжжет мне единственный глаз своей неизменной сигарой.
— Наш молодой друг! — говорил кто-то из них. — Сердца людей возгорелись благородным гневом, когда они узнали твою правдивую историю, и правительство потеряло последний шанс на переизбрание. Оно рухнуло и никогда больше не поднимется. Ты сослужил добрую службу святому делу освобождения человечества.
Меня передернуло от такого напыщенного спича, и я с горечью сказал:
— Я бы сослужил вам еще большую службу, если бы вовсе отбросил копыта, лживые грязные политиканы.
Я намеревался гневно бросить им в лицо эти разоблачения. На самом же деле только издал какие-то хрипы, бульканье и нечленораздельное мычание. Они восприняли мою "пламенную" речь как одобрение своих ловких действий и восторженно протянули мне кипу вырезок из разных газет. На одной из них я увидел себя, окровавленного и в беспамятстве, на носилках, окруженных санитарами, полицией и какими-то людьми с раскрытыми в ужасе глазами. Я пробежал глазом заголовки, которые взахлеб извещали:
"ЮНАЯ ЖЕРТВА ПРЕСТУПНОГО РЕФОРМИСТСКОГО ЗАГОВОРА", "ПРАВИТЕЛЬСТВО — УБИЙЦА" и "ПРЕСТУПНИКИ У ВЛАСТИ".
На одной из фотографий я узнал Министра с довольно растерянным лицом. Под ней была подпись:
"ДОЛОЙ ДЬЯВОЛА В МИНИСТЕРСКОМ ОБЛИЧЬЕ! ВОН! ВОН! ВОН!"
Я неловко пошевелился, и сестра милосердия строго предупредила:
— Пострадавшего нельзя волновать. Смотрите, как он расстроился. Посещение окончено. Пожалуйста, выходите.
То ли я действительно был еще очень слаб, то ли просто эти клоуны меня утомили, но я опять погрузился в темноту, озаряемую ярчайшими вспышками отрывочных сновидений. Например, мне чудилось, что меня вывернули наизнанку, выпотрошили, тщательно промыли и опять заполнили какой-то чистой, совершенно новой субстанцией. Потом мне приснилось, что я рассекаю улицу в мощном спортивном каре, но не по хайвэю, а прямо по улицам и тротуарам тауна и с наслаждением давлю испуганных пешеходов, не испытывая при этом ни боли, ни страха… В другом сне я разложил приветливую медсестру посреди палаты и делаю ей внутриутробное вливание. Она с удовольствием принимает меня, а собравшиеся вокруг полицейские, бродские, министры, капелланы, политиканы и прочие "апельсины" восторженно нам аплодируют…
Когда я проснулся, то увидел хмурого фазера и безутешно рыдающую мом. Во мне не дрогнула ни одна струна, и я безучастно спросил:
—Ну, как поживает ваш новый сынишка Джо? Надеюсь, радует своих папу с мамой?
— О, Алекс, сынок, — запричитала мом, а отец сказал укоризненно:
— Ну, зачем ты так… Да, у него вышли какие-то неприятности с полицией, сын.
— Да что ты говоришь? Какая жалость! Передайте ему мои искренние соболезнования.
— Вообще-то он не виноват. Он никогда ни во что не вмешивался. Просто стоял на углу и ждал свою подругу. К нему подошли полицейские и приказали двигать отсюда. Он сказал, что он свободный гражданин и вправе стоять, где хочет. Тут они набросились на него и здорово поколотили. Потом засунули в машину и увезли куда-то за город… Когда он добрался до дома, мы его узнали с трудом. Он подался в свои родные места. Так что твоя комната свободна…
— … и вы хотите, чтобы я вернулся и все у нас было по-прежнему?
— Да, санни. Точно так. Ты уж, пожалуйста, не отказывайся. Ладно?
— Хорошо. Я, пожалуй, подумаю над вашим предложением.
— У-У-У..! — опять завыла мом, и я взорвался:
— Заткнись! Очень тебя прошу, а не то я тебе помогу…
И, о чудо! От этой непреднамеренной грубости, братья, мне стало как-то легче. Может быть, пока я спал, мне действительно заменили испорченную кровь? Получалось так: чем я хуже, тем мне лучше. Интересна-а! О чем-то подобном мне толковали мои друзья-интеллектуалы. А может быть, я уже революционер?
— Ты не должен так разговаривать с матерью, — осуждающе проговорил отец. — В конце концов она принесла тебя в этот мир.
— Добавь: в грязный, стинкинг, безжалостный мир, в котором человек человеку — волк. Впрочем, я не просил ее об этой услуге. — Я устало закрыл айзы и примирительно добавил: — Ладно, идите. Я подумаю о том, чтобы вернуться. Только теперь все будет по-другому.
— Да, сын. Будет так, как ты скажешь, — поспешно согласился дад. — Только поскорее поправляйся.
Мать подошла ближе и поцеловала меня в лоб, обдав жаркими слезами.
Когда они, наконец, ушли, я полежал, пытаясь собрать воедино мои растрепанные мысли и ощущения. Определенно со мной происходила какая-то метаморфоза. В палату вошла медсестра, которую я с таким успехом поимел во сне. Она оправила мою постель, и я спросил:
— Сколько я здесь валяюсь, детка?
— Уже почти неделю, малыш, — ответила она, кокетливо стрельнув айзами.
— И что вы тут со мной проделывали?
— Собирали тебя по частям. У тебя множественные переломы, и ты потерял много крови. К тому же сильная контузия. Пришлось делать прямое переливание от нескольких доноров.
— А мозги мне не перелопачивали? У меня какие-то странные ощущения и ассоциации.
— Все, что с тобой делали, делалось исключительно для твоей пользы.
— Недостающих частей не оказалось? — улыбнулся я.
— Нет, у тебя все на месте, — игриво улыбнулась она в ответ.
— Немного оклемаюсь, и мы с тобой это проверим, — пообещал я.
Через пару дней ко мне в палату зашли двое молодых врачей со сладкими приклеенными смайлами. Один из них раскрыл передо мной какую-то детскую бук с картинками и бодро сказал:
— Вот взгляни и скажи нам, что здесь изображено. 0'кей?
— Что это? Тест на кретинизм, други?
Они смешались, потом натянуто рассмеялись.
— Нет, хотим послать тебя в космос.
— Я там уже был, — хмуро буркнул я.
— Вот взгляни. Что это?
Один из них указал пальцем на фотографию птичьего гнезда с яйцами.
— То, что висит у вас между ногами.
— Ну, а если серьезно?
— Гнездо, а в нем яйца, если вы уж так хотите.
— И что бы тебе хотелось с ними сделать?
— Расколотить их вдрызг о вашу башку. Вот была бы потеха!
— Прекрасно, — оживились они и показали мне следующую картинку.
— А это что за гусь?
— Не гусь, а павлин, — поправил я его. — Этому я бы точно повыдергивал все перья, чтобы не задавался.
— Так, хорошо. Так, так, — удовлетворенно квакали они, продолжая показывать разные картинки и проверяя мою реакцию.
От птиц и зверей перешли к людям. Показали несколько свэлловых герл, и я откровенно признался, что хотел бы трахнуть их, не отходя от кассы. Потом сцены избиения хорошо одетых мэнов, и я сказал, что с удовольствием помог бы этим парням пускать кровь этим зажравшимся буржуям. Под конец мне продемонстрировали голого бородатого мужика (кажется, такого же я видел в Библии в конторе тюремного капеллана), который пер здоровый крест на вершину холма.
На вопрос, что бы я сделал, я с раздражением ответил:
— Попросил бы молоток и гвозди. Эти клистирные трубки мне порядком надоели со своим тактаканием, и я спросил в упор:
— Ну, как? Удовлетворены? Все же, что со мной?
— Глубокая гипнопедия, — ругнулся один из них, а второй добавил:— Радуйся, парень, ты абсолютно здоров!
— Здоров?! — взвился я. — И это вы называете здоров, когда на мне живого места нет?
— Э, это мелочи, — успокоили они меня. — Немного отлежишься и встанешь.
И действительно! Мое самочувствие улучшалось не по дням, а по часам. Кормили меня отменно, и через несколько дней я впервые попытался завалить на свою кровать медсестру, но та со смехом отбилась. А еще через несколько дней она сообщила, что сегодня у меня будет очень большая шишка.
— Она у меня и так уже есть, — улыбнулся я, кладя ее руку на одеяло.
— У тебя одно на уме, глупый. Я серьезно. У нас сегодня очень важный посетитель. С утра все стоят на ушах.
— Кого это еще черт принесет? — удивился я.
— Скоро сам увидишь, — уклончиво ответила она, причесывая мой отросший ежик.
И я увидел, други мои и братья!
В два тридцать дня ко мне в палату ввалилась дерганая кодла газетчиков и камерамэнов и прочей Пишущей и снимающей братии. И тут в окружении врачей ко мне под фанфары вошел вальяжный и представительный… Министр!
С ослепительным смайлом шесть-на-девять он протянул вашему бедному рассказчику холеную хэнд с наманикюренными нэйлзами и бодро произнес, глядя в теле- и фотокамеры:
— Хэллоу, бой! Как твое самочувствие?
— А твое, сучий потрох? Давненько не виделись, гной ты вонючий!
Никто из окружающих не расслышал, а если и расслышал, то не понял теплого приветствия "парня из народа своего лидера". А лучезарный "лидер" отвалил от изумления челюсть, но тут же захлопнул ее, чтобы его секундное замешательство, не дай Бог, не попало в газеты. Тут кто-то дружески зашептал мне на ухо:
— Не забывай, с кем разговариваешь, ублюдок.
— Пошел ты… — оскалился я. — В гробу я тебя видел вместе с твоим стинкинг министром.
— Не приставайте к бедному парню, — быстро проговорил Министр. — Он говорит со мной, как с другом. Мы же с тобой друзья, Алекс-бой?
— Угу! Я друг всем, кроме моих врагов.
— А кто твои враги, сынок? — спросил Министр, в то время как репортеры живо застрочили перьями и сунули мне в ноуз диктофоны.
— Все, кто причинял мне боль и страдания.
— Ну, в этом мы сейчас разберемся, — сказал Министр, присаживаясь на край моей кровати. — Мне и моему правительству, членом которого я являюсь, хотелось бы, чтобы ты считал нас своими друзьями. Да, мы — твои друзья, парень. Разве мы не проявляем постоянную заботу о тебе и таких, как ты?
— Ничего себе, заботу! Чтобы черти о тебе так заботились на том свете!
— Разве тебя плохо лечат после того несчастного случая? Ведь это же был несчастный случай? — упрямо наседал он, гипнотизируя меня волчьими глазами.
— Да уж, какое тут счастье, — менее уверенно проговорил я.
— Вот видишь, — подхватил он. — Мы никогда не желали тебе вреда, в отличие от некоторых. Ты, наверное, догадываешься, о ком я говорю. Да, точно. Они хотели использовать твою неопытность и неискушенность для своих политических целей. Эти бессовестные негодяи были бы только рады твоей смерти, поскольку всю вину можно было бы свалить на правительство, отдающее последнюю рубашку на благородное дело воспитания подрастающего поколения.
Я с недоверием покосился на его тысячедолларовый сьют.
— Тебе наверняка знакомо имя Ф. Александера, — продолжал пудрить мне мозги Министр. — Этот гнусный пачкун, беспринципный пасквилянт жаждал твоей крови. Он одержим безумной идеей изрубить тебя на куски, поджарить на медленном огне и Бог знает что еще. Но теперь ты спасен. Мы поместили его в соответствующее заведение.
— Но он относился ко мне по-дружески, ухаживал, как мать за больным ребенком… — уныло проговорил я, чувствуя, что вот тут-то он меня достал.
— Ему стало известно, что в прошлом ты совершил что-то ужасное по отношению к его семье. Вернее, так ему это представили, — быстро поправился Министр, заметив, как я неожиданно побледнел. — Во всяком случае, он вбил себе в голову, что ты ответствен за смерть одного из очень близких ему людей.
— Так ему сказали, — неопределенно проговорил я.
— Так вот, месть переросла у него в манию, в единственную цель в жизни. Пришлось его изолировать для его собственной безопасности… и твоей тоже.
— Очень предусмотрительно с вашей стороны. Он действительно был опасен.
— Когда ты выйдешь отсюда, — с энтузиазмом продолжал Министр, — тебе не о чем будет беспокоиться. Я лично прослежу за тем, чтобы ты получил хорошую работу с приличным жалованьем. Ты нам здорово помог, парень.
— Я — вам? — изумился я.
— Мы всегда помогаем нашим друзьям и сторонникам!
Тут кто-то крикнул: "Улыбка!", и я машинально осклабился. Затрещали камеры, засверкали фотовспышки, запечатлевая этот знаменательный момент.
— Ты отличный парень, Алекс, — одобрительно похлопал меня по плечу этот великий мэн. — А сейчас небольшой гифт от правительства.
Два мордоворота, с которыми я бы предпочел не встречаться без адвоката или на худой конец без моего каттера в кармане, внесли большой блестящий ящик. Это была великолепная стереосистема. Ее поставили возле кровати, распаковали и подключили к сети.
— Ну, что тебе поставить? — спросил незнакомый мэн в очках. В руках у него была целая кипа новеньких блестящих дисков. — Моцарта? Бетховена? Шенберга? Карла Орфа?
— Девятую, хоральную, — завороженно прошептал я.
Зазвучалибожественныеаккорды. Публиканачалапотихоньку рассасываться. Я откинулся на подушки и блаженно закрыл айзы. "Умный, сообразительный парень", — сказал Министр на прощанье и вышел. В палате оставались только двое: мэн в очках и медсестренка. Мэн несмело тронул меня за рукав:
— Распишитесь, пожалуйста, здесь. Я открыл айзы и послушно подписал, даже не взглянув, что это. Да мне это было как-то все равно.
Медсестра одарила меня многообещающей улыбкой и вышла вслед за очкариком. Мы с Людвигом Иваном остались одни.
Его скорбно-торжественная музыка подхватила меня и понесла, как в добрые старые времена. Когда зазвучало скерцо, я увидел себя, бегущего по огромному безбрежному морю, кромсающего своим каттером искаженное гримасой боли лицо мира. Наконец-то я снова был здоров.
Перевод с английского Евгения СИНЕЛЬЩИКОВА
Словник к повести Э. Берджеса "Заводной апельсин"
аизы — глаза
антишамбр — прихожая
баттер — масло
блэнкит — одеяло
брейнз — мозги
брейнуошинг — промывание мозгов
бузом — грудь
бэд — кровать
гатс — кишки
гифт — подарок
гоу хоум — идти домой
пор — дверь
драйвер — водитель
дробэкс — недостатки
дроп — капля
иэрфоунс — наушники
кантри — провинция
капл секондз — пара секунд
кок — половой член
криче — создание
лаудспикер — громкоговоритель
литл бэби — маленький ребенок
мемори — память
нэйлзы — ногти
пуэр бой — бедный парень
референская литерача — справочная литература
ридальня, ридинг холл — читальный зал
свэлловая — аппетитная
сингинг — произв. от "петь"
скин — кожа
скрин — экран
смолл син — маленькая слабость
сонг — песня
сосиджис — сосиски
стартид — начал
стафф — препарат
стомак — желудок
сьют — костюм
тамблер — стакан
торчеры — мучители
фит — ноги
флэт — квартира
фортнайт — две недели
фронтирник — передник
фуд — еда
хауз — дом
хэм — ветчина
шелф — полка
шоппинг — ходить по магазинам
шугер — сахар